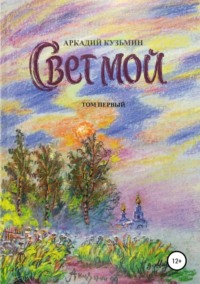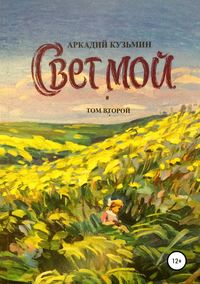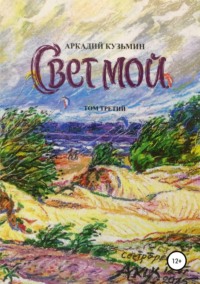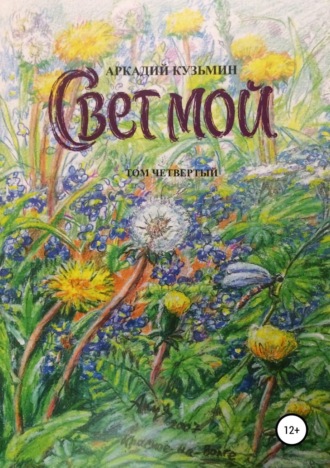 полная версия
полная версияСвет мой. Том 4
Подступились к Антону:
– А Лена где?
– Елена Олеговна и все пошли в село, – пояснил Антон.
Но кто-то из приехавших уже успокоил собравшихся:
– Послушайте: они уже идут! Я позвонил им.
Это были родственники Елены Олеговны, как сразу понял Антон. Ладная собой жена Николая Ивановича – настоящая хозяйка дома – приехала сюда в отпуск вместе со старшей дочерью Галиной, пока безмужней; она прожила здесь, на родине, до своей молодости, а затем во время учебы в Ленинградском институте и познакомилась со своим будущим мужем.
У нее был день рожденья, к ней родственники нагрянули с поздравлением.
Родители и дочери вернулись очень скоро. И те по-быстрому собрали на лужайке большой стол, выставили на него привезенные с собой съестные припасы, в том числе и рябиновую настойку местного производства, угостили ею и Антона, похвалили с радостью его увиденные ими картины, посидели немного за столом, поговорили по душам, не пьянствуя нисколько, и так же скоро после этого уехали.
Это было как мираж на этой колхозной земле, которую народ еще обрабатывал. Худо ли, бедно ли.
Антон спившегося народа здесь не видел.
XVII
Складом своего характера Николай напоминал Антону отца, тоже хорошего творческого фантазера, фантазии которого остановила война.
Он никак не хвастался сделанным; все выходило у него как бы само собой, стоило ему только задумать что-либо, как верующему человеку. Яркий пример тому то, как он сдавал экзамен, введенный только что, на знание управления моторной лодкой, чтобы получить обязательное право на вождение. Предстояло ответить аттестационной комиссии на чуть менее дюжины каверзных вопросов.
Соискателей на получение таких прав явилось в районный центр дюжина лодочных водителей. Не шутка.
Николай почувствовал вдруг, что положение сложнее, чем он думал, и раздумывал как быть ему: сейчас рискнуть и попытаться сдать экзамен или же вернуться на дачу и подготовиться получше для следующего раза? Так он, отвернувшись от входа в инспекцию, стоял и думал по-всякому. Как неожиданно засветился перед его глазами куполок церкви и она вся как-то приблизилась к нему в его глазах. Неожиданно он с надеждой помолился в душе богу, после чего обрел в себе какую-то уверенность, повернулся и вшагнул в дверь, ведшую в инспекцию. Словно кто им руководил.
Из всей партии экзаменующихся только трое их счастливчиков сдали экзамен водный – он немного проплутал в одном вопросе. Но пронесло. Отпала забота об этом.
Уж куда серьезней для него, рыбачившего на Волге в лодке, оказался момент, когда он мог и погибнуть запросто под идущем теплоходом; тот буквально в минуту вывернулся откуда-то, вырос перед ним и стремительно надвигался прямо на него. И уже не осталось мига на то, чтобы включить лодочный мотор. Николай, бросившись в воду, попытался отплыть в сторону от хода громады теплохода, но заведомо не успевал. Так что ясно, все осознавая, приготовился к смерти неминуемой. Спокойно смиряясь. Не молясь в душе. Было уже некогда.
И вдруг мужской голос явственно долетел по воде до него:
– Держи! Лови конец!
Рыболов с другой лодки бросил ему веревку. Прямо к нему. Николай поймал ее накрепко, и его вмиг выдернули сильные руки спасателя.
Чудовище-пароход пробухтел рядом; лодка Николая протерлась, спотыкаясь, о борт его.
Не давай «слабину», – такое было рыбацкое напутствие. Видимо, не напрасно придуманное.
Только тут он, очнувшись, увидал, что спасен неимоверно. Слава Богу! Однако радости большой от этого он как-то не испытывал. Не испытывал потому, что у них, гостеприимных супругов, самым кардинальным образом усугубились их семейные вялотекущие отношения. Причем это последнее лето изобиловало и здесь жарой, доходившей до 40 градусов; оттого, наверное, спекались мозги, отключались от какого-то щадящего людей процесса; сделалось так, как сделалось постепенно, – и непоправимо. Тем более, что двое Чаловых ребят уже выросли, определились в жизни, и подлаживаться супругам под прихоти друг друга, имевшим даже финансовые претензии-нерешенки, было нереально, ни к чему. Поправить прожитые годы невозможно.
И это печалило Антона по-дружески.
В этот последний раз сюда приехала и Люба, мечтавшая прокатиться по Волге на лайнере. Все жаркие августовские дни она спускалась к реке и сиживала, окуналась в воде. Вокруг пахло гарью: горели леса, торфяники. Какая-то сизая хмарь скрывала солнце. И все равно Антон все писал бесконечно.
В прежней Волге, не испорченной позже гидроэлектростанцией, запружившей ее, вследствие чего водный уровень ее здесь, под Костромой, поднялся и она расширилась, подступила к деревенским банькам, изобиловали жерех – толстая крупная сильная рыба, а также распространенная стерлядь, тоже превосходная по вкусу, существенный продукт. Сезонно рыбачившие волжане тогда вылавливали рыбу, что говорится, до отвала, бери – не хочу, ведрами таскали ее от лодок до жилья; все избы в округе пропахли ею, рыбой; рыбаки что только не делали с уловом, какие отвары, вяления, жарения готовили соревновательно уже с самими собой. Как водится, вялили выловленную рыбу в кирпичных тубах – вяленницах, сложенных за дворами, на свежесрубленных ольховых дровах, передававших рыбе свой особый фирменный запах. В этом важном деле каждый хозяин-гурман применял свои навыки и совершенствовал их с каждым разом. Это была особая отрасль домашней кулинарии, гордость искусства сельчан.
Да, рыбная доля была существенной в рационе питания волжан.
А потребление мясной пищи было незначительно, как во всех крестьянских семьях. Растительная пища в достатке восполняла потребность организма в нужных витаминах от свежих плодов.
Теща Николая, Елена Терентьевна, которая любила его, на волжскую рыбу уж смотреть не могла. Только морскую рыбу стала признавать за продукт.
Столь же распространенно укрепилось тут сезонное пирожковарение. Запах пирожков призывно витал в воздухе.
«Воспрянет ли село?» Мучил Антона здесь вопрос нет-нет. Вот ответ: бывший колхозник на лесопилке работает! Но он подумал: провинция вытащит Россию.
Хотя уповать на провинцию в этом качестве никак не следовало нынче. Пример? Упавшее тяжело поднять. Не сразу можно.
Как-то Антон приехал в поле к одному водоему с дачником, хотевшим здесь порыбачить. И только что расположился с этюдником. От желтизны одуванчиков резало глаза, на фоне темно-синей воды и голубого неба картинка была впечатлительной. Для оживления наглядности картины не хватало пестрой черно-белой коровы. Только Антон подумал об этом, он услышал резкие хлопки, что из ружья: это так щелкал кнутом пастух, пасший стадо перемещавшихся коров. Стадо состояло из двухсот примерно коров. Пасли их, как выяснилось, отец и сын, пощелкивая кнутами.
– Большое у вас стадо, – сказал Антон, приветствуя старшего пастуха.
– Раньше огромное было. Около двух тысяч, – ответил тот.
– Ого! Богатое село – выходит.
– Да. Зажиточно жили. Не чета тому, что нынче.
– Понимаю. Если судить о выстроенном тогда роскошном клубе, ныне запустелом, пригодным лишь как площадка для танцев.
– Да, да. Порядок тогда держался.
– И были требования ко всему. Традиционно велось хозяйство.
– Вот и езжай туда, – проинизировала Люба над Антоном; только он собирался сюда. – Там твои заросшие поляны. Никто ничего не делает, никто ничего не сеет, никто ничего не жнет. Вот и будешь обрабатывать землю – тебе это знакомо. Езжай туда!
Однако и сама Люба под влиянием поездок мужа в последнюю поездку присоединилась к нему – больше из-за любопытства женского.
XVIII
Когда Антон и Люба ехали в Кострому, их спутник по купе в вагоне, мужчина зрелый, сдержанный, после того как почитал «Известия», заговорил несдержанно, даже с вызовом, как римский ритор, словно бы оповещая окружающих:
– Вот политологи рассуждают… Все на свете устроено сложней, чем хочется видеть и знать избалованному жизнью простолюдину; он гонит прочь ее сложность, не желая тормознуть там, где необходимо, важно; он не хочет проявить усилия ума, и все упрощает в своем рвении отпочковаться, чтобы побыстрее выделиться, показаться всем. К искусу непознания мироустройства запустили удобную религию и отпуск самим себе грехов. Согрешил – будь добр – покайся; потому и происходят массовые сумасшествия, войны, катастрофы, великие заблуждения.
Но ведь человек ленив, чтобы лечиться самому целенаправленно. Покаялся разок – и вроде бы чист душой. Так мы и бредем себе по свету, как слепые. Сложность развивает, простота же развращает.
Диссонанс – устройство человеческого бытия: грабь и благоденствуй, будь демократом для себя любимого. Это не принесло счастья даже римской империи, как самой благоустроенной. Мы неуправляемы в своем идиотизме, как развлечь себя. Прав был Достоевский. Отказаться от пороков – кому же такое-то по силам?
Немецко-гитлеровские генералы, мнившие себя лучшими стратегами, были не умнее советских генералов в эту мировую войну, но безжалостней к русским, советским жителям, чем к европейцам, примкнувшим к ним, как только они кашу заварили.
– Сейчас мир стал другой, – лишь заметила тихо Люба.
– Не мир стал другим, а мозги у людей спеклись от чрезмерных доктрин правовидцев, о которые они спотыкаются. И не знают, куда идти.
Эй, инопланетяне, или кто там парит над нами, помогите нам выйти на дорогу ясную!
Антон при этом хмыкнул. Ему почему-то вспомнилось, как увлеченно раз в вагоне метро целовались стоявшие в обнимку напротив его сухопутный лейтенант и девушка светлоликая – как бы намеренно для демонстрации перед всеми пассажирами. Девушка стояла голыми ногами на ботинках кавалера (туфли она сняла), чтобы быть повыше. Она потом, покончив с целованием и поглядев лукаво на Антона, соседа, будто говоря ему: «Вам, может быть, это уже и ненужно, а мне-то невтерпеж», надела туфли и присела сразу на только что освободившееся место. Не уступила его и другому стоявшему вблизи старцу. Ровно в кураже, позабыв обо всем на свете.
И поэтому Антон, восхищаясь и удивляясь ей, размышлял о своих исканиях в творчестве.
И вдруг тень зимы 1941 года легла на него: немецкий солдат пытался расстрелять его, безоружного мальца двенадцатилетнего за то, что он русский, на своей земле. Вот почему с тех пор он шарахается, если слышит металлический немецкий язык, и его коробит от придуманного слова толерантность, от которого пахнет нафталином.
Потому ему давно неинтересна Германия. Он индифферентен к ней.
Вот фуги Баха он понимает и с удовольствием слушает его раздумья.
Некто шепнет над тобой:
– Боже, какая была порода! (Это о белой эмиграции из России после революции). И мы – люмпены… – С самоуничижением… – Отчего?
– У-у, какой красавец!.. (про разрисованного артиста-героя). И что ж – возносить его до небес? Благочинно ли это? Пустое!
Жизнь идет не по равнине, на подъем подымаешься сам – соразмерно своим силам – нравственным и физическим.
В музейной табличке в Лувре о Наполеоне указаны его победы, в том числе и взятие Москвы, чем, видно, гордятся французы. Пусть хоть так тешат свои амбиции. Антон был равнодушен к его подвигам и восхвалениям, как и к подвигам Александра Македонского. Почто ходил? Ради посмертной славы? Зачем? Что двигает людьми? Почему отрекся от престола Николай Второй? На что обрекли Россию белые воротнички? Либералы… Такие завихрения смуты? Как воспрепятствовать тому?
Как бы не забыть начала в моей исповеди-истории. Если будет длинно, путано… А если укоротить событие нельзя? Это все равно, что питаться всухомятку, мимоходом, неполноценно (что сейчас и происходит у молодых-студентов). Зачем же тут куда-то бежать, запыхавшись, ничего не обмозговав? Мы и так все шедевры укоротили, упростили, дошли до «Черного квадрата», превратив то в предмет моления, изолгали, осмеяли, поместили в предмет подозрения.
Воистину: есть два мнения. Одно мое, другое – неправильное.
Земля в вечном движении.
Поэтому нет ничего постоянного в жизнеустройстве людей.
Да, в начале этого 21-го века в России (не только в Подмосковье) толстосумы – приверженцы капитализации – озаборили около своих воздвигнутых хором-тюремушек пространства так, что стало нельзя написать натурный нормальный (т.е. беззаборный) пейзаж. Дикий капитализм везде свою лапу накладывает. Купля-продажа выставляет свое пуза напоказ: «Я – герой нынешний!» Мир будет шататься до тех пор, пока доллар будет гулять. Но небеса поддерживают всякого, если он мил-человек и находит себя на каком-то полезном для общества поприще и собирает его крупинки к крупинке и не хвастается тем, каким он стервой был в молодости и даже тем, каких неугомонных женщин имел, кого из них он осчастливил своей любовью.
Куда спешит все человечество? Куда прет вслепую капитализм и гонит туда же народ очумело? Слепота напоказ и в пику другим? Государственный терроризм? Бессильны правительства? И не к кому обратиться за помощью?
Жена превращается в мегеру?
– Что ты сказала?
– Ничего! –нет желания разговаривать с тобой.
Оправдать свое присутствие на земле? Разве это признак тщеславия? Ведь в этом же не есть желание отличиться? Или нет?
Что же такое: избранность судьбы? Сам тому хозяин или то как складывается?
XIX
Сложилось, главное, для Антона то, что он, уже много поживший фантазер неумолимый, не сдающийся, физически, отнюдь, не бутозер, как никто нужен понимающим, ценящим красоту людям. Только бы успеть доделать начатое. Успеть, и все. За него-то никто ничего не доделает, в чем он убеждался не раз.
И в том некогда убеждал его друг Меркулов. Его облик вольнодумца-философа часто возникал перед глазами Антона. Так было и теперь, когда он сидел в купе вагона, возвращаясь в Петербург вместе с Любой и одним бизнесменом.
Да, странное впечатление производил Меркулов, если не знать его. Свое внимание к собеседнику он проявлял лишь до тех пор, покуда его не отвлекало что-нибудь другое, более интересное, возможно. И это происходило довольно скоро, часто. Может, это происходило еще потому, что он, весь, кажется, медлительный и замороженный в движениях, как глубокий древний старик, но цепкий в суждениях, медлительно реагировал на все и в первую минуту смотрел на все будто с испугом, с широко раскрытыми глазами, как бы медлительно осваиваясь; но уж если он посмотрел куда-то в сторону в середине твоего рассказа, он отключался насовсем и напрасно было тут распускать свое красноречие, – он не сразу бы пришел в себя опять. Так, вероятно, тяжело происходило у него переключение какой-то важной мысли. И все это под влиянием того, что он думал в возможной болезни своего злополучного желудка, будто все время прислушиваясь к нему. В последнее время.
Бизнесмен же отчаивался. Он ругал вслух чиновников, мешавших ему благоустраиваться и ругал правительство, не строившего который год магистраль из Москвы в Петербург; это осложняет ему бесконечные поездки туда-сюда, тем более, что частники – не будь промаха – что на железнодорожный, что на авиатранспорт цены вздули с потолка – немыслимые. На порядок выше европейских. А нищета прет из всех нор. Несчастная Россия!
Подсидеть, завидовать – черта недоброжелателей. Объегорить. Прежнего отношения к товарищам и трудолюбию не стало.
Итак, бизнесмен думал о будущем.
А Антон? Он знал, что не бессмысленно жил. Отнюдь. Никого не убил, не подвел. Были лишь мелкие неурядицы семейные.
И кого ему-то винить и в чем-то?
И Антон подумал: «Какой мужественный бизнесмен! Какую ношу тянет! Как толково рассуждает! Я против него букашка, бумажная крыса; но разве я и в молодости, бывало, не служил профессионально со знанием дела? Не бегал вприпрыжку за автобусами, чтобы успеть вовремя на работу. Все это ведь было.
Опять все вернулось вспять. Эта поездка в поезде.
Время словно остановилось, попятилось; заслуга в этом Горбачева, мямли. Дали людям колбасу, отняли веру, смысл жизни. Извратились понятия. Обнажились догола сокровенные чаяния. Деревни вымерли. Новые дачные хозяева озаборили и подступы к Волге, застолбили спуски.
Император – римский Константин за счет признания христиан укрепил империю, дал народу идею укрепительную, а что нынешняя псевдодемократия либеральная дает сверхлиберальным толстосумам – розовую пудру?
Посему у нас до сих пор противоборство новоявленных героев.
Я не сделал резкого шага относительно семьи. Разногласия семейные – пусть. Главное – долг перед ней; шагать по трупам – не мой конек».
Он все понимал и представлял себе как-то иначе, проще, приземленней, ярче. Как в живописи, когда пишешь картину – тут тьма красок, но важен тон, движение вещей, форм, их соотношения, гармония. Он тут един с самовыражением… Не простит, не упрощает, а напротив: в самовыражении и многовосприятии приемлет выражение чувств. Сознание созидания. В единственном ключе. Никак не иначе. Не порабощение работой, а подчинение ее.
ХХ
Студило везде: держалась скверная погода, Антон снова ехал во Ржев и в вагоне скользил глазами по мелкогладким строчкам письма двоюродного брата Жени, сына тети Дуни, с печальной вестью о старшем – Славе. Женя писал: «… В Калинине у него взяли пробы из лимфатических узлов, они уже тогда обозначились как желваки, и отправили его опять на лечение во Ржев – по месту жительства… То есть опухоль не локальная… В отношении операции врачи мне сказали, что она бессмысленна… лишь ускорит исход…»
В купе прорезался спокойный женский голос едущей:
– Мой год рождения – тридцать второй. Жили мы в военных лагерях в Тамбове. До сих пор не разберусь: кубики, ромбики – при каком они офицерском звании носились на одежде. Потом попали на Дальний Восток – опять же военный городок. Раздольное. Здесь закончила первый класс. Отсюда – как началась война – в Сибирь. Местечко – Крутинка. Жили на частной квартире. Отца послали под Владивосток.
В Крутинке училась уже во втором классе. Нашей семье, как и другим в гарнизоне, возили воду в бочках. И вот я, идучи из школы и увидав, что знакомый возница солдат поехал к сопке за водой, подсела на бочку и поехала с ним. Там, на месте, пока солдат наливал бочку, пряталась за поленницей дров. Потом опять подсела к нему за бочку. Пока он наговорился с товарищами – припозднились и приехала домой, когда меня уже заждались. Я вижу: мать стоит с палкой у порога; я не могу спрыгнуть с саней-дровней: шуба моя пристыла к бочке, из которой капало по дороге. Тогда я расстегнула шубу и кинулась в дом, раздетая. Тут уж не до наказания родительского…
Так вот мамин случай в Крутинке же. В сорок втором. Зимой мать шла лесом в деревню, чтобы выменять вещи на хлеб. И ее окружили волки кольцом. Сибирь же! Она стояла, говорила им, волкам: «Ну, что, съесть меня хотите? Но есть-то меня нельзя – и нечего. Посмотрите!..» – распахнула на себе пальтишко. Мол, смотрите – одни кости у меня остались… Волчица повернулась и увела прочь всех волков. Даже хищники, выходит, понимают голос разума, каково людям бывает…
Ну, а в сорок седьмом – пятидесятых годах я уже училась в старших классах. Во Владимире-Волынском. Оторвы, конечно, мы, детки, были; мы, оглаженные, умудрялись всем классом уходить с занятий. Но для нас самым любимым учителем стал молодой, но мудрый историк, которого поначалу мы пытались «прокатить». Ну, с тех пор я сама учительствовала и терпела козни шалых малолеток.
Слава, закончив Ленинградский Политехнический институт, жил неженатым услужливым бессеребренником по духу своему, как исправно работящий талантливый заводской конструктор; он ладил со всеми, кроме кое-кого из начальства, стоявшего над ним, над его душой. Так, главный инженер завода, преуспевший незаслуженно, нет-нет втихаря, присваивал в своих новых разработках и его находки – новинки, пользуясь бесконтрольной властью и ведомственной отдаленностью предприятия от головного. Проверкой же авторских изобретений тогда вообще никто не занимался. И государство ведь не несло ущерб от неустановления истины в таких вопросах. Попробуй – достучись…
Слава, конечно же, испытывал дискомфорт от деляческой атмосферы в рабочем коллективе, и – переживал. Что и могло приблизить его потерю.
Антон, всякий раз, проезжая мимо белого здания Политехнического института, испытывал какое-то трепетное уважение к нему; он помнил, что и его дочь, Даша, – выпускница института и что он, Антон, еще изготовил, как художник, к юбилею Политеха печатный плакат и новогоднюю открытку, для чего здесь зарисовывал здание с разных позиций.
В нашей жизни многое сходится. Встречается, вольно или невольно.
Изба Завидовых противостояла наскоку стужи на северной окраине Ржева, за вокзалом. Покойно брезжил в ней свет дня на геранях в бледных людских ликах, окружавших гроб с покойным. Только Костя Утехин, словно предводительски, как бывший пионервожатый, вшагнув сюда, в светелку, вместе с москвичками (сестрами Славы) и Антоном поздоровался привычно громко, будто обращая всех к потребностям идущей жизни. Все кашляли, простуженные, старались сдержать кашель. Пахло валерьянкой. Осунулся отец Славы Станислав, мастер-деревообработчик, солдатом принявший бой с немцами 22 июня 1941 года в Эстонии. И приехал Юрий, сын Маши (его тоже Славой называла некогда бабушка), – уже вымахавший ростом полнотелый лысеющий мужчина; теперь его впервые видели двоюродные братья и сестры – после-то окончания войны.
От горя качалась, горюнилась, как мать, тетя Дуня; в слезах дрожали две взрослеющий дочери Жени, которых Слава очень любил. Еще летом, накануне этого несчастья, Женя решил расстраиваться, на выделенном ему здесь же, у дома, участке земли стал рыть котлован под фундамент жилья и вдруг наткнулся на останки наших бойцов и железки миномета. Судя по всему здесь бомбой накрыло наш минометный расчет в жаркие военные дни 1942 – 1943 годов. Так печально.
Итак, Кашинская семья теряла уже третьего брата, когда уже мать скончалась – покоится под Москвой. Всех их, как и родителей, видно, бог наделил талантами. Старший – Валерий – певец, хороший шахматист и солдат: сражался на Дальнем Востоке – с Японской Квантунской армией; он на гражданке железнодорожничал и умер на работе – прямо, что говорится, на ходу – на колесах. Также внезапно отказало сердце у неуемного младшего брата. Он, хоть и недоучившийся из-за войны, был от природы изобретателем того, в чем нуждалось домашнее и садовое хозяйства; он конструировал всякие приспособления, из безделушек, облегчавшие труд, плугарил и пас скот, и был трактористом; он водил мотоцикл, автомашину и грозный танк, токарничал на большом предприятии. У Антона же как раз таких способностей не было – навыки на них у него отсутствовали; он поэтому нередко сожалел по этому поводу, что не развивался в таком, может быть, нужном качестве. Нужном в общем-то для страны, если быть ее патриотом.
Антон прекрасно видел, что все это у них получалось потому, что они были людьми от земли, как и другие, окружающие их, с которыми он теперь встречался, приезжая, чаще на поминках, когда и поговорить-то всерьез некогда. И тут, когда его пытливо какой-то сверстник спрашивал: «Антон, а ты узнаешь меня?» – в ответ он лишь стыдливо мотал головой. Он в сорок девятом году оказался в Ленинграде! Совсем отчуждился от своей родины.
– Ты остался один у нас, и мы должны беречь тебя, – сказала Таня, младшая сестра, у которой Антон чаще всего гостил в Подмосковье, на даче. Надо же, как получилось: именно он был ее нянькой в ее детские годы – тогда даже плавать в речке учил…
Главное, находясь среди таких людей, Антон видел, чувствовал, что какая-то великая непостижимая правда была у народа и с народом, служила ему верно. А у самого Антона она была? Какая же? Она признает его?
Непогода между тем жутко неиствовала, ветер сквозил, выл. Пока ждали похоронную автомашину на улице, перед избой, вихрь сильно раскачал осветительный фонарь на столбе; со вспышкой на нем все затрещало, веером посыпались искры, и фонарь погас.
Тут-то Антон мысленно повинился перед забытым им Ржевом, перед своей малой Родиной, которую всегда вспоминал и которая ему частенько снилась: «Прости, друг, меня за то, что я оторвался от основ своих, важных в памяти… Ты мне все напоминаешь…»
Антон своим сестрам, как никому из друзей, никак не рассказывал о своих семейных разногласиях и размолвкой с Любой, держал все в себе, взаперти.
Только вот однажды у него с Максимом Меркуловым состоялся такой непростой задушевный разговор…
Потом скоро все кончили, хотя на открытом кладбище земля промерзла очень глубоко, что не поддавалась копке. И уж мало-помалу все успокоились на поминках в столовой. Константин сразу же увозил Таню, Наташу и Веру в Москву. На своей выручалке – «Волге».
Только оставил Антону сетования на неисправимых пешеходов, что ему запомнилось тоже почему-то.
Костя говорил:
– Аксиома: если выпил – не садись за руль. Теряешь чувство ориентира. Как-то я выехал из-за поворота, а перед машиной перебегает дорогу кошка, а за нею бежит девочка. Ну, крутанул я рулем в сторону – машину занесло, и она врезалась в столб. Девочка котеночка поймала и убежала, а я разбил машину. Тихонько развернулся и поехал домой, чтобы не зафиксировали аварию. Ведь я только что пивка выпил! Сам за ремонт выложил восемьсот рублей. Это – в прошлом году.