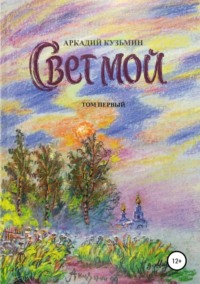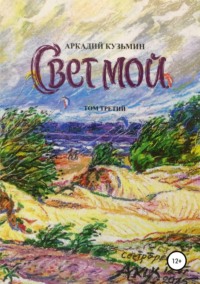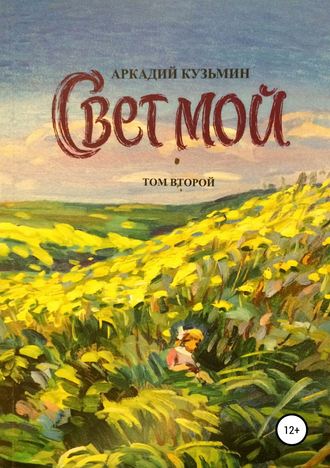 полная версия
полная версияСвет мой. Том 2
Дуня также говорила с одышкой:
– Сюда-то еле дотащились. Шутка ли!… Дух заходится – как тяжело. Невозможно ползти… Сынушка, мой, не плачь. Сейчас приедем, мы приедем, скоро, маленький мой…
И двухгодовалый Славик, Танечка постарше будто понимали исключительные обстоятельства, в которые попали люди: поскуливали реже и потише.
– О-о, вроде поворачивать надумали! – старалась подбодрить Наташа всех. – Здесь малость мы, должно быть, и вздохнем…
– Дуня! Дуняшка! Да бог с тобой, сеструшка…
А Дуняшка зашлась, закашлялась надрывно, собою не владея.
Все повеселели, когда повернули. Да ненадолго. Все обернулось худшим.
Вместо теплых изб выселенцев загнали в стоявший одиноко, всего, может, в четверти километра от развилки дорог, на пологом полуоткрытом откосе, за которым синел лесок, внушительных размеров соломенный навес – сарай на столбах, без стен, но с редко оплетенными, как корзина, до уровня плеч, прутьями; в сарае этом скученно жались еще какие-то группки людей, ожидавших чего-то, и повсюду валялось какое-то тряпье, опорки, рваные галоши, сломанные санки и тому подобное. По всей вероятности, прежде в нем размещался скотный двор, а затем – немецкая конюшня, которую и приспособили позднее немцы под некий пересылочный пункт для изгоняемых. Так и захлопнулась ловушка. И возле нее выставлен был караул.
– Вот так вот! – едва оглядевшись, завозмущалась Поля. – Пожалуйста! Теперь не рыпнешься у них, чертей…Они хотят подчистую вывести русский народ. Вот что на уме у них, иродов. Оборзели они. Ненавидеть мало их. Надо делать что-то, бабоньки, если мы хотим остаться живыми, уберечь детей. Шевелите поживей умом! Давайте думайте… И отваживайтесь…
Сумерничало. Непогода между тем не унималась – опять к ночи запуржило, и сырой сквозняк продувал весь сарай, из конца в конец, гуляя меж столбов, перекладин, прутьев и дырявой соломенной крышей: он раздувал или задувал, два или три небольших костра, разложенных для того, чтобы погреться подле них. Было промозгло-холодно. У несчастных зуб на зуб не попадал. Тем более, что, естественно, взопрели все на гонке, а теперь в озноб попали: все температурили, наверное, обдуваемые нескончаемо завихрявшейся метелью.
Да, ночлег, заставший их, был зловещий. Вокруг все совсем-совсем заволокло, и просвета не было видно. Ни полосочки. Однако, несмотря на настроение, гнетущее, давящее, несмотря на жуткую, несравнимую ни с чем усталость (Анна, например, как на саночки уселась на минутку, так и встать уж не могла, не могла разогнуться снова) – несмотря на это, в непотухшем сознании Анну ясно продолжало беспокоить главное – что застыли маленькие, что раскашлялась Дуняша – нахваталась стужи, что Наташа притомилась очень – ей досталось крепко, что ломили в суставах у Антона и Саши застуженные ноги, что обычно такой крепкий, выносливый, не прошибаемый ничем бутуз, каким был Саша, даже он корчился от боли со слезами на глазах: помимо всего прочего у него еще и разболелись отчего-то бока. А между тем как подсознательно у Анны мысль работала – она искала лучший выход для них всех.
В эту вторую метелившую ночь и Анна еще острей, чем прежде, понимала, что медлить им уже нельзя – нужно очень быстро что-то предпринять, на что-нибудь решиться, для того, чтоб наконец спасти от погибели детей. Полюшка была права. Но как? С чего начать? Если разогнуться-то нет мочи никакой – так бы и застыла… сосулькой… И вот что за болезнь такая к Саше привязалась? Ведь не найдешь ни у кого лекарств каких-нибудь. Каких лекарств?! Мы – здесь, в снегу… Коченеем… Поет нам метель… Бежать! Бежать! Пускай сперва только дети хоть немножко у костра подышат… Отойдут.
– Детушки, разуйтесь и погрейте ноги у огня! Может, полегчает…
Они пробовали просушить чуть валенки, сняв их с ног. От костра сильно искрило. И хотя они зашли с наветренной от костра стороны, чтобы сыпавшиеся веером искры не пожгли у них одежду, но сушили, видно, зря: валенки распаривались лишь – от них густо валил пар и пахло шерстью и прелью, а разутые ноги окончательно замерзли, занемели до бесчувствия. Пришлось опять совать ноги в мокрые валенки.
И Антон, который с ведром все бегал вон из сарая, чтобы набрать снега и растопить на костре, еще пошутил, бодрясь (он не хотел излишне расстраивать мать):
– Ничего, мам, хоть нагретые теперь. Пускай и сырые.
– А как малыши? Заснули на руках?
– Засыпают, слава богу! – тихо отвечала и глазами делала знаки ходившая взад-вперед Наташа, прижав под расстегнутым пальто Таню к телу своему, так же, как и Дуня прижимала Славика и баюкала, и, пытаясь своим телом погреть ее. – Крошки малые… Уснули без питья и без еды! Бедненькие! – Со святой нежностью и любовью носила Наталья, согревая, сестренку на руках и чувствовала ее тепленькое тельце.
Анна с все удивляющимся, несмиренным настроением рассуждала – либо вслух, либо внутри себя:
– Ой, им-то, ангелам, за что? За что гореть в аду? Они, дитятки, разве нагрешили где? Сердце кровью обливается, разрывается на части. – И уже насторожилась по привычке, сложившейся в ней за время оккупации: – Что он, злыдень, хочет от тебя, Наташенька, – прилип, неотлипчивый? Вишь, исподлобья зыркает… Немец, везде этот немец. Цепи их. Куда взгляд ни кинь, куда ни пойди. Как избавиться от них?
– Это воронье, – сказал кто-то рядом, или второй голос в ней. – Все высматривает… Хищник… Ой! Кому что. Кому кровь, мученья, слезы; кому – только наслаждения утробные – застят миру свет. Ох-хо-хо!
– Известно: разный мир… Вон нас стережет клятой надсмотрщик… Господи! Неужто в это время где-то люди смеются, радуются? Неужто у них кусок лезет в горло?
Конвойный, плоскогрудый подкашливавший солдат, дефилировавший снаружи сарая в безразмерный соломенных ботах и не выпускавший почему-то из виду в особенности Наташу, и раз, и другой заговаривал с нею, подойдя вплотную к плетенке:
– Ya! Ya! Est ist kalt. – Да, да! Холодно.
Она демонстративно не отвечала. Отворачивалась от него. Как не замечала просто.
Он снова предлагал ей пойти в избу. С ребенком. Но она отходила, или отступала в глубь сарая, хоронилась за чужие спины – с его глаз долой. Лучше было так.
– Что он, касаточка, привязался-то к тебе? – спросила опять Анна. – Преследует…
– Почем я знаю, мама! Говорит: иди с дитем в избу. Говорит: мол, там тепло.
– Ишь какой, раздобрился! – кинула Поля. – А другим что делать с малыми ребятками?
– Ох, не слушайте его, не слушайте, родимые, – вмешалась в разговор одна близстоящая старушечка. – Не ходите вы туда – ну ни в коем разе, а попрячьтесь от чужого глаза, чтоб потом не каяться. Там германцы ведь отбирают молодых и детей отдельно сортируют; сажают на машины и увозят дальше, к себе, в германскую империю. Даже насилуют девок… – Она сплюнула. – Антихристы!..
– Ну, не зря же немцы сами говорят про себя: дай черту палец, он и руку откусит, – толкнул затем Анну звук плотного Полиного голоса. – Видно по всему, что у них не лучшие намерения относительно всех нас. Только они – мастера! – зубы еще заговаривают нам. Глумятся. Будет еще хуже. Вот увидите.
Похоже, Поля уже митинговала. Вполсилы она ничего не умела делать. Такой у нее был характер. Бойцовский. Не сломленный.
XI
– Неужели? – сказала не то Анна, не то еще кто. Очень глухо. Анна будто задремала сладко, сказочно. В серебряном сверху донизу лесу. Под серебряный вой ветряной в вершинах тучных елок, покачивающихся нехотя. В своих тулупах…
– Конечно! – услышала она в ответ. – Этому предела нет, как и хорошему.
Лес был беспредельный, чистый и безлюдный – даже холодок в душе стоял комком. Но вблизи нее кто-то говорил, она четко слышала (и слушала, притихнув):
– Куда хуже уж! Мы и так кончаемся, по-моему. Скорей бы…
Анна вроде б улыбнулась, несогласная в душе, размагниченная, но все равно тревожилась скопившейся в ней тревогой обоснованной. Главное, за детей своих. Где они? Где?
– Мы-то – люди взрослые, ответственные; сполна отдаем мы себе отчет, какие они, немцы, наглостные, взбалмошные и какие они корыстные нехристи. Ведь бросили все на то, чтобы сломать нас и с корнями выкорчевать, вытравить, как нацию. Потому и говорю: попомните, бабы, будет нам еще хуже. Посудите, не на зимние же квартиры на постой они нас ведут…
И Анна уже вновь поплыла тяжело, качаясь, в полутьме тихо – скорбного шествия толпы, в ее серединке; она нутром чувствовала вздохи, стоны, шарканье ног и самоотверженность передвигавшихся вместе с ней. Она была будто бы уже одна, собой будто жертвовала так ради них – чадушек своих, и вся наполнена вниманием, сосредоточивших целиком на том, что им предстояло пройти впереди – нечто исключительное, непохожее еще на все, что было, либо что она узнала. Но никто не возмущался этим переходом, как она ни удивлялась. Лишь один помятый мужичонка, видимо попавший не туда по недомыслию своему, дважды выразил за ее спиной неудовольствие своим участием в процессии, значение которой он не понимал, а потому и не молчал, как другие:
– Ох, столько дел и радости на земле, а занимаемся черт знает чем! Карусель одна…
Но на него испуганно зашикали все близидущие, пресекли его, и он сразу присмирел со своим крамольным языком. Только присапывал недовольно в шею Анны. Так больше ропота не слышно было. И ни малейшего сопротивления. Вроде это шествовали люди (больше женщины в длинных темных одеждах) вполне добровольно и безропотно. С соблюдением стадного порядка. Отвратительного. Но кому-то он был нужен, очевидно. Потому и был оберегаем уже всеми. Люди навострились превосходно это делать.
Все они как целой слитной массой, огибая обширнейшее выпуклое и совсем голое поле, волоклись послушно во всю ширину и длину мягкой безжизненной голой дороги, освещенной точно при лунном свете поздней осенью, когда края полей и дороги пропадают, расплываясь в неприглядной темноте, так и подволоклись в конце поля к чему-то, замыкавшему их путь, или бывшему на пути у них, через что им надлежало еще пройти, – к чему-то неясно-неотвратимому, насколько каждый из них понимал умом своим и догадывался. И будто бы уже суровые и неподкупные голоса откуда-то предупреждали их заранее, что здесь им надлежит очиститься, очиститься душой, иначе нельзя им жить.
А какая-то сухая и прямая женщина в черном одеянии, вроде бы главная жрица тут, строго, ожигая глазами, встречала их на этом фланге и совала в руки каждому, кто подходил по очереди, по полкаравая душистого хлеба, от запаха которого текли слюнки.
Полкаравая воткнулись также в руки Анны. Она дальше прошла с ним. Увесистым. К краю поля.
А когда она уже приблизилась к неотвратимому для всех и уменьшилось число подошедших впереди нее, она с удивлением увидела перед собой расставленные на отшибе в ряд здоровущие побеленные русские печи с темневшими топками. Что там внутри было, невозможно разглядеть в водянистой полутьме – еще также потому, что этому мешали, заслоняя, сумеречные спины, плечи, головы идущих впереди – податливо колыхавшаяся туда-сюда с потаенными вздохами людская стена. Но вот она, эта живая, все заслонявшая собой стена, стала прорежаться, будто она как-то невидимо растворялась, постепенно таяла. И затем опять на глаза Анны попали, или обозначились очень отчетливо, рельефно, те некие служительницы строгие, непроницаемые, чинно, без излишних слов, отправлявшие здесь весь скорбный ритуал.
Служительницы разбивали по группкам подходивших людей и посылали их во вместительные печи, в которые надо было залезть. С полученными, как святыня-подаяние, священными полкраюшками хлеба. По пятеро человек в каждую. А всего печей с этого края склона, как Анна для чего-то насчитала про себя, стояло восемь. И так – по пятеро – люди подходили и подходили сюда, не мешкая, с готовностью жертвенной; и, прижав к себе хлебушко, скрывались вместе с ним внутри странных печей.
Меркло, меркло все кругом угрюмо, в сыром тумане. И ни день и ни ночь еще. Ни весна и ни осень вроде б. Лишь пятнами белели в поле, выделяясь, эти печи. С черными емистыми в них дырами, поглощавшими всех мучеников.
Анна тоже сблизилась с самой крайней справа печью и отчетливей уж разглядела ее невиданную, поразительную внутренность; не то, что разглядела – был особый интерес, а само собой бросилось в глаза ей. Внутри там, на полу, как будто были наложены с избытком свеженаломанные березовые веники, листочки на которых еще не обвяли, не скрутились, и больше ничего существенного, отличительного, т.е. печь была самая обыкновенная, почти из домашних, в каких еще парились в крестьянских семьях – за неимением бань – взрослые и ребятишки. Только печь размерами побольше. Вдвое примерно. До Анны дошел щемяще волнующий березовый запах. И она вздохнула с жалостью по всем горемыкам, не только к себе. Значит, так вот подошел черед и ее – черед шагнуть в неизвестное. Она подошла сюда одна, без детей, как шла все время, она это точно помнила; она приготовилась сделать то, что предстояло ей, – сделать, не колеблясь ни секунды. Как внезапно, почти из-под ее руки, откуда-то вынырнула молодайка, опередив ее немного, на самую малость; та была с двумя девчушками – одна другой меньше. Анна от удивления замешкалась чуть, пропустила их. Не станет же она отталкивать детей, чтобы в рай попасть. Тут только и остановила Анну, вытянув перед ней шлагбаумом руку, сухая, служительница в черном, бесстрастно сказала:
– Хватит! Уже все места заняты.
– Их же – трое всего, – слабо возразила Анна в недоумении, недовольная зря потерянным временем и напрасной из-за этого тратой больше душевных сил. – Подождать, что ль? Я бы поместилась рядышком, сударыня… Есть где. Посмотрите, пожалуйста…
– Я сказала, кажется, ясно: хватит! – вновь одернула Анну жрица, оскорбленная, должно быть, неуместно сделанным ей замечанием. – Тут без вас мы сами знаем все! Не самовольничать!
И вроде то определенно, верно понимай, а именно: места заняты, распределение окончено, ропщите – не ропщите; просто не досталось Анне уготованное место в печке, только и всего, какой пустяк. Как, скажем, прежде, сколько-то лет назад, ей не каждый раз везло – и не доставался килограмм того же сахара, завозимого в магазины города нерегулярно, с частыми перебоями, хотя она, как положено, и отстаивала за ними подолгу – часами – сумасшедшие длинные змееобразные очереди.
Анна было с досадой удивилась здешним выкрутасам – что они и здесь у людей возводятся в принцип, бытуют также; но она сейчас же обрадовалась, что освободилась так негаданно от чего-то тяжелого, что ее давило, и что снова она выйдет на привольный свет. От сердца тотчас отлегло.
Но вот она опять увидела, как вынырнувшая из-под ее руки и пропущенная почему-то без задержки молодайка вместе со своим выводком, не замедлив шага, вступила в темноватую пропасть печи и смело и решительно легла прямо в пальто и ботинках на мягкую зеленолиствовую подстилку, примяв ее, а рядом с нею, по обе стороны, легли тоже в верхней одежонке девочки, легли, трогательно прижимая к груди драгоценный хлебушек. Лежа, девочки поглощено-весело заговаривали с матерью. Задержавшись вблизи этой печи помимо своей воли, Анна отчетливо видела, что особенно весело щебетала малая – неразумная пташка. Она словно играла в свою детскую игру с теремком, забавлялась: ангельски светилось в призрачном свете ее живое хрупко-нежное личико с золотистыми, точно нарисованными, кудряшками, выбивавшимися из-под старенькой вязаной шапочки с красной кисточкой. Знали ль они, детушки, о том, что ожидало их? Знала ль мать, отдавая их на верную, неоправданную муку? Однако выражение лица лежащей молодайки было значительным, серьезным и спокойным вместе с тем.
Анна вся аж содрогнулась и не сразу отшатнулась прочь.
– Послушайте! Послушайте! – кинулась она назад, левей, к пассивной и какой-то холодно-безразличной ко всему толпе, уже терявшей всякий интерес к происходящему и почти уже утекшей в затемненные углы нелепейшего высокого, как вокзал, барачного строения без двух стен.
Здесь, за ободранным колченогим столом, воткнутым у самого прохода, в грязном, чавкающем под ногами месиве, скрупулезно, по-конторски корпел немолодой пшеничнокудрый человек, обличьем очень схожий с Семеном Голихиным. Воистину: из грязи, да посажен в князи, успела еще подумать Анна. Водрузив как ни в чем не бывало очки на нос и пощелкивая костяшками на облезлых счетах, он подсчитывал, или пересчитывал, конечный цифровой итог чего-то, обозначенного на лежавших стопкой перед ним голубеньких ведомостичках, – или точное число людей, пропущенных туда, за красную черту, или стоимость и прибыль, выявленные этим некоммерческим предприятием, специализирующимся в том, что не поддавалось никакому меркантильному обсчету при любых финансовых соображениях. Не потому, что это было бы противоморально, противоестественно – само собой. Бесценна сама человеческая жизнь. И эта-то мера ценности, или, верней, бесценности, должна, наверное, распространяться также на собратьев наших по Земле – на животных, зверей, птиц и рыб, если мы воистину так человечно любим их, так много говорим о своей всепоглощающей к ним любви; только вся наша любовь пока в бойнях выражается: нет узды у истребителей, сдерживающего начала, бога нет, есть одни хищные наклонности, большой вселюдской идиотизм.
Анна точно прозрела наконец и уяснила для себя весь трагизм совершавшегося на глазах у всех:
– Послушайте, что же это происходит, а?! Нынче, в наш-то образованный век?!
Но, возможно, в ней сейчас проявилось с наибольшей силой как раз то, что однажды предсказывал вполне всерьез, хоть и за стаканом водки, ее брат Николай: что, должно, в них, волжанах, порода такая сидит – скрыта до поры до времени – какая-то энергия действия, способная во всякое мгновение восстать. Она сейчас действительно ощущала ее прилив в себе.
Однако никто не слушал Анну, ее жалостливые вопли. Семен Голихин, или кто это, буркнул что-то раздраженно, дескать, не мешай мне, молодуха; разве ты не видишь, что баланс мой (это нечто поважней) не сходится – все перелопачиваю цифры?! И когда она стала жаловаться:
– И как это люди греха не боятся?! Ведь все сгорят в тех печах!
Первая же подвернувшаяся бабка сказала ей простовато:
– Ну что ж, голубушка, аминь. Не гневайся. Коли нужно всем. Нужно же очиститься от скверны, что вошла в них. С бога спросится.
– Какая ж скверна в них, сударыня?
– Ну, обыкновенная, наверное. Людская.
– А в нас, бабушка, – разве нет ее?!
– Этого не знаю я, голубушка, не знаю ничего.
– Не качай права, гражданочка! – крикнул кто-то Анне по-довоенному. – Что ты привязалась?
– А разве в дитятках она может быть – у таких малюсеньких, глупеньких?! – не могла она остановиться, тискала в руках полкраюшки хлеба. – Вон они какие крохи, посмотрите. Лежат вместе с мамушкой. – Что в других печах происходило, она не видела; и посмотреть – ей было невдомек. – Страх какой, о господи! За что?! С бога спросится?! Ведь совесть же замучает.
– Может быть, и в них, родимая. От матери. Все может быть. Не мучайся.
– Да я-то что?.. Не о себе… Не мученица ведь. А зачем же миру их, детей, мучение? На что?
– Так должно быть, матушка. Исстари заведено. Не мучайся за них. И не ропщи.
Весь тут сказ. Непропекаемо.
Легко сказать: «Не мучайся…» Этим не заслонишься. Для чего же, для чего человеку сердце дадено? Чистая формальность?
Анна с мыслями собралась и хотела пронять, или допечь бабку закоржелую да словно уж услышала – в той ближней, крайней печи – подымавшийся в урчании всамделишний красноватый жар с отсветом и треск наперебой сгораемых в нем листьев подстилки. И, содрогнувшись вся, поникнув, замолчала, бессильная что-либо сказать; и зажала себе даже уши, чтоб не слышать больше ничего. Наблюдать такие душераздирающие сцены было выше ее сил. Она белым кипенем кипела – было так жестоко, а ее мучение не разделял никто в толпе, живущей отталкивающе странной, сутолочной жизнью, каким-то самоублажением. И ей страшно захотелось вырваться отсюда – буквально улететь, а не то что без оглядки убежать… Улететь, как вчера предлагала ей Верочка – по-детски наивно…
Она, как бывает во сне, легонько, плавно вроде взмыла в пространстве, над землей, над людьем; но что-то, видно, не сработало в летательном механизме, и она опустилась вновь к досаде – и очнулась в том же многолюдье, в проклятом, просвистываемом ветром, сарае, где – поблизости нее – дымил, потрескивал остропахнущий костер. Но ей стало легче все-таки. От всего. И, главное, от того, что она вздремнула, сидя. Это был, пожалуй, первый странный сон. С непростым значением. Из всей вселенной ее снов, какие опустились к ней с тех пор, как началось все это бремя непосильное – все неудобства, связанные со спаньем урывками и кое-как, в одеждах, на узлах, в кустах, в прудах, в земле, да еще под вечным страхом за ребят. Теперь сновидения у ней случались много чаще, чем в периоды и ее беременностей, что прежде она замечала – все прежнее даже в сравнение с этим не шло.
XII
– Нет, нельзя так; надо что-то делать, дети, нам, – сказала Анна громко, пробудившись, увидав опять в вечерних сумерках, в красноватых, дрожащих, прыгающих отблесках от костра своих, нахохлившихся под мокрою метелью. Это она себя призывала действовать.
– И услыхала Поля. Обернулась тоже от костра:
– Нам сам бог велел. Погоди-послушай! – она была само действие. Единомышленник. Понимала с полуслова все. И шла наперекор всему. – Давай вначале мы попробуем, я говорила и ребятам, в порознь… Ловчей…
– А потом? Собраться снова, предлагаешь, всем? И я подумала…
– Ну, конечно же! Есть надежда… Меньше к себе привлечем внимание. – И Поля со свойственными ей (и непоколебленными) твердостью и жаром убедительно изложила Анне подходящий, ею придуманный вариант неотложного побега, сводившийся к тому, чтобы выбраться отсюда в два захода. Первой пойдет она с матерью – под видом, что направилась в избу погреться и попытается затем незамечено пройти пост эсэсовцев на той развилке; а вторыми должны выскользнуть – через полчаса примерно, если ей удастся проскочить, – Анна и ее ребята. И тогда они соединяются где-то за деревней.
План такой был принят ими. Причем о губительных последствиях, к чему мог привести побег, если бы его попытка оказалась неудачной, они меж собой не говорили как-то, а в уме держали, где-то тоже думая о том, как бы окончательно не сесть на мель или того хуже. Не без этого.
Изготовившись уйти и улучив момент, Поля цыкнула на свою замешкавшуюся мать-брюзгу, Степаниду Фоминичну, подтолкнула ее, подхватила санки и исчезла из бесстенного сарая. Ушла пытать счастья. На ночь глядя. Ночью было проще…
Только вскоре она назад воротилась, чуть смущенная и запыхавшаяся, но нисколько не обескураженная первой неудачей; вполголоса она сообщила, что кругом немецкое оцепление выставлено и что она напоролась-таки на двух громил – они ее завернули; но она теперь уж разведала в точности, что для того, чтобы пройти заслон, нужно забирать еще правей, в обход перекрестка. Нет худа без добра.
– Я дрожу, как кролик, почему-то, – призналась Анна ей. – Ох, всю голову мне разломило. Ой, что-то с головой… Звенит в ушах… Вот ты говоришь – и это где-то далеко… Даже позабыла, Полюшка, что хотела я тебе еще сказать на прощание. Что-то нужное… Но что же? Ой!
– Не тужи, родная. – Полюшка засматривала ей в глаза, ободряла, как могла. – Главное, уйдем отсель. И через час, поверь, увидимся мы за деревней.
Следуя намеченному плану, Поля опять растворилась с санками и матерью своей в густой вьюжистой непрогляди. И без нее томительней опять время потекло. В бездействии.
Потом взвинченная ожиданьем Анна стала тормошить детей, сестру и невестку – Марью, упросившую ее взять с семьей: нужно стало действовать и им. В душе она не преминула тихо, втайне помолиться. И надеялась немножко на удачу, какую они, кажется, вполне заслуживали. По любым мерилам.
Они все с санками и за санками, как покинули сарай, неслись легко, на одном дыхании, не беспорядочно, не замечая вьюги или тяжести намокших валенок и усталости не чувствуя. Однако было слишком много их – пятнадцать человек… Заметно все-таки… И вот в то самое мгновенье, как Анне уже показалось, что опасная для них зона уже осталась позади, вдруг недопустимо близко из ночной сини раздалось издевательски знакомое, их осадившее:
– Halt! Halt! Zuruсk!
На них наскочил, ровно шальной буйвол, чуть ли не сбивая с ног, громоздкий немец с автоматом и в пилотке теплой с шерстяными наушниками и, толкая назад оружием, мрачно-угрожающе и сипло (издрогши) рявкнул:
– Zuruсk!Schnell! Kaput!
– Камрад, пожалейте; у нас kinder klein и krank, kamrad, – обеспокоенно запричитала было Дуня. – Пожалейте.
Но он напер, нажал:
– Zuruсk! Spasen, aber nicht uber die masen. – Шутить можно, но не чрезмерно.
И все, повинуясь, развернулись вмиг и задали деру поскорей. Не разжалобишь, не поперечишь. Все пропало. Было до слез жалко себя и обидно. Поля все же, знать, сумела прошмыгнуть заслон и ждала их где-то; а вот их схватил эсэсовский патруль, взад спроваживал.