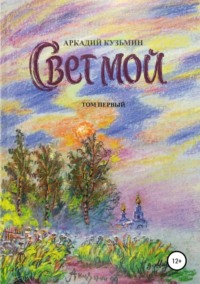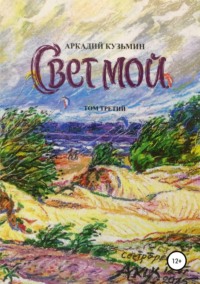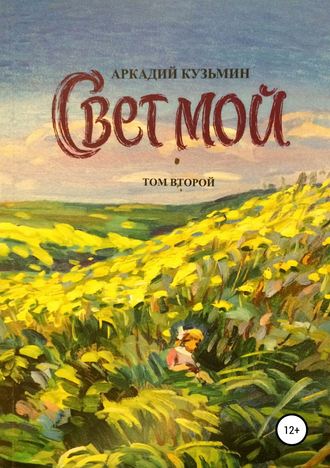 полная версия
полная версияСвет мой. Том 2
Комок подкатывался к ее горлу, и она вздыхала про себя.
Но и слышала она, с закрытыми глазами слышала горячий ветер, перекатывавший нагретые комочки распаханной и разделанной земли меж слабеньких стволов поднимавшейся рассады, и видела пронзительно синий блеск под солнцем осколка бутылочного стекла, затерянного в поле.
«Бум-бум-бум», – заколотили молотками в голову заспорившие голоса, едва Анна забылась и уже расплылись в глазах мшистые бревенчатые стены, о которые ломилась пурга с воем. «Ну, опять не поделили чего-то меж собой люди бестолковые, суетливые, – с неприязнью подумалось ей, – делят, когда и делить-то ровным счетом нечего и некогда. Одуматься все никак не могут… Шикнуть, что ли? Гусики мои калачиком свернулись, спят!» Она от оцепенения встряхнулась. Разгибаясь, лицом проехала по ржавым обоям с серебряным рисунком, блеснувшим в свете горевших еще плошек, и узнала Дуню, стоявшую над нею на коленях, свесясь, – измученную тоже. Дуня кашляла. Но она запротестовала энергично, едва Анна хотела подняться и уступить ей место.
VII
Было ж вот что. Разоблачившийся Силин, полнотелый, сытый, нахохлившись, сидел на грубо сколоченных нарах, в середине их, на лучшем местечке, то ли уступленном ему, то ли захваченном им по привычке властвовать, и отбивался от наседавших на него баб, дружно поднявшихся против него.
Силин снова приземлился, точно наездник, сброшенный наземь норовистой лошадью, как он ни пытался оседлать ее. Немцам он, видно, больше не нужен был. Они взяли от него все, что могли – и выкинули его, уравняли со всеми; теперь он был такой же смертный, как все, и зависимый от немцев же, он, который так усердно им служил. Но он еще надеялся выбраться отсюда, из мешка, было видно по нему. Он только что, ворочая челюстями (пережевывал кусок мяса), зло выговаривал своей жене, забитой, чахлой, точно щепка, Зое Матвеевне. Она с двумя детьми – двенадцатилетней Глашей и четырнадцатилетним Гришей, заикой, была, как бы напрочь отгорожена от всех вселюдской ненавистью к главе семьи, а от него также отгорожена собственной ненавистью к нему. Странно-таки, она была особой. Еще когда-то раньше она хвастала, что не могла определить, когда муж выпивал; когда он выпивал, то начинал чихать вдруг, и так она определяла по этому признаку, что он выпил водки. Зато попросту не могла узнать, кто пьян, а кто не пьян. И смертельно боялась всех мужиков: это какая-то слепая, неукротимая стихия… Однако все бабы сейчас, испытывая к ней и ее детям неподдельную жалость, заступились за нее.
– Что, головушка болит, что за нее теперь держишься, как Наполеон? – поддала Силину светловолосая скотница Матрена Монахова, та, что осенью 44-го отсидела три дня запертой в холодном амбаре. – Бог тебя наказывает. За все прегрешения. Поделом тебе!
– А ну-ка! Собирай свое шмутье – и топай подальше, старая, – рыкнул тот на нее. – Как хряпну!..
– Ну, так! Еще рычит. Ну! И крыть-то нечем… – говорила Монахова, пятясь от него по нарам – с одежонкой. – Нам тесно жить на одной земле. Ой, не береди ты, души, издеватель. Уж у нее, голубки, то ли характер, то ли характер, и то говорит: ненавижу его, мытарника, – говорила она, обращаясь к другим.
И Силин поморщился, больше раздражаясь тем, что теперь уж и в мыслях своих он не мог отделаться от нелюбимых теней-призраков, какими стали для него собственная жена и дети, с которыми он жил, очень важный, очень деятельный, осознавший только свою правоту и признающий только свои принципы.
Так, по существу, он не любил жену, какое-то бестелесно-вздрагивающее существо, и не питал с самого начала отцовских чувств ни к ненормальному (вследствие простуды головы и еще чего-то, передавшегося по наследству) сыну с отпяченной нижней губой, ни к крайне болезненной дочери, будто ожидающей от него удара чем-нибудь – может потому, как воспитывал он в них выносливость и преданность к нему не одним ругательством и грозным окриком, но и частым рукоприкладством. Иного отношения к себе в своей семье он никак не допускал.
Однако же сейчас его сильней тяготило, главное, то обстоятельство, что вследствие выселения и его семьи наравне с однодеревенцами, без поблажки, теперешняя его уязвимость диктовала ему соображение: находясь среди них, приспосабливаться к ним, быть, как все. В изменившихся условиях он старался в особенности уже не брыкаться и быть несравненно миролюбивее с людьми. И тут еще в башке тюкало недоумение: был столь неожидан поворот к нему «освободителей».
Анна, верно, третьего дня уловила начавшуюся в Силине эту перемену и его неловкое отныне желание действовать потише, незаметней, вроде доверительней.
И вот он сам, не выдержав своей новой роли, сорвался.
– Дай ты дай насытиться ему спокойно, – обронил кто-то из угла, только отодвинулась Матрена от него, как от зачумленного. – В поте поработал ведь…
А Матрена еще подлила масла в огонь, пустив с издевочкой:
– Ишь заступница хорошая! Небось, не захлебнется. Ой, господи, боже мой!
Тогда исподлобья Силин оглядел роптавших, выжидавших, что же будет:
– Я сказал – и точка! Кончено! Ваших бабьих разговоров я не потерплю!
Но был результат обратный. Поднялась и Поля, та, которую он однажды было чуть не застрелил (ее отстояли бабы, умолив его):
– Так ведь баба тебе говорит. Русская и терпеливая. Что ж ты гневаешься зря?
– Ну и замолчите, всем я говорю! Не брехайте попусту.
– О, на чужой роток нечего накидывать платок, – возвысился Полин голос. – Ты лучше-ка вспомни, скольким людям рот заткнул. Ну, а дальше-то что будет – ты подумал?
– Да, дождешься еще ты у меня… свободы… Себе напророчествуешь…
– У него, видать, как у торгаша, не бывает сдачи, – проговорила Анна. – Поля, ты отстань. Избеги греха, пожалуйста.
И Семен Голихин было выступил, урезонивая всех, тонким и резким женским голосом, с присказкой:
– Тихо! Не шумите, бабы! Будет вам! Что нам надо? Только утром ись, в обед ись, – и тогда все будет хорошо. – Ему хотелось выслужиться перед кем-нибудь, кто был сильный.
Но народ уже нехорошо завелся и шумел:
– Дорвался бес до мыла – это называется.
– Культурно, дюже вежливо.
– Нет, я душно хочу всего недозволенного. И все ворочу нахрапом. Спасу нет.
– Не сосчитать, верно, скольких фронтовиков уже скосило, а он, крутоплечий бугай, нами помыкал.
– Господь леса не сравнял.
– Надо же не зарываться.
– Да, война для кого несчастье принесла, а для кого и счастье, что, они как грибы полезли, стали засорять жизнь. Что говорить!
Толпа судила шеф-полицая, сцепившись с ним в открытую, и Поля тоже резала ему:
– Ты, голубчик, знай одно, что наши сердца отходчивы, но не забывчивы. Против народа ты пошел. Заневолил свою-то жену и детей. И за это погубительство ответишь сполна. По закону.
Наклонился Голихин к кому-то и слышно проговорил в испуге:
– Вот дает Полагея! Смерти своей захотела, знать.
Людей, предводительствуемых ею, было прямо тучи, и тучи эти будто колыхнулись ближе к Силину. Повеяло пугающей свежестью. И тогда он нервно вытащил из кармана брюк черный пистолет и, положив его на край нар, на виду у всех приостановил движение к нему женщин и их глухой ропот.
VIII
Опять вблизи глаз Анны блеснул нереальный серебряный узор, летя, зовя в неведомое будто; она забывалась, уже не слыша ничего: ни ропота, ни храпа, ни сопенья и ни стенанья или всхлипа во сне пугающихся чего-то детей и также взрослых. И снилась Анне потусторонняя стародавняя белиберда: корова Машка салфетку зеленую сжевала, а разлохмаченный Василий домкратом дом вывешивал на фундаменте; Анна сама стояла у топившейся печи и не верила, что можно такой маленькой штуковинкой поднять дом-махину. Суровел он: человек-то нынче и меньшей штуковинкой разметывает для чего-то все вокруг. Она слышала чьи-то веселые споры-пререканья: «Ты, слон, муху гонявши, мне нос отдавишь или натворишь что-нибудь еще, как услужливый медведь.» – «Эва, что ж я ненормальный – не вижу, где торчит твой нос?! Чай, не сворочу его…» А на лавочке в кухне рядком воссиживали мирно те две молоденькие военные парашютистки, которых немцы расстреляли прошлым летом, – воссиживали невредимые, счастливые дети… Анна даже улыбнулась ладно во сне оттого, что такое было, или снилось ей, – все хорошее для нее, ее семьи и окружающих людей, и что подумалось ей вновь поэтому (и убедительно) – напротив, было все происходящее, тревожное, кошмарным сном, и только. Следует лишь проснуться от него.
Она так мало видела хорошее в жизни. Очень захотелось ей попробовать того, что называется, на ощупь… Каково ж оно?
Антон мигом вспомнил все, что происходило с ними, окончательно проснувшись – скорей из-за невозможности уже доспать недоспанное в сидячем положении (и бесперебойно молоточками стучало в голове – кажется, впервые). Табор и был табором со всеми неудобствами ночлега. В избе стало еще более сперто-душно, густо пахло потом; во сне кто-то постанывал, кто-то, пугаясь, вскрикивал либо кого-то звал на помощь.
Плошки уже не горели – воск выгорел. И, вслепую ориентируясь, как-то находя для ног свободные незанятые участки пола и все-таки всполошив одну девушку и двух или трех бабок, Антон поскорее выбрался на улицу.
Еще не синел рассвет. А погода несколько поутихла. И вроде б пахло оттепелью – было мягче, чем вчера.
– Это кто тут полуночничает – шляется? – С рыком справилась спросонья выползавшая почти следом за Антоном фигура узурпатора. – Скажи! – и мочиться стала прямо же с крыльца в пять ступенек.
– Это вышел я… – сказал Антон, узнав точно по голосу Силина.
– Полно якать – кто такой? Отвечай! Тебя спрашивают…
– Я – Антон Кашин. Вот кто.
– Кашин?.. Ну, не знаю я такого. А чего не спишь, как все?
– Не хочу – не сплю, – отвечал Антон с некоторым вызовом – по-взрослому. – Нельзя?
– Ну, тебя, дурак, никто и не неволит, если сам не хочешь… – Сколько же? Часа четыре будет, а?
Антон отвернулся от предателя, молчал. Что будет?
– Ты не вздумай дернуть, хоть и Кашин… Скоро дальше тронемся.
– Что бояться: некуда бежать!
– А ты не совсем дурак, стервец. Пошел, шкет, в избу! Ну, что говорю!
– Только тоже отолью. Сейчас приду.
Силин отхаркнулся, сплюнул и резко выругался. И ушел обратно в избу один, скрипя промороженным половицами ветхого крыльца.
Прежде этого бы просто не было, и точка. Разве б он позволил кому разговаривать с собой столь вызывающе – непочтительно, тем более – какому-то мальчишке?
Нет, определенно, что-то уже изменилось к лучшему.
Предрассветной ранью выселенцы, жуя наспех, в суете великой, вывалились снова за порог избы, давшей им ночной приют, выгнанные заведено исполнительными конвоирами, и подались прямиком к большаку. Брошенные без присмотра накануне около него пожитки за ночь замело изрядно, и пришлось с усилием руками разгребать снег, освобождая их и вытаскивая примерзшие и обледенелые санки. Большак наполовину тоже замело по-новому.
Все зевали, невыспавшиеся; похрипели-почужели голоса, словно отсырели.
Колонна по дороге растянулась длинно, длинней чем накануне, поскольку в нее еще подключили и других выселенных, ночевавших в этой же небольшой деревне Клинцы.
Не распогоживалось. С утра же все также неустанно дуло, мело, метелило, наполняя поднебесный мир вчерашними знакомо провывшими все звуками. Перекидывало опять много чистого белого с синью снега. Слепило глаза – от него, от появлявшегося солнца, которое по временам выскакивало в желтоватых облачных просветах и необычно ярко и косо светило и грело в заскорузло-обветренные, точно покрывшиеся коркой, лица. И все оживленней становилось на большой дороге, изъезженной полосатыми (как какая клоунада) и округлыми неприятельскими вездеходами, автомашинами и мотоциклетками, а потому утрамбованной, приглаженной их колесами и шинами. Зато к полудню, когда заметно отпустил мороз, хотя и мело по-прежнему, как-то незаметно-быстро помягчели на ней накат и наледь и, местами потемнев, стал быстрее плавиться снег, до того, что кой-где дорога даже обнажилась до мокрой черноты.
Люди брели в хаотическом порядке, усталые, сонливые, голодные; они не поели ничего толком и вчера, и поэтому не могли расторопней двигаться вперед, в постепенно намокавших и грузневших валенках, да еще тащить и толкать потяжелевшие тоже санки, у кого такие были. Все-таки все вымотали от этой продолжительной и скверной ходьбы. Еще с маленькими на руках.
А в особенности сейчас это сказывалось на пожилых и малых, еще одетых в большую – с плеча взрослых – одежду и обутые в большеразмерные – с ноги взрослых – валенки. Так, Антон и Саша делали неимоверные усилия для того, чтобы не отстать от своих и волочь санки с узлами и живым грузом, а бескалошные валенки у них все тяжелели, набухая влагой. Было худо. По-больному подкашливала Дуня. И Анне с разламывавшейся головой и немевшим телом все невыносимей доставались километры. Она сама себя подбодряла, чтобы как-то выправиться: «Анна, не хандри, не притворяйся, ведь тебе нужно выкарабкаться. Ты все-таки не одна». И Наташа, боявшаяся потерять ее, оглядывалась часто на нее, следя за ее состоянием.
Однако Анну еще подстегивал страх за сыновей: у них обоих уже начали мучительно ломить промоченные и застуженные ноги. И хотя они по молодечески крепились, как могли, на глазах у них выступили слезы от боли и напряжения; и они все чаще на спусках присаживались на задок санок, чтобы хоть чуточку передохнуть, когда санки под уклон катились еще сами.
А Таня и Славик опять принимались хныкать и жаловаться, что болят у них снова ножки и ручки.
IX
Не было ни одного привала. И – вследствие этого – ни крошки во рту. Усиливавшаяся жажда мучила людей, и они, чтобы утолить ее, нагибаясь во время перемещения, так же, как и вчера, в пригоршни хватали с дороги затоптанный снег и его глотали жадно, – так держались.
Передвижение еще замедлилось, как ни понукали всех свирепевшие гонители.
С санок, которые волокла за собою Поля, тоже слышались стенающие звуки старческого причитанья: причитала Степанида Фоминична, уже залезшая на них. В минуту, только ход застопорился, Анна явственно расслышала мотив стенания и слова:
– Ох-хо-хо! Ох-хо-хо, родимые! Видать, смертушки моей пробил час… Кончинушка пришла, мои родимые… Ой-ой-ой!
И Анна еще вплоть к ним, к Поле подошла, задышала слабо ей в лицо:
– Слышишь, что она у тебя совсем занемогла?
– Пустомельничает! – виновато, со смущением, сказала взмученная Поля, справляясь с колотившимся сердцем и поправляя выбившиеся локоны из-под серой шали жесткие, посеребренные заметней, чем прежде, волосы. – Она хуже малой у меня! Не сладишь с ней. Вишь, как расскулилась, когда я посетовала, что уж впору заживо лечь в могилу; видишь ли, говорит, что, чур, ее первую тогда похоронить. Ее первую… И не смей, стало быть, при ней пожаловаться на свое-то нездоровье…
– Фоминична, шутишь, что ли? – задетая, обратилась Анна уже к ней, сидящей. – Ну, стонать-то перестань. Тошно Полюшке и так – столько нас тут… Она – не железная, верно…
– Знаю, знаю, Анна, я, когда смерть тебя прижмет, – ты тоже по-иному запоешь, – шамкнув, по-худому брызнула словами та, гном скукоженный, – как-то обвинительно за что-то; задрожали у ней губы, подбородок гнома и глаза сверкнули небывало. – Ты не зарекайся, Анна. Все под богом ходим. Он-то видит все-е! Молодыми все бывают, а вот старыми не все, не все. Ох! Ох!
Анна, хоть и не до этого сейчас ей было, видела: Степанида не могла, конечно, даже и сейчас, в эти-то тяжелые минуты, простить ей Василия, нелюбимого неродного сына своего. Она как-то чудно даже язвила тогда, когда Анну с семейством оставили немцы без избы: «Видно, это бог разгневался сильно – наказал тебя, лишил теплого угла своего». Страсть, какая костривая бабка. С нескончаемыми жалами.
– Анна, отойди-ка от нее, – попросила Поля со смущением и гневом вместе. – Ведь у ней опять начнется антимония по-старому. Лепит, благо язык без костей и нет ума…
– Она пнем сидит, молчит, молчит, ну, а если скажет что, – тогда хоть святых всех выноси. Не поймешь, с чего ее заносит…
– Ты не говори. Охотно тебе верю. – Поля с твердостью наклонила голову, веревку натянула. – Пошли! Орут…
Погоняльщиков будто прорвало. Они все упрямей, озлобленней подгоняли русских. Дело шло к какой-то развязке.
– Матка, Schnell! – сказал Анне лично приостановившийся над ней, согбенной, солдат, который выстрелил в нее вчера, когда она метнулась за упущенным мужниным письмом, – сказал волевым молодым голосом, теряющим терпение. – Ferstein?
Она глянула на него – и ее буквально пронзили его неживые, льдистые глаза. На этом осклиженном льдистом большаке, на котором-то и так спотыкаешься, тащась с усилием куда-то в неизвестное. Глаза солдата подхлестнули, всю ее переворотив – сильней всяких его выстрелов; они очень убедительно сказали ей про то, что теперь никоим образом нельзя допустить такое, чтобы была дотла разрушена их прежняя жизнь и все, что она несла им с собой, и чтоб началась какая-то другая жизнь – нелепая жизнь – поражение.
Все дальнейшее в ее воспаленном воображении уже виделось как сплошной поток мытарств, в котором все они, выселенцы, чрезмерно борясь с течением, барахтались зря. Уж не было никаких иллюзий относительно конечного исхода выселения. Стало быть, сейчас следует противиться, используя для этого хоть малейший шанс; нужно непременно улизнуть куда-нибудь, улизнуть, покамест конвоиры еще не следили тщательно за каждым, не очухались, не озверели до крайности.
Поля, всегда отличавшаяся трезвостью своих суждений, сметливостью и решительностью, поделилась с Анной также тем соображением. И она примечала все. Она тоже углядела, как пытался Силин дважды или трижды остановить немецкие автомашины и, манипулируя какой-то бумажкой, о чем-то просил немцев, но они ему, видать, отказывали в его просьбе. Но позднее, когда она, Поля, спохватилась, его с семьей уже не было в колонне. Значит, где-то он удрал. Незамеченный. И Авдотьин тоже. С женой. Значит, что-то есть во всем этом такое, от чего необходимо избавиться скорей, пока не поздно. Это лучше, что соглядатай удрал. Развязались руки малость…
– То-то утречком я услышала, он еще хорохорился сомнительно.
– Метался?
– Да. Как трепло худое. А кишка, знать тонка.
– Памятливый… И запомнил плохо тем, кому гадость причинил.
– Он опять грозился пистолетом. На крайний случай. Тряс им: а вот это у меня на что? То ли у него немецкий, то ли отобранный у пленных красноармейцев – не могу сказать.
– Что он с одним пистолетом сделает? Собачья блажь!
– Нет, он в таком смысле говорил, чтобы, мол, пустить себе пулю, если что…
– Ах, вот как! Вон какая силища их перла, да и та обломалась, видно.
Большак петлял. Вдоль него, возле расставленных снегозадерживающих дощатых щитков, сохранившихся от довоенного еще времени, нанесло целые сугробы. Во время гонки кто-нибудь из идущих периодически заскакивал туда, в снеговые излучины, по нужде…
Антону тоже приспичило сбегать туда. Он поскорее направился вперед, учитывая скорость движения колонны, и зашел в межсугробье. Из этого он попутно заключил, что вообще-то в одиночку, без вещей (усыпив тем самым бдительность конвоиров), можно запросто исчезнуть из колонны; но ведь важно сразу всем исчезнуть, чтоб не потеряться никому. Как же испариться нам от немцев наилучшим образом?
Занятый таким соображением, Антон поскорее возвращался заносом, вдоль щитков, составленных шалашиком – наклонно, уголки на уголки, когда внезапно натолкнулся на обснеженно-недвижное тело девушки в лиловом пальто. Открытые, застекленевшие глаза и покойно-строгое суженное лицо лежащей своим сожалеющим выражением словно пристыдило его в чем-то, в том, может быть, что жил он, занимался интересами пустыми, – он то увидел, хоть и мельком, потрясенный, впечатлительный.
Антон впечатлительностью походил на мать, у которой был еще врожденный такт, природное чутье, и ее сейчас, по возвращении его к санкам, ничуть не обманул возбужденно-лихорадочный блеск его опущенных глаз, его невнятное бормотанье в ответ на ее вопрос, хотя она не стремилась более расспрашивать его о том, что случилось с ним, чтобы не расстроить его еще больше, она видела.
Еще долго волоклись сельчане по большаку и растягивались, и подтягивались, как спохватывались; в их сощуренных слезящихся глазах качались и качались спины, тени от идущих впереди, от газующих автомашин, от деревьев, от сугробов, от следов, и уходило солнце низкое, холодное, словно оно таяло в полыньях чистых серых туч. И Анна еще не раз, переглядывая, пересчитывала про себя всех своих, с кем шла – ползла.
А Наташа, Дуня и Поля приглядывали во время хода за ней, очень плохонькой.
Наташа помнила охвативший ее, юную, страх за мать тогда, в апреле – времени повального ими перебаливания в лежку тифа, когда мать уже не готовилась выздоравливать – у ней не осталось сил, чтоб сопротивляться болезни… Как только она вспоминала о том, так у нее сразу же мурашки по коже бежали…
Прежние страхи, переживания давали знать о себе. И теперь Наташа побаивалась одного – что мать просто не выдюжит от этого непосильного бремени – похода, потому и поглядывала, приглядывая, за матерью, как-то переменяя положение нарезанный веревкой рук, – поглядывала чаще на нее. Особенно после того как на нее прицыкнул докучливый фашист.
X
Ближе к вечеру снова насунулось и потемнело: распогодилось, обильный снег посыпался сверху. Все забеспокоились отчаянней: что-то нынче будет с ними? Да неужто повторится все вчерашнее?!
Однако снование немецких автомашин в обоих направлениях не уменьшилось, а как будто даже возросло, нервозней стало, что тоже беспокоило; по верхам их тоже гулял, завихряясь белой пеленою, снег, ветром раздуваемый.
Впереди, между тем расплылись очертания седой деревни. И когда придвинулись к ней ближе, строй вконец сломался: передние внезапно бросились к обледенелому колодцу, а за ними – остальные. Бабы, дети, старики – все падали, скользя, спотыкаясь и ползя, и отталкивали друг друга, и кричали так обезумело:
– Пить! Дайте же попить! Дайте же воды! Воды!
Только немцы-конвоиры и солдаты, оказавшиеся здесь, по каким-то своим соображения не подпускали никого к колодцу – и отпихивали всех прикладами от него. В сутолоке они застрелили женщину какую-то. Упала та на желтоватый лед бугристый. Кто-то зарыдал. И тут осаждавшие колодец поотхлынули назад, затихли; строй собрался в лихорадке, двинулся и загудел опять, ропща: да доколе ж это будет так? Куда ж гонят нелюди? Что им нужно? Снова человека застрелили. Бога не боятся, хотя верующими себя мнят. Божатся, что голуби они.
Поля вся бурлила от негодования.
Анна тоже все-таки, хоть и маловероятною была надежда на ночлег и отдых, ни за что не верила в возможное, что это было теперь именно с ними и что кому-то было очень нужно для чего-то гнать и гнать безостановочно жителей, выдохшихся, загнанных. Какой такой резон? Зачем? Немецкие солдаты сами уже разуверены в своем могуществе, в победе – и не победить в этой войне, что бы они ни делали и ни делают еще. Так что ж? Или, может, так срабатывает по инерции механизм их действий подобно тому, как разбежавшийся за мячом в игре футболист по инерции выбегает за пределы очерченного поля и все-таки с запозданием заносит ногу и страшно бьет по мячу, прекрасно понимая, что поздно бьет?
Но Анна еще не знала (как и не знал никто из них), что до самого даже смертельного часа фашистской Германии палачи-нацисты еще не умертвили в адских лагерях смерти те двенадцать миллионов человек, включая маленьких детей, не сняли всех золотых коронок с их зубов, не срезали волосы и кожу, не сварили мыло, не рассортировали по полкам их обувь, их детские горшочки и еще не озолотили тем Германию. Чудовищный заведенный конвейер этот крутился вовсю, безостановочно крутились его колеса – передачи, и туда-то нацисты гнали-перегоняли всех выселенцев, в том числе и Анну с детьми – с последующей доставкой по железной дороге.
Дальше – знак плохой – закрутило совсем по-вчерашнему; опять ветер, продувая встреч и сыпля в лицо вязко валившимся снегом, мешал продвижению вперед, куда гнали, и изматывал сильней.
Анна уже насилушки брела, беспрестанно подвихаясь на лепешках, навалявшихся на наледи; она взмаливаясь, не таясь, опоминаясь: «Господи, да будет ли когда всему этому конец?! Хоть какой-нибудь. Уж все равно какой… Когда ж?» Но, как она ни отчаивалась за детей своих, она замечала между прочим: словно ей и впрямь становилось легче оттого, что она сама себя так занимала обессмысленным разговариваньем сама с собой. Либо с Верочкой. Либо с кем-нибудь еще. Это вроде б помогало ей.
– Ба, вы поглядите: точно у хозяек печки топятся – жилье! – с тоскливой жалостью и завистью бездомной проговорила Анна, когда приманчиво вновь возникли вблизи слева же, словно бы на некоем взгорье, избы деревенские с различимо напластованными снегом крышами и обвислые седые же деревья, а над ними толклись и сбивались кудельки прогорклого домашнего дыма, что и свидетельствовало о наличии здесь жителей. – Только не пойму я, детки, и не видно мне, где оно находится – в стороне от нас, небось? Неужели нас опять прогонят мимо? Судя по всему… по их повадкам… – У нее внезапно подвихнулись ноги. Ужаснулась она этому отчаянно.