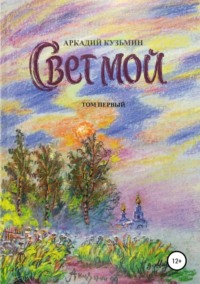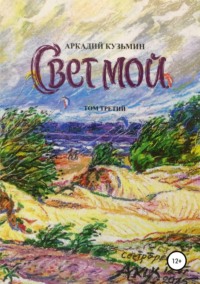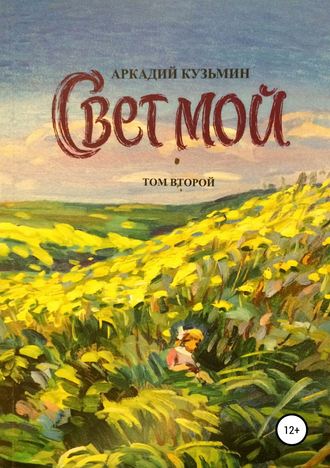 полная версия
полная версияСвет мой. Том 2
III
Теперь, барахтаясь под колесами у немца, Анна умом своим сознавала: сказывалось все нечеловеческое напряжение текущих дней – они ее измучили морально и физически; потому она сейчас и не годилась никуда, была вся-вся разбитая.
Всех одолевала жажда, отчего идущие, нагибаясь, пригоршнями схватывали из-под ног желтый, нечистый снег и глотали его – в сторону ж боялись отойти во избежание трагических недоразумений. Все-таки разок Наташа дошагала до обочины и, что удивительно, здесь ногами зацепила за какой-то тугой мешочек, оброненный или выкинутый кем-то. Подняла его. Потом, развязав его, она увидела, что в нем был молотый кофе. Килограмма два, побольше. Он приятно даже пах.
– Да брось ты, что разглядываешь! – досадливо-неодобрительно сказала Анна. – Это лишняя нам тяжесть. Измудруемся. Кто-то, видать, не понапрасну выкинул. Не зря.
– Нет, доченька Наташенька, возьми, возьми, – кофе вам не помешает, – убежденно посоветовала Поля, – наоборот: может еще помочь, сберечь силы. Он еще очень пригодится, что вы!
Она убедила взять его с собой. Наташа послушалась ее.
От лесной шумливости, несказанно мягкой, серебристой Анна впала в сладко-вяжущую все сонливость. С легкостью как-то проваливалась в небытие, будто устав чувствовать себя вместе с бременем взвалившихся на нее давным-давно забот материнских. Неотложных. Но вместе с тем обостренным, контролирующим чувством она чувствовала, что безостановочно волоклась каким-то немыслимым волоком людская река, захватившая ее в поток; на пределе качались и качались, извиваясь темными рядами, неразгибаемые уже спины, плечи людей, побеленные снежком, как и косматые плечи осанистых елей, столпившихся – словно в недоумении перед тем, что было – у большака; тягучие шаркали сотни ног и скребли полозья санок об изъезженное дорожное покрытие, и фырчали, и гудели, и чадили газом проносившиеся взад-вперед громоздкие немецкие грузовики; и слышалась отрывистая, лающая нерусская речь, и опять – приглушенный скулеж и плач детей: «Ой, ручки у меня болят, болят мои ножки, миленькая мамочка моя». Это, – Анна знала ее манеру, – причитала, как большая, Танечка. Однако несильный детский плач перебивала вновь пришедшая метельная песнь, все усиливаясь вместе с непогодой, хотя вроде просветлело отчего-то вокруг.
Оттого ли она, мамочка, встряхнулась как-то – и опомнилась враз? Должно, должно быть. Опомнившись, Анна сообразила, что лес незаметно кончился: они выбрели опять на холодный, продуваемый, разгулявшийся простор, опять прибавили шаг. Для верности она вновь пересчитала всех своих, отмечая каждого глазами, завидно видящими все. Нагнувшись над санками, в момент, когда их движение немного застопорилось отчего-то впереди, она лучше подоткнула распустившиеся одеяла вокруг тельца скулившей Танечки; чуть подвинула ее ножки, онемевшие, ласково ее успокаивая своим близким прикасательным присутствием. А затем опять вобрала в свою ладонь маленькую ручку Верочки, которой следовала – для того, чтобы тоже не замерзнуть, сидя на вещах, – подвигаться опять. Может, пробежаться?
Ноющая боль и наново наступивший вой в голове у ней не прекращались.
И опять, опять пришла необходимость говорить самой себе: «Ну, держись-ка ты, горькая головушка! Держись!» Потому как не на шутку ускорился их марш. Марш изгоняемых.
И если выселенцы непроизвольно растягивались друг от друга, то чаще всего они сами старались пробежками ликвидировать разрыв между собой. Перед глазами у всех маячили те замученные молодайки, валявшиеся на обочине; это заставляло всех проявлять максимум осторожности, быть начеку, чтобы не давать сопровождающим солдатам ни малейшего повода для такой же физической расправы над собой, хотя многие едва держались на ногах от усталости. Тем более что наскольженные подошвы валенок скользили на отполированном ногами и шинами снегу, выдутом ребристо, наподобие рыбьей чешуи, вследствие чего идущие теряли равновесие, скользя, и падали часто.
Бездумно же, нисколько не думая об остальных, взвинчивали скорость хода возглавлявшие колонну – как-никак наиболее здоровые и ретивые ходоки, такие, как Силин. Здоровые, что ломовики.
Становилось всем тяжелей и тяжелей, и некоторые уже выбрасывали вроде б лишнее из вещей (уложенных с собой), что можно было выбросить, чтобы облегчить свое движение. Теперь, когда семилетняя Верочка подсаживалась на санки, и они заметно тяжелели, Наташа недовольно оглядывалась на нее. И Верочка спрыгивала снова под ее взглядом, с виноватостью.
Анна настолько зашлась, что у ней стало покалывать где-то под сердцем.
Итак, сбой, последовательный сбой, – ясно проносилось в Аннином сознании. Пришла беда, открывай ворота. Сначала взрывы бухают где-то вдали, потом – все ближе к тебе, ближе; сначала бегаешь из дому в земляное убежище, потом бросаешь ненадежный дом и столь же ненадежное убежище. Едешь на телеге, заваленной доверху вещами. Потом уже нет ни лошади, ни телеги и того необходимого для эвакуации количества вещей, есть только саночки с некоторыми узелками. А потом и этих саночек уже не будет; и не будет, может быть, и обуви на ногах – она износится, истреплется, а вещи кинутся, потому как дойдешь совсем до предела. И все еще будешь говорить себе: это еще не конец, родная, ты еще идешь-передвигаешься. И даже потом в самом-то конце будешь видеть выход, в той безмерной – по сравнению с высотой – низиной, в которую скатилась, или, верней, спихнули тебя твои вороги смертельные.
Господи, как лихо! Белый с синью снег, метет безостановочно, следы заметает, свое дело ладит. Так, наверное, и в этой непридуманной осуществляемой людьми убийственной переделке спорит в тебе воскресение со смертью и забвение с надеждой, заметаются и воскрешаются твои следы, и в солнечных лучах вырисовываются неожиданно рельефной пропечаткой. Даже и тогда, наверное, когда уже свихнешься сам, сковырнешься где-нибудь на пути к чему-то. Что ж это такое все-таки?
Сколько она, Анна, все-таки ждала чего-то и надеялась на чудо для себя, для всех – чудо избавления: тем сильней, настойчивей надеялась, ждала, чем сильней обкладывали их бедой, насилием, лишением всего.
Где-то, где-то эти изнурительные перебежки сменились более посильным равномерным шагом. Можно стало отдышаться малость.
IV
Лишь потом удалось вздохнуть, дух перевести да и перемолвиться друг с другом словом: вошли они в какую-то просторную безлюдную деревню и остановились в ней, не скучиваясь, строем, – возле одного добротного строения, которое напоминало внешне, вероятно, бывшее колхозное правление. Сюда попеременно заходили конвоиры – каменные, посиневшие.
Да, при первом же соприкосновении с немецкими солдатами узналось, что это была армия палачей, мародеров и невеж и что в духовном, нравственном начале эти люди стояли гораздо ниже своих жертв, на которые они нацелились, – люди, страшно обедненные в культурном развитии, оболваненные ложной посылкой своей исключительности. Далекие предки их – варвары – одолели Рим. Но эти, потомки тех варваров, напрасно рвались сюда, на Восток. Ведь больше, чем сможет унести с собой человек, взять нельзя. Как все просто, если подумать.
Испепеляя взглядом из-под густых, как у Василия, нахмуренных бровей, – Поля проводила Силина, который выделяясь среди толпы черной своей тужуркой, независимо поперся также в этот дом.
– Ишь, все уверенность в себе и удаль демонстрирует маньяк! Фигурирует…
– Мне только непонятно, – сказала Анна, доставая из мешочка лепешки и кусочки сваренной конины – для ребят: – что же, немцы и его не пощадили за все его полезные для них труды – велели выметаться тоже? Что, неблагодарность ему высказали? Или что другое?
– Куда иголка, туда и нитка тянется, – сказала Поля. – Закон! А раз фашисты приготовились, по-видимому, сматываться все-таки отсюда, то тогда пора уж пятки смазывать и главному-то полицаю Ржева, ставленнику их, чур бы не попасть, как кур во щи (по головке, – понимает он, – его нисколько не погладят наши, как придут); и ему, как палачу заядлому, в городе-то этом делать боле нечего, не на ком практиковаться, не над кем глумиться, – все, каюк, каюк – все в нем население пораспылилось и исчезло насовсем. Нет нигде ни душеньки. Одни развалинки во все глаза глядят. Ой, Анна, посидела б ты покамест на узлах – пришла б в себя немножко. Посидите, отдохните чуток все! Поешьте поспокойнее! Ведь не ровен час – они вновь устроят гонку, ироды. Поблажки никакой не жди от них.
– Вот тебе, Полюшка, огненно-железная метла наголо повымела… Матушки мои, было ж там никак не меньше тысяч шестьдесят людей! Это не деревня все же – целый город. Вот тебе их хваленое освобождение от гнета красных… Так расписывали…
– Ну, еще б! Карали тех, кого бомбочками с неба не ухлопали, как ни метали их; остаточки людей изо всех щелей потом изъяли и повыскребли и взашей повыгнали подале. Силин до конца здесь кровопийствовал, безумствовал. Да посиди ж ты, Анна: посиди пока! Послушайся.
– Он-то, ясно, ясно, в кровушке запятнан весь. И не отмоется.
– Только вы потише говорите, мам, – предупредительно-негромко проговорил жующий Саша: – Видел я, что он пистолет в карманах прятал – перекладывал. Недаром. Напороться можно, – хрустнул сухарем.
Поля похвалила:
– Ну, и молодец, сынок: заметил! На ус надо намотать, коли так. Дело усложняется, пока он с нами, возле крутится; слишком он знает нас – наизучил…
И Танечка пожаловалась, проглотив еду:
– Мамочка, ну, мамочка, устала я: все метет снег и метет – блызгает в глаза. Ты останови ее, метель. Ты больсая у меня – может, сплависся…
– Февраль – горы ровняй, зайка, не скажи. – Поля тоже засмеялась ее детской выдумке, сказанной всерьез-наивно.
– Вот они-то тут со мной, – Анна присела на краешек саней. – А Валерий отнят у меня… Как же так?..
– Мой-то Толик тоже… Не забыла?
– Да. Он стоит перед глазами у меня – и кончено. Не избыть того.
– Но они, Анна, постарше ведь. Значит, посмышленней малых. Посильней. Меньших ты побереги. Покуда кровопийцы рядом.
Поля по-всегдашнему была права, обладала интуицией: их долго и потом гнали вперед, гнали безо всякой передышки. И приятным исключением в этом длинном переходе под конец дня пахнула божья искра душевности, с какой милые русские девушки, что ехали в закрытом кузове одного из немецких грузовиков, в то время как он медленно на подъеме совершал обгон растянувшейся колонны, откинули брезентовый задник и, невзирая на немцев, сидевших там же, скинули в толпу несколько небольших буханок эрзацного хлеба, одна из которых досталась Наташе. Она влетела прямо в руки ей, как нарочно. Свет воистину был не без добрых людей, как утверждала утром Поля. И это, несмотря ни на что худшее, давало основание еще надеяться на что-то, жить надеждой. Как всегда до этого.
Темнотой уже навалился вечер, холодневший в опустившейся пелене пурги; кругом смутно лишь угадывалась вихрасто-буйная снежная равнина, густо перемешанная с близким небом, до которого рукой почти достать; на ней ничего – никакого кустика, ни столбика – не виделось нигде; ничто не пробивалось, хотя б пятнышком каким, в этой серой, хлеставшей навстречу пелене. И уже затихло на дороге (если это еще была она, дорога, – не сошли с нее) движение немецкого транспорта. А немыслимое, фантастическое шествие изнеможденных, загнанных жителей все продолжалось в ночь, продолжалось, хотя ни у кого уже ноги не слушались, одеревенев, и не стало даже мочи утешать скуливших детушек, а не то, что быть еще способными на что-то большее.
Послышалось возмущенное людское роптание. Громче, громче… Да доколе ж будет длиться это испытание невыносимое? Ведь германцы, как пить дать, заведут в пустынь бездорожную и запрут в ней накрепко – на издыхание, и все дела. Шито-крыто. Какой может быть ночлег для неотесанных свиней? Мы же Schwein для них. Нет, начисто с дороги сбились и блуждаем: ноженьки не чуют ее твердости, не достают. Впору взвыть по-волчьи. Каково!
Наконец, вся вымотанная масса выселенцев круто, следом за передними, развернулась вправо, хлынула куда-то напрямки, смешиваясь, сталкиваясь и теряясь друг от друга. Так куда-то выкатились все – кругом опять высилось-белилось только одно поле бесконечное; лепил, гулял привольно снег, сквозь который слабо-слабо прорисовывалась вдруг кромка горизонта с шаткой деревенькой. В этом поле, где укрыться на ночь было абсолютно негде, стали; скучились, как овцы, и растерянно толклись на месте в неизвестности; перетаскивались покучней, переспрашивали один у другого, почему остановились здесь, на юру. Под напором по-февральски продувавшей все насквозь задиристой поземки мелко вздрагивал да вздрагивал низкорослый, утонувший в ней кустарник.
V
Вечер поздний был. Весь стан дрог и гудел простуженными голосами. Люди, доставая ощупью заледенелую еду из мешочков, сумок, узелков, подкреплялись; согревали маленьких, повытаскивав их из санок. Ничьих самолетов – ни наших, ни немецких, различаемых по звуку, – не было слышно, стрельбы орудийной – тоже; в стороне лишь пробежали, поскакивая, догоняя один другой, цепочки огней автомашин, и затем все погасло снова, погрузилось в холодную темноту, не обещавшую покоя, ничего.
– Ой, когда ж все это кончится? – поскуливала с санок Танечка. – И зачем они мучают нас?
Не часом ли позже взбудораженной люд взметнулся налегке и порснул прямиком к деревне, как наперегонки друг перед другом. Понять можно. То естественно. Оказалось, соизволили сопроводители распорядиться так: всем – оставить вещи в поле, так, как есть, и идти по теплым деревенским избам. Это что-то значило для всех… Кто ж откажется?..
– Над народом душегубы сжалились – ночлег предложили, – выходила из себя, не смиряясь, жаждавшая действий Поля, тормошила опекаемых: – Ну, пошли и мы туда по-быстрому, пошли, ребята, Анна, Дуня; надо это мигом, не зевать, пока не расхватали там квартиры… А то выйдет – и приткнуться будет некуда, никуда не сунешься. При таких гнилых порядках-то немецких. «Дай им, боже, что нам негоже…» Ну, пошли! Айда! Барахлишко наше, чай, я думаю, здесь не накроется. Да и, если будем сами живы, невредимы, – наживем сто крат еще добро. Тут, главное, ведь в том вопрос, чтобы нам сами не окочуриться, из трясины выбраться.
– Да, пойдем, пойдем скорей, моя деточка; бог даст, отогреемся хоть там, в избе, у печечки, хлебнем кипяточку; глядишь, жилочки у нас расправятся, силушки в нас прибавится, – говорила Анна, собирая и больше подбодряя, чем поторапливая, своих малолетних. – Только ты уже не плачь, не горюнься, малая. Знаю, что слезами горю не поможешь, нет. Тебе спать пора. Вот сейчас укутаю я Верочку… Вот так. – И непостижимо было ей самой, как она сама еще не падала от сокрушительной усталости, а все двигалась и что-то делала и говорила, и привязано хлопотала возле них, детей, – ради них, беспомощных и беззащитных. Может, только это и поддерживало ее так морально, что она попросту забывалась в хлопотах о них, таких для нее естественных, насущных хлопотах. Все было понятно: нынче этими заботами она жила, согревала свою душу. – Ну, а ты, Антоша, если можешь, все-таки побудь-ка здесь пока, покарауль; ты уж извини меня, сынок, кроме тебя сейчас некому…
– Что ты, мам, конечно же, покараулю, – говорил взволнованно Антон. – Сразу ведь сказал – и с охотой даже…
– Сам ты знаешь, терпим мы нужду немалую, и если навернется все последнее… Что тогда?..
– Мам, не говори, пожалуйста, идите поживей!
– Заодно приглядывай и за санками тети Полиными и тети Большой Марьи. Чтоб не мерзнуть всем кагалом…
– Ты не бойся: не замерзну. Буду я, похоже, не один: вон и другие сторожами остаются тоже.
– Ну, если хочешь, как хочешь, сынок.
– Угу, – сказал он, что-то соображая.
– Из нас кто-нибудь обязательно придет к тебе, Антон, на подмену, – обещала, уже прокричав, Наташа, нянчившаяся с полусонной Танечкой.
Они ушли. Растаяли. Антон же остался.
Подняв густой овчинный воротник, а поверх шубы накинув еще плотное покрывало и для пущей надежности втянув голову в плечи, Антон опустился на санки спиной к ветру, вполуоборот – к той деревне, куда все уходили отсюда, бултыхаясь в снежном месиве, в пляшущей мгле. Он говорил еще себе: хорошо, что валенки подбил, что сшил рукавички – не подводят, что в порядок шубу успел привести. Он безо всякого страха решил тут заночевать и думал покуда просто посидеть, а потом, если будет нужно, и вырыть чем-нибудь в снегу какое-нибудь укрытие, – ему, действительно, не было холодно, верней было не очень еще холодно; и было бы совсем не холодно, если бы не разгуливал так свободно шальной ветер, как бы приглаживавший эту равнинную, лишенную леса или оврагов, местность.
Как ни странно могло показаться, сейчас, оставленный среди метельной ночи, Антон не страшился одиночества, отнюдь, а больше всего терзался, осознавая ясно, что он все-таки труслив, хуже и трусливее всех других мальчишек, которых довелось ему узнать. Да, трусливее, нечего греха таить. Таким уродился. И об этом хлопала клеенка на чьих-то санках, трубил ветер, изредка мигали справа, точно летучие фонарики, фары проносившихся автомашин, напомнив ему также, к его неудовольствию, даже досаде (отчего он даже поморщился), эпизод позавчерашний, когда они с Сашей глупо, до слез, повздорили – из-за того ненужного никому теперь фонарика, который на прощание подарил им гордый брат Валерий; они повздорили из-за сущей ерунды, а вот не убивались должным образом по брату своему…
И Антон почему-то вновь вспомнил весь позор, мучивший его всегда: как демоном куражился над ним, пятиклассником, в Ржевской школе один рослый и физически сильный лоботряс, отпетый второгодник из шестого «б». Олег, который едва не побил его. В детстве Антон часто болел и боялся ребячьих драк, точней, не участвовал в них. Задиравшихся ребят не любил. И он боялся Олега потому еще, что еще не находился в стадии разозления против него, – парадокс, казалось бы. Однако этот парадокс для него был прост, объясним: он точно становился непохож на самого себя, когда лопалось его терпение, и тогда он с легкостью обращал в постыдное бегство самых что ни есть отъявленных обидчиков.
Тот, демонический Олег, пыхтящий шумно, неопрятный, привязался к нему как-то зимой на школьной утренней линейке: он узнал, что Антон живет в колхозе и просил принести зерна для голубей, которых разводил и гонял над крышами, естественно окруженный в жизни птицами. Однако эти последние годы были тяжелейшие для большой семьи Кашиных: из-за того, что не хватало хлеба, только что продали на базаре корову-кормилицу и на вырученные за нее деньги покупали магазинный хлеб (обычно же, когда была дома мука, хлеб выпекала сама мама), чтобы свести концы с концами и дотянуть до будущего урожая. Потому Антон, разумеется, и помышлять, как бы ни хотел, не мог о том, чтобы оделить зерном голубятника. А Олег, в свою очередь, не вдаваясь ни в какие такие подробности, всего-навсего счел, что его попросту дурачат; нужно, значит, поквитаться – и он прибег к угрозе, и давил наседая и подкарауливая. Неизвестно, чем бы кончилось все. Да про то дознался ловкий и храбрый, как черт, а внешне неказистый Дима Урнов, тоже пятиклассник, товарищ Антона, одно время проживающий со своим замечательным отцом, образованнейшим инженером, и тихой сестрой (у них не было матери) в Ленинграде, а теперь квартировавший с ними в Ржеве, и однажды после уроков, при возвращении из школы, когда Олег со своим длиннющим приятелем в кожаной шапке начали преследовать компанию Антона, он задал им трепку. Причем один. И еще с каким-то неподражаемо артистичным изяществом.
Смотреть со стороны на это было прямо-таки удовольствием. Когда Дима в открытую, по-джентельменски, постарался образумить Олега с приятелем, они и к нему пристали с наглостью, переключившись разом на него, и попытались его толкать-переталкивать плечом на ходу, и подбивать ногами. Но у них из этого ничего не получалось при его природной и натренированной ловкости и гибкости. А затем в мгновение ока вышло так, что Олег без памяти что есть мочи драпал от него (без шапки), а второй великовозрастный забияка, которого Дима буквально швырнул наземь, в снег, схватив его за шапку и даже крутанув, лежал поверженный, – на нем же верхом сидел победитель и диктовал ему условия.
Смех-смехом, только на беду по улице как раз шла откуда-то с сумкой мать поверженного, дама вполне приличная. Она обомлела:
– Вова?! Тебя бьют?! – и ринулась к тому на выручку, завопив-загорланив на всю округу: – Ты что же это делаешь, бессовестный хулиган?! Помогите! Помогите, люди! Держите его!
Так что пришлось уже ретироваться Диме своевременно.
Смелым и бескорыстным парнишкой он был. С чутким добрым сердцем. Он вскоре, спустя месяц примерно после этого случая, погиб, катаясь на лыжах с крутого берега Волги …
Позже Антон сдружился и с другими мальчишками из своего пятого «в» – особенно из-за математики, которую прекрасно знал. Знал он и любил он все школьные предметы превосходно, а математику – особенно.
Сидящему в поле Антону чудилось, что и бесшабашно-удалой Дима Урнов, и органично живой учитель Павел Тимофеевич, и даже худенькая Галя Рощина, всегда тупившая взор, – и другие – все, кого он знал хорошо, с уверенностью в них, приятельски подмигивали ему из пуржившей полутьмы и дружески его наставляли: «Ты смотри у нас, не дрейфь!» Это наставление было очень важно для Антона. И он даже прошептал – как бы в ответ, растроганный: «Да, не буду я, не буду дрейфить, клянусь вам…»
Да то ли уже начал сон одолевать его или померещилось ему совсем невероятное, но он с четкостью заслышал приближавшиеся к нему хрустящие шаги и взбодревшие знакомые голоса, которые принадлежали явно Саше и Наташе, не кому-нибудь другому. Замер он. Вгляделся. Пропела над ухом пурга, раскрутилась, прежде чем его позвали:
– Эй, Антоша! Антоша!
– Ну, я, – еще не веря, погромче, отозвался он.
– Как, небось, закоченел? – Размашисто придвинулись к нему, будто прямо с неба брат с сестрой.
– Еще нет, нисколько. А что?
– За тобой пришли! Давай с нами! Ну-ка, вставай!
– А вещи наши как?
– Переночуют тут. Кое-что с собой прихватим. И прикроем чуточку. А то вмиг позаметет. Никто не утянет наше барахло…
VI
Облитая внутри жиденьким, пугливым светом от двух зажженных кем-то плошек, бездворая кургузая, накренившаяся грибом изба, куда братья и сестра зашли, кишмя кишела народом – на истоптанном полу, где невозможно было ступить без того, чтобы не наткнуться на кого-нибудь лежащего или сидящего, и на двухъярусных дощатых нарах копошились или неподвижно, во сне, застыли гирлянды человеческих тел. В спертом от испарений и душном, как в предбаннике, сумраке.
И окна избы уже отморозились: глянцевито-почернело текли-плакали.
Избу эту гонители использовали, верно, под перевалочный пункт. Однако, несмотря на то, что была она обезхозяенной, давно негретой, она все-таки еще служила по-доброму всем: в ней можно было хотя б мало-мальски отогреться, отоспаться после полнодневного пребывания без пищи и отдыха на бесновавшей стуже. Набившись сюда, как селедки в бочку, выселенцы даже забыли про еду, голодные – их тотчас разморило; и они, враз застигнутые сном и накрепко скованные усталостью, уже дремали и клевали носом.
На счастье Кашиным тоже достался здесь, у перегородки в кухню, крохотный участочек загрязненного пола, где, плотно примостившись, младшие могли поспать хотя бы полусидя, а старшие – сидя и стоя по очереди. Раскрасневшаяся Таня с недокусанной ржаной лепешкой в болящих ручонках, Славик и Вера, раскинувшись, уже спали безмятежно; изредка они во сне пошевеливали пальчиками, которые как бы конвульсивно подрагивали сами.
И то Анна почла за большое благо, негаданно-нежданно свалившееся на них, – она уж не чаяла и этого увидеть, нет, не чаяла увидеть. Нестерпимо ей хотелось лечь, стащить с себя обручи – толстые отяжелевшие валенки и бухнуться пластом, и полежать, свободно вытянувши ноги, – они ныли и ломили. Голова у ней разламывалась от всего, гудела – боль не прекращалась. Иссякло все терпение у ней. Она не могла и есть, только через силу, как ни заставляли ее пожевать что-нибудь, ругаясь на нее, Наташа, Поля, Дуня. Машинально она отщипывала кусочки от лепешки и аккуратно, типично по-крестьянски, прожевывала их, без всякого удовольствия.
По-прежнему хотелось пить. И нечем было промочить во рту засохшем. Колодец был недосягаем: и неблизко, и не выпускала из избы наружная охрана; смог только Антон выскользнуть за дверь – зачерпнул и бидончик снега, чтоб натаяло по глотку водицы. Да пока протискивался он среди тел туда-сюда, слышались то бред, то стон, то вздохи, а то и откровенная брань из-за того, что он шлялся где попало, наступая на кого-то.
«О, горе, горе горькое! – все думала Анна, думала бесконечно-безостановочно. Об одном и том же. Как же тут спасти детей? Как не дать им простудиться, заразиться, заболеть и потеряться? Распылились, поди, где-то горемыки, жившие еще недавно здесь, подобно тем же лишенцам, которых немцы пригнали в Ромашино еще в августе прошлого года – из деревень, лежавших выше Ржева, – и поставили их в условия животной жизни, оставив их без жилья и пропитания. Где же все они сейчас? И где будем завтра мы?»