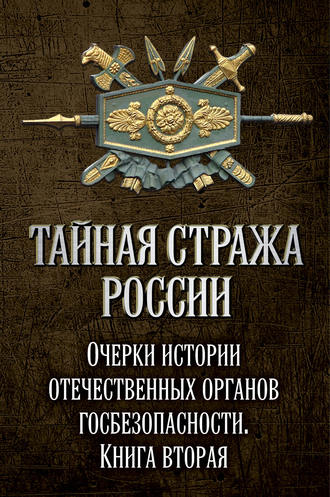
Полная версия
Тайная стража России. Очерки истории отечественных органов госбезопасности. Книга 2
Наставление по контрразведке 1915 г. было заменено на «Временное положение о контрразведывательной службе на театре военных действий» от 2 мая 1917 г. В соответствии с ним на театре военных действий руководство контрразведкой осуществлял второй генерал-квартирмейстер Ставки. К центральным органам контрразведки относились Контрразведывательная часть и КРО штаба Ставки, а к местным – КРО штабов фронтов, армий и военных округов на театре военных действий.
Сохранялась и морская контрразведывательная служба, которая вела борьбу со шпионажем на флоте. Ее организация и деятельность регламентировалась «Временным положением о морской контрразведывательной службе на театре военных действий».
Выводы относительно проблем организационного развития российской контрразведки дореволюционного периодаПервая проблема, которой во многом и посвящен материал данного очерка, это вопрос о датах возникновения отечественных органов безопасности. Как заявил в одном из своих интервью газете «Комсомольская правда» Н. П. Патрушев, будучи Директором ФСБ России: «Специалисты до сих пор не „сошлись“ на какой-то конкретной дате, с которой необходимо вести отсчет истории национальной безопасности. …Что касается собственно контрразведки, то ее „днем рождения“ в ходе научных дискуссий определено 21 января (по старому стилю) 1903 г. В этот день Николай II принял решение о создании в структуре Главного штаба русской армии первого в истории страны постоянного спецподразделения по борьбе со шпионажем – „Разведочного отделения“. Его первым начальником стал жандармский ротмистр Владимир Николаевич Лавров»[54]. Впервые дата рождения отечественной контрразведки «21 января 1903 г.» была определена автором данного очерка в качестве одного из положений его кандидатской диссертации, защищенной в 1982 г.
Вторая проблема заключалась в решении вопроса: при каком ведомстве было целесообразнее создавать органы контрразведки – или при Департаменте полиции МВД, или при Военном министерстве. В пользу Департамента полиции во внимание бралось одно главное обстоятельство – это наличие в их структурах сотрудников, обладавших профессиональными знаниями и умениями конспиративной агентурно-оперативной работы. В пользу военного ведомства бралось во внимание то, что их специалисты знали организацию русской армии и ее основные секреты, а также имели четкое представление об иностранных армиях и их разведках, то есть знали, что следует охранять и от кого. Именно эти последние обстоятельства и имели решающее значение. Поэтому и первый специальный орган контрразведки (Разведочное отделение в 1903 г.), и система органов контрразведки (КРО) в 1911 г. были созданы при военном ведомстве.
Третья проблема – это определение территории (района деятельности), на которой должна действовать контрразведка.
Определение района деятельности органов контрразведки определялся в зависимости от тех задач, которые государство ставило перед контрразведкой. Так, при создании в 1903 г. первого специального органа контрразведки – Разведочного отделения, основной его задачей являлось наблюдение и разработка сотрудников иностранных дипломатических миссий, занимавшихся сбором разведывательной информации, и разработка российских подданных, имевших с ними подозрительные контакты. А поскольку дипломатические миссии были аккредитованы и находились исключительно в столице Российской империи Санкт-Петербурге, то и районом деятельности Разведочного отделения был определен Петербург и его окрестности.
Активность иностранных разведок в преддверии Первой мировой войны стала приобретать глобальный характер. Иностранный шпионаж начинает охватывать всю территорию России. Это побудило царское правительство в 1911 г. создать систему органов контрразведки, и районом деятельности российской контрразведки уже становится не только вся территория России, но и выполнение определенных задач и за границей.
Четвертая проблема – это социально-государственное положение (статус) контрразведки с точки зрения того, должны это быть легальные органы, известные широкой общественности, или нелегальные, о существовании которых никаких сведений официально не должно было сообщаться.
Самый первый орган контрразведки, Разведочное отделение, с самого начала было задуман как негласное учреждение, так как считалось, что иначе терялся бы главный шанс на успешность его деятельности, именно тайна его существования. Такой же подход сохранялся при создании и деятельности КРО накануне и в начале войны. Негласный характер деятельности органов контрразведки можно рассматривать как парадигму частного характера, которой придерживались руководство и специалисты Военного министерства в вопросах выработки принципов организации контрразведывательной деятельности.
Но последующая практика во время I-й мировой войны показала, что негласность существования органов контрразведки стала приносить больше негативных последствий, чем пользы. Даже большая часть русских офицеров в действующей армии была часто не в курсе того, что где-то рядом с ними могут работать сотрудники военной контрразведки и их агентура. Имели место случаи, когда агентов КРО, возвращавшихся из-за линии фронта и попадавших в поле зрения офицеров строевых частей на передовой, ни при каких обстоятельствах не хотели принимать «за своих», даже если они заявляли о том, что выполняли задание того или иного КРО, ибо строевые офицеры впервые слышали об этих органах. После таких случаев завеса негласности и секретности деятельности КРО понемногу начала спадать. Руководители контрразведки стали рассчитывать на то, что сам по себе патриотический характер деятельности контрразведки, если о ней будет известно общественности, усилит ее связь с населением и сможет дать положительные плоды в выявлении и пресечении подрывной деятельности иностранных спецслужб.
Пятая проблема – это проблема кадрового обеспечения органов контрразведки на стадии их образования и последующих этапах их деятельности.
Когда встал вопрос об образовании системы КРО при военных округах, по мнению П. А. Столыпина, в штабах военных округов не было квалифицированных кадров, знающих достаточно хорошо «техническую сторону розыска». С точки зрения премьера, эффективное взаимодействие с военными могли бы осуществлять районные охранные отделения и сотрудники корпуса жандармов. В этой связи на должности руководителей всех КРО, создававшихся по «Положению» 1911 г. были назначены офицеры из числа охранных отделений или корпуса жандармов. Во время войны в контрразведку стали приходить офицеры армии и флота, имевшие склонность к оперативной работе, что имело положительные результаты, так как они лучше знали тонкости военного дела и лучше представляли объекты угроз, к которым проявляли интерес иностранные разведки.

П. А. Столыпин
Кадровые вопросы стали для контрразведки проблемой, в собственном смысле этого слова, после февраля 1917 г., когда корпус жандармов и охранные отделения были ликвидированы и стали вне закона.
Шестая проблема – это проблема участия или неучастия органов контрразведки в деятельности по политическому розыску.
На КРО в 1911 г. в качестве одной из задач была возложена обязанность по борьбе с деятельностью иностранных разведок, направленной на подготовку в России вооруженных восстаний. Деятельность контрразведки в данном направлении невольно должна была соприкасаться с деятельностью органов политического розыска МВД России, которым также предписывалось вести борьбу с возможными вооруженными выступлениями внутри государства. Искушение царского правительства на привлечение контрразведки к деятельности по линии политического сыска подкреплялось еще и тем обстоятельством, что руководителями КРО до февраля 1917 г., как правило, назначались офицеры корпуса жандармов и сотрудники охранных отделений, которые до их привлечения к работе в контрразведке как раз и занимались политическим сыском. Но Военное министерство, в ведении которого находились КРО, не поощряло деятельность своей контрразведки по линии политического сыска по нескольким причинам. Во-первых, военные считали для себя политический сыск «грязным делом»; во-вторых, МВД, пользовавшееся у монарха значительно большей поддержкой, ревностно относилось к тому, чтобы позволять кому-либо из другого ведомства вторгаться в сферу своей деятельности; и, в-третьих, финансовое, материальное и кадровое обеспечение контрразведки было настолько скромным, что всего выделенного едва хватало только для борьбы со «шпионством» – основной задачи контрразведки, где же при таких условиях еще заниматься и политическим розыском?!
Седьмая проблема – это проблема «выживаемости» контрразведки при сменах общественного и политического строя в России.
Практика показывает, что контрразведка необходима любому государству и при любых его режимах. Постановка для контрразведки новых задач в условиях военного времени (1914–1917 гг.) позволила более эффективно использовать ее в интересах русской армии, от которой зависел главный успех России в войне.
Сразу после февраля 1917 г., на волне революционных настроений и в условиях установившегося «двоевластия», пошел процесс освобождения от тех карательных органов, с которыми олицетворялся прежний царский режим. Контрразведка среди других спецслужб в этом отношении оказалась в более благоприятном положении, так как ее контрразведывательная деятельность в подавляющей степени носила патриотический характер по отношению к своей стране. Поэтому в России после начала Великой российской революции (февраль-март 1917 г.) слом контрразведки как организационной структуры и отношение к ее сотрудникам проходили постепенно, поэтапно и с максимальным удержанием всего того положительного, что могло бы пригодиться новым властям, новому государству.
А. И. Логинов
Военная разведка и контрразведка Российской империи в 1890-е – 1902 гг.
1890-е годы представляются крайне важными с точки зрения деятельности российских спецслужб по повышению степени готовности Российской империи к отражению внешней агрессии и противодействию деятельности агентов иностранных государств на собственной территории. Фактически именно в 1890-е годы во многом сложился алгоритм взаимодействия различных силовых структур Российской империи, что привело к созданию в 1903 г. единого органа военной контрразведки.
В 1890-е годы деятельность военных агентов и различных служб, связанных с военным разведывательным и контрразведывательным обеспечением, курировал генерал-лейтенант Федор Александрович фон Фельдман (1835–1902).
Происходивший из дворян, Ф. А. Фельдман получил образование сначала в Пажеском корпусе, а затем в Николаевской академии Генерального штаба. После ее окончания он в чине капитана стал старшим помощником начальника военно-учебного отдела при Главном управлении Генерального штаба. Уже через год был назначен начальником этого отдела. В 1872 г. Фельдман был назначен флигель-адъютантом к Его Величеству, а в 1878 г. произведен в генерал-майоры, с назначением в Свиту Его Величества.
С 1876 г. Фельдман был командирован в Вену, где до 1881 г. состоял военным агентом при посольстве. Таким образом, он на личном опыте знал всю работу военного агента. Вернувшись из заграничной командировки, он вновь стал управлять делами Военно-учебного комитета, состоя в то же время членом комитета по мобилизации войск. В 1896 г. Фельдман был назначен директором Императорского Александровского лицея и членом Военного-ученого комитета Главного Штаба.
Фигура Ф. А. Фельдмана является крайне важной в истории отечественных спецслужб во второй половине 1880-х – первой половине 1890-х гг.: фактически именно он в это время создавал, руководил и координировал деятельность различных структур и отдельных лиц по контрразведывательному обеспечению русских войск и военной разведке за границей. Диапазон информации, получаемой Фельдманом, был колоссален – от тайных сведений политического характера и по отдельным агентам западных стран, поступавших от Отдельного корпуса пограничной стражи, до выработки концепций и определения стратегических направлений деятельности. Фельдман был прекрасным организатором, аналитиком, ученым. Должности, которые он занимал, свидетельствуют об абсолютном доверии ему со стороны Императора Александра III.

Ф. А. Фельдман
Фактически под руководством Фельдмана и по его замыслу предпринимается ряд организационных шагов по созданию системы взаимодействия силовых структур, занимающихся обеспечением военной безопасности Российской империи, где важное место занимали военная разведка и контрразведка. Охарактеризовать тенденцию действий Фельдмана можно одним словом – централизация. Фактически именно в 1890-е гг. были заложены основные организационные предпосылки для создания специальной структуры – военной контрразведки Российской империи. Учитывая инертность бюрократического аппарата, номенклатурные противостояния руководителей отдельных ведомств и лиц, приближенных к новому императору Николаю II, замысел Фельдмана административно осуществился спустя десятилетие после системной работы многих отдельных структур по единому принципу – в канун войны с Японией 1904–1905 гг.
Для систематизации информации выделим главные конструктивные элементы организации военной разведки и контрразведки «по Фельдману»:
1. Военно-ученый комитет Главного штаба.
2. Военные агенты в различных странах и связанный с ними агентурный аппарат.
3. Департамент полиции Министерства внутренних дел.
4. Отдельный корпус пограничной стражи.

Александр III
Придерживаясь подобной структуры, постараемся на примерах показать цели, методы, принципы и результаты деятельности специальных служб Российской империи в 1890-е годы и в первые годы XX века.
Военно-ученый комитет Главного штабаВысочайшим манифестом Императора Александра I от 25 июня 1811 г. было объявлено об издании «Общего учреждения министерств». 27 января 1812 г. было создано особое «Учреждение военного министерства». Тогда же появилась необходимость в создании особого учреждения при военном министерстве, которое могло бы рассматривать целый комплекс вопросов, связанных с законодательным обеспечением, анализом, высшим военным обучением и планированием, стратегическим развитием военного ведомства. В качестве такового учреждения был создан Совет военного министра, который в той или иной форме, с некоторыми отличиями в функциях, существовал в течение ста лет. В 1815 г. был создан Главный штаб Его Императорского Величества.
Для обсуждения вопросов, относящихся до педагогической части военно-учебных заведений, 16 февраля 1863 г. был создан Главный военно-учебный комитет. С 29 марта 1867 г. состоял при Военном совете. Непременными членами комитета были начальник военно-учебных заведений, его помощник и начальники Николаевской академии Генерального штаба, Михайловской артиллерийской и Николаевской инженерной академий (с 1869 г. также Военно-юридической и Медико-хирургической академий). Комитет бы упразднен 7 января 1884 г. с передачей его функций в Главное управление военно-учебных заведений.
В ходе реформ 1860-х – 1870-х гг., боясь получить в лице Главного штаба соперника в управлении военным ведомством, генерал Д. А. Милютин деформировал идею создания Главного штаба по образцу Германии. По его инициативе вместо полноценного центра подготовки к войне был создан подконтрольный совещательный орган – Военно-ученый комитет. Военно-ученому комитету был поручен сбор данных об иностранных государствах. Основные усилия работы Военно-ученого комитета были сосредоточены на Европе. В зависимости от изменения внешнеполитической обстановки Комитет переключался и на азиатское направление. Сбором информации об Азии занималась также Азиатская часть Главного штаба. Таким образом, можно утверждать, что генезис организованной военной разведки в Российской империи происходил как одно из направлений служебной деятельности Главного штаба.
В 1890 году, по аналогии с 1869–1874 гг., была создана Главная распорядительная комиссия по перевооружению армии, которая функционировала до 1897 года. Председателями Комиссии являлись военные министры. На Комиссию было возложено распределение и расходование денежных сумм на изготовление ружей и металлических патронов для русской армии; разрешения всех заготовлений оружия в России и за границей, изменение по соглашению с контрагентами первоначально назначенных цен и сроков исполнения военных заказов и прочее. В отношении разведывательной деятельности важно то, что именно через эту комиссию проходило финансирование расходов, связанных с проведением специальных мероприятий и деятельностью военных агентов[55].
В 1890-е годы в числе главных задач центра анализа и управления сбора разведывательных данных были определение стратегических направлений деятельности, анализ информации и принятие государственных решений в области военного дела, организация и координация деятельности отдельных направлений и особых заданий.
Не будет преувеличением сказать, что многие решения принимались вполне конкретными руководителями, а не коллегиально. Вместе с тем следует подчеркнуть, что сложившаяся система создавала определенную преемственность, что снижало степень зависимости от ошибок конкретных исполнителей.
Военные агентыОсновным звеном в сборе военной информации на территории зарубежных стран являлись военные агенты Российской империи в странах пребывания.
Военные агенты или «лица, их замещающие» были приписаны к Генеральному штабу. Как правило, это были старшие офицеры. Многие из них являлись представителями аристократических кругов Российской империи, так в ряде стран военные агенты выполняли и особые представительские функции.

Р. фон Траубенберг

Л. А. Фредерикс

Д. В. Путята
Как правило, военный агент являлся официальным представителем Российской империи в стране пребывания. Его деятельность была направлена как на представительские функции по военной части, так и на сбор необходимой информации военно-политического характера. Среди корреспондентов военного агента были и нелегальные агенты, услуги которых оплачивались. Существенным усилением этого направления были прикомандированные сотрудники, которые выполняли особые поручения по профилю своей деятельности.
Для небольшой характеристики военных агентов приведем списки военных агентов Российской империи по состоянию на 1891 г. Всего на довольствии по линии военных агентов и лиц, к ним приравненных, состояло 16 человек[56].
Как правило, военные агенты служили в стране пребывания по 5 лет, после чего производилась плановая замена. Военные агенты Российской империи были во всех странах мира, с которыми были связаны интересы России – это были ведущие страны Европы, а также страны Азии.
Так, военным агентом в Берлине был Бутаков. Прикомандированным при нем был коллежский асессор Токарев, состоявший при свите прусского короля в распоряжении генерал-майора графа Голенищева-Кутузова. Военным агентом в Вене был полковник Зуев; прикомандированным при нем был чиновник особых поручений VIII класса Мятлев.
Военным агентом в Париже являлся генерал-майор Фредерикс; в Афинах – барон Рауш фон Траубенберг; в Бухаресте и Белграде – подполковник барон фон Таубе, в Брюсселе и Гааге (Гаге) – полковник Чигасов; в Константинополе – полковник Пешков и находящийся в его распоряжении полковник Калинин; в Копенгагене – полковник Блюм; в Берне – подполковник Бертельс и состоящий в гвардии пехоты подполковник Овсяный. В далеком Пекине военным агентом был полковник Путята.
В январе 1891 г. военным агентом в Лондоне стал подполковник Генерального штаба подполковник Николай Сергеевич Ермолов (1853–1924). Военным агентом в Англии он пробыл до 1905 года. 20 февраля 1907 года был вновь назначен военным агентом в Великобританию, где и остался после Октябрьской революции.
Заслуги военных агентов отмечались наградами. Так, 30 августа 1891 года военный агент в Берлине Бутаков был награжден орденом св. Анны II степени. Грамоту к ордену он получил в Берлине 6 декабря того же года, заверив ее получение подписью.
Помимо государственного содержания, для военных агентов существовала касса офицерского вспомогательного капитала. Военные агенты имели право обратиться в нее при возникновении проблем личного характера. Так, военный агент в Брюсселе и Гааге полковник Чигасов задолжал в офицерский вспомогательный капитал с 1887 по 1890 г. сумму 183 руб. 54 коп. Ему было официально предписано погасить долг. Задержку по оплате взносов Чигасов объяснил тем, что он оплатил 2706 франков на поездки и выполнение поручений из собственных средств, которые ему так и не были компенсированы. Он просил вычесть деньги из его образовавшейся задолженности и компенсировать потраченные личные средства[57].
Много или мало потратил полковник Чигасов? В соответствии с приказом № 248 от 1889 года офицерам Генерального штаба при выполнении поручений за рубежом компенсировались порционные деньги (суточные) и проезд в поездах первого класса. Порционные деньги были определены: для генералов – 40 франков в день, для штаб-офицеров – 30 франков, для обер-офицеров – 20 франков[58]. Таким образом, как полковник, Чигасов из личных средств потратил порционные деньги на 3 месяца.
Чем занимались военные агенты Российской империи? Приведем несколько кратких примеров, каждый из которых сам по себе достоин отдельного повествования.
В феврале 1891 г. военный министр поставил задачу сбора информации о скоростях и давлении артиллерийских орудий армий западных стран при стрельбе бездымным порохом. В марте 1891 г. для этих целей от Главного управления Военного министерства в страны Европы был командирован капитан Шмидт фон дер Лауниц – всем военным агентам предписывалось оказывать ему всестороннюю помощь. Для скорейшего достижения целей по сбору научно-технической информации об инновациях в артиллерии военным агентам отпускались специальные средства[59]. Сбор информации об артиллерийских системах стал одной из приоритетных задач для военных агентов всех стран Европы.
Военный агент в Пекине полковник Дмитрий Васильевич Путята (1855–1915) сыграл выдающуюся роль в расширении российского присутствия на Дальнем Востоке и в странах Азии. После участия в русско-турецкой войне, где он отличился, 17 ноября 1878 г. зачислен в Николаевскую академию Генерального штаба. По окончании курса академии в 1881 г. по первому разряду был причислен к Генеральному штабу и назначен в Туркестанский военный округ.
С 18 января 1886 г. подполковник Путята является помощником заведующего Азиатской частью Главного штаба Военного министерства. 23 октября 1886 года он назначается военным агентом в Китае с оставлением в Генштабе. За пять лет службы в Китае получил высшие и лестные оценки от командования, главная и наиболее емкая из которых – «всесторонне изучил Китай»[60].
Венцом китайской миссии Д. В. Путяты стала организация экспедиции на Большой Хинган, для организации которой ему было выделено 6 тыс. руб. из средств Тибетской экспедиции. За успешную организацию экспедиции и достигнутые результаты он был 21 марта 1892 г. пожалован пожизненной пенсией в 500 руб. – очень серьезная, исключительная награда по тем временам. В последующем служил на различных крупных должностях. В 1902–1906 гг. военный губернатор Амурской области.
Необходимо отметить, что деятельность Путяты является образцом преемственности. Точкой отсчета в активизации интереса Санкт-Петербурга к странам Восточной Азии является Кульджинский кризис 1879–1881 гг., когда пришло понимание необходимости считаться с появлением на Дальнем Востоке новых потенциальных военных противников – Китайской и Японской империй.
В качестве примера специальной работы по сбору и анализу военных данных о вооруженных силах вероятного противника мы приведем выдержки из рапорта прикомандированного в Вену как гражданское лицо корнета запаса Мятлева об австрийской коннице[61].
Фактически Мятлев осуществлял свою деятельность «под прикрытием», официально являясь гражданским человеком. Он являлся представителем дворянских кругов российской империи, владел имениями. В 1890 году он был зачислен с кавалерийской службы в запас и был оформлен в гражданскую службу в качестве чиновника для особых поручений VIII класса (всего было 9 классов)[62]. Напомним, что чиновники по особым поручениям состояли при министрах, губернаторах и других начальниках высокого уровня. В должностные обязанности чиновника по особым поручениям могли входить контрольно-инспекторские функции, обязанности, не распределенные между другими чиновниками аппарата управления того или иного ведомства или учреждения. То есть в государственной иерархии, несмотря на скромное армейское звание, Мятлев был далеко не последний человек.









