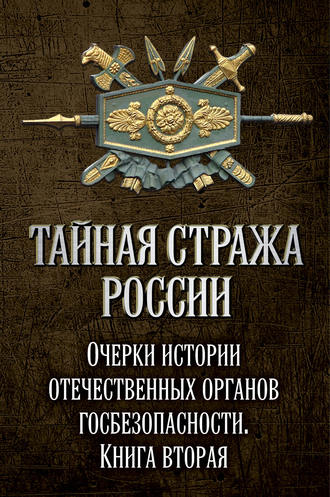
Полная версия
Тайная стража России. Очерки истории отечественных органов госбезопасности. Книга 2
Большими возможностями в проведении контрразведки накануне и в ходе русско-японской войны обладал департамент полиции. В середине 1904 г. в департамент поступили агентурные сведения о том, что Генеральный штаб Японии направил в район Черного моря 22 морских офицера, якобы для организации диверсий против русской Черноморской эскадры. Для проверки этих сведений департаментом полиции был командирован в Турцию подполковник Тржецяк (значился в департаменте полиции под псевдонимом Цитовский). Тржецяк организовал негласное агентурное наблюдение за японцами в Турции, Греции, Болгарии, Румынии и в районе Суэцкого канала. И хотя ему не удалось установить, что японские офицеры имели диверсионные задания, зато было сделано многое для изучения японского шпионажа в Турции и соседних с ней государствах[31].
В 1904 г. Разведочное отделение столкнулось в своей работе с трудностями с той стороны, откуда меньше всего их следовало ожидать: с жесткой конкуренцией со стороны Департамента полиции. Ротмистру Лаврову и его отделению противостояли колоритные личности из департамента: чиновник особых поручений И. Ф. Манасевич-Мануйлов и ротмистр М. С. Комиссаров, назначенный к этому времени начальником спецподразделения ДП – «Совершенно секретного отделения дипломатической агентуры». Это подразделение было создано МВД для противодействия японскому шпионажу и разведкам других держав, симпатизировавших Японии в ее военном конфликте с Россией.
В мае 1904 г. агенты Лаврова, следившие за графиней Комаровской, подозреваемой в шпионаже, заметили организованное за ней параллельное наружное наблюдение. Неизвестные действовали весьма профессионально. Контрразведчики Лаврова решили прекратить наблюдение и доложить о случившемся. Как вскоре выяснилось, «перехватили» Комаровскую филеры тайной полиции. Лавров в своем отчете впоследствии напишет: «Когда факт отобрания состоялся, Департамент полиции объяснил его тем, что он устраивает свою небольшую организацию для наблюдения за морскими военными агентами ввиду оказания помощи адмиралу Рождественскому…» Аналогичные «накладки» в работе Разведочного отделения и секретного подразделения ДП МВД имели место и при разработке других лиц, подозреваемых в шпионаже. В отчете Лаврова по данным фактам было записано: «Возможность повторения подобных случаев, совершенно очевидно парализующих работу Отделения, вызвала необходимость обсудить положение дел, вследствие чего 8 июня и последовало особое по сему поводу совещание». На нем представители ДП предложили устранить образовавшуюся двойственность и объединить усилия подразделения Лаврова с контрразведкой тайной полиции, – «но только на таких началах, – пишет Лавров, – которые неминуемо должны были бы привести к передаче Разведочного отделения и всего дела в ведение названного Департамента». Ротмистр Лавров, ссылаясь на установки руководства Главного штаба, от этого решительно отказался. Тогда пошли на компромисс и разграничили сферу деятельности, установив, что Разведочное отделение занимается наблюдением за «сухопутными» военными агентами, а Департамент полиции – за морскими. Однако данное решение осталось на бумаге. ДП имел бюрократическое преимущество – поддержка шефа жандармов, министра внутренних дел Плеве, а также мощь всего аппарата общей и тайной полиции. Предвидя дальнейшее осложнение ситуации, военное руководство Лаврова пошло на своеобразный маневр. Чтобы вывести его из-под подчинения Штабу корпуса жандармов, которому по административной линии он формально подчинялся, Лавров Высочайшим приказом от 17 июля как офицер ОКЖ был уволен в запас. Одновременно подготовили документы к возвращению его на военную службу, но уже не в Корпус жандармов, а в распоряжение Главного штаба, что и было сделано приказом императора от 14 августа 1904 г.
Организация контрразведки во время русско-японской войныНа Дальневосточном театре во время войны с Японией правовое регулирование борьбы со шпионажем и сама организация русской военной контрразведки имели некоторые особенности. Еще в мирное время с учреждением на Дальнем Востоке из Приамурского генерал-губернаторства и Квантунской области Особого наместничества[32] при последнем был создан Временный военный штаб. Разведывательное отделение этого штаба в качестве одной из обязанностей должно было осуществлять борьбу со шпионажем. С началом военных действий в русской армии вступило в силу «Положение о полевом управлении войск в военное время», которым не было предусмотрено создание какого-либо специального органа по ведению контрразведки. Этот факт дал в свое время повод некоторым исследователям заявить, что русская контрразведка в войне 1904–1905 гг. себя почти никак не проявила. Думается, что это излишне негативная оценка, связанная с общими военными и политическими неудачами в ходе данной войны.
Условно всю борьбу с японской разведкой на театре военных действий (ТВД) можно подразделить на два основных направления: борьба со шпионажем в действующей армии и в ее тылу.
Борьба с подрывной деятельностью японской разведки в действующей армии приобретает наиболее четкие организационные формы с октября 1904 г., когда все сухопутные войска на дальневосточном театре были разделены на три отдельные маньчжурские армии.
Общее руководство контрразведкой в действующей армии стало осуществляться штабом главнокомандующего всеми сухопутными и морскими силами на Дальнем Востоке. По свидетельству архивных материалов[33], в данном штабе за борьбу с иностранным шпионажем на театре военных действий отвечало разведывательное отделение управления генерал-квартирмейстера. Этот орган не был чисто контрразведывательным. Его основной задачей являлось руководство и осуществление войсковой и агентурной разведки. В то же время разведывательное отделение управления генерал-квартирмейстера штаба главнокомандующего проводило значительную работу и по линии контрразведки. Оно занималось обобщением и анализом особенностей подрывной деятельности японских спецслужб и вырабатывало для штабов армий соответствующие циркулярные указания, рекомендации и инструкции по борьбе с противником. Так, в июне 1905 г. штабом главнокомандующего была направлена в штабы армий инструкция для агентов-резидентов, занимавшихся контрразведкой против Японии[34].
Штабы армий являлись нижестоящим, по сравнению со штабом главнокомандующего, звеном организации контрразведки в действующей армии на дальневосточном театре военных действий. При каждом штабе армии Положением о полевом управлении войск в военное время предусматривалось создание для ведения агентурной разведки и контрразведки разведывательного отделения управления генерал-квартирмейстера. Постановка контрразведки в армиях показана К. К. Звонаревым на примере III армии.
Основным элементом контрразведки в армии являлись агенты-резиденты, которые располагались в больших населенных пунктах на важных дорогах. Они вели контрразведку в ближайшей прифронтовой полосе. При отходе русских войск агенты-резиденты оставались на этой территории и уже выполняли функции разведки, сообщая о передвижениях японских войск. Агенты-резиденты осуществляли контрразведку через осведомителей, которые добывали первичную информацию о японских шпионах. К проведению контрразведки привлекались также и агенты-ходоки. В штабе III армии с мая по август 1905 г. работали в интересах контрразведки 21 агент-резидент и 46 агентов-ходоков.
Контрразведка в I и II армиях в общих чертах была такой же, как и в III армии.
Низшим звеном организации контрразведки в действующей армии, как об этом свидетельствует опыт русско-японской войны, являлись штабы корпусов, дивизий и некоторых частей.
В корпусах и дивизиях за организацию контрразведывательной работы отвечали непосредственно сами начальники штабов, а в частях – их коменданты. Начальники штабов соединений и тем более коменданты штабов частей не располагали, согласно утвержденному штату, какими-либо подразделениями, которые бы специально занимались борьбой с иностранным шпионажем. Эту работу указанные выше лица должны были проводить, в буквальном смысле слова, собственными силами, являясь одновременно и организаторами и исполнителями данного рода деятельности. Однако по инициативе наиболее предприимчивых начальников корпусов и отдельных отрядов и с ведома вышестоящего военного начальства в некоторых соединениях (корпусах и отдельных отрядах) создавались «бюро» по борьбе со шпионажем. Во главе этих органов были поставлены офицеры Генерального штаба или военноопределяющиеся – бывшие студенты института восточных языков. Агентурная сеть некоторых «бюро» по своей численности и качеству не уступала агентуре штабов армий.
Несколько обособленно от организации борьбы с японским шпионажем в действующей армии строилась контрразведка в тылу русской армии, где этой деятельностью занимались отдельные должностные лица и подразделения самых разных ведомств, среди которых в первую очередь необходимо иметь в виду армейских должностных лиц. В армии за борьбу со шпионажем в ее тылу несли ответственность начальник управления транспортов штаба главнокомандующего и разведывательные отделения штаба начальника тыла, а также начальник этапов[35] главнокомандующего. Кроме того, контрразведку в тылу армии вели аппарат самого наместника Дальнего Востока, разведывательные отделения военных комиссаров трех провинций Маньчжурии (Гиренской, Мукденской и Хейлудзянской), отчетное и разведывательное отделения штаба обороны Приморской области, охранные отделения департамента полиции и жандармско-полицейские подразделения на Китайской восточной железной дороге[36]. Большую контрразведывательную работу в тылу проводили подразделения пограничной охраны, в частности, разведывательное отделение Заамурского округа отдельного корпуса пограничной стражи.
Степень участия всех перечисленных выше ведомств в контрразведке была различной и во многом зависела от энтузиазма лиц, которые непосредственно вели борьбу с подрывной деятельностью иностранных разведок. Значительных результатов, например, в деле организации контрразведки достигли начальник управления транспортов генерал Н. А. Ухач-Огорович и военный комиссар Мукденской провинции полковник М. Ф. Квецинский.
Ухач-Огорович для руководства агентами привлек Ивана Персица, опытнейшего сыщика, служившего ранее в различных сыскных органах. К июню 1905 г. штат службы Ухач-Огоровича состоял из одного офицера, одного писаря, одного переводчика и примерно из 100 человек агентов, из которых 60 были постоянными, а 40 работали сдельно.
Заслуга мукденского военного комиссара в деле борьбы с японским шпионажем заключалась в том, что он сумел организовать и открыть школу по подготовке агентов-ходоков, с появлением которых заметно улучшилось ведение разведки и контрразведки в интересах русской армии.
Подводя общий итог организации контрразведки в России в начале XX в., необходимо признать, что усиленное ее развитие в данный период было вызвано в первую очередь причинами военного характера, в частности, опасностью возможных военных конфликтов России с другими враждебными государствами. Это заставило Россию пойти на принятие некоторых мер безопасности, которые развивались в основном в направлении, соответствовавшем интересам русской военной оборонческой доктрины.
Русско-японская война 1904–1905 гг. явилась следующим шагом на пути развития в России контрразведывательной службы, но уже применительно к условиям военного времени. Практика организации и ведения боевых действий на Дальнем Востоке убедила командование русской армии в необходимости заниматься контрразведкой во всех основных звеньях армейской системы. Такими звеньями являлись: штаб главнокомандующего всеми сухопутными и морскими вооруженными силами на Дальнем Востоке, штабы армий, корпусов, дивизий, отдельных отрядов и частей.
Контрразведка в тылу русской армии на дальневосточном ТВД представляла из себя деятельность различных ведомств, почти полностью разрозненных между собой и не связанных тесным взаимодействием с контрразведкой самой действующей армии.
Разрозненность, как болезнь контрразведывательной деятельности, была характерна не только для дальневосточного театра военных действий, но и для русской контрразведки в целом, где бы она ни проводилась. Этот недостаток был вполне закономерен, так как шел процесс организационного поиска в строительстве контрразведывательной службы России.
Основные силы военной контрразведки России в 1904–1905 гг. концентрировались на Дальнем Востоке, в то время как главным направлением деятельности агентуры Департамента полиции являлась Западная Европа. Отдельные контрразведывательные операции русской контрразведкой проводились и на территории самой России, и в областях, граничивших с театром военных действий (Китай, Гонконг, Корея, Сингапур, Япония), а также в странах Западной Европы, на Балканах и на севере Африки.
Военные агенты (атташе) полковник Ф. Е. Огородников в Пекине, генерал К. Н. Десино в Шанхае и их помощники капитаны А. Е. Едрихин, барон С.В. фон дер Ховен, Афанасьев обслуживали в разведывательном и контрразведывательном отношениях в дальневосточном регионе главным образом действующую армию и получали инструкции из штаба наместника на Дальнем Востоке, а после его упразднения – в штабе главнокомандующего.
Разведку и контрразведку на Дальнем Востоке проводили также и другие российские ведомства, находившиеся в годы войны в Китае. По линии МИД – посол П. М. Лессар, консулы К. В. Клейменов, X. П. Кристи, Н. В. Лаптев, П. Г. Тидеман и выполнявший специальную миссию в Шанхае А. И. Павлов. По линии Министерства финансов такую работу проводили: член правления Русско-Китайского банка Л. Ф. Давыдов и коллежский советник Н. А. Распопов[37].
Оценивая опыт организации русской контрразведки накануне и в ходе русско-японской войны, царскому правительству следовало бы признать этот опыт заслуживающим определенного внимания. В военном ведомстве России впервые в условиях локальной империалистической войны были предприняты попытки постановки контрразведывательной деятельности в таком широком масштабе. В организации этой деятельности трудно было избежать недостатков, главным среди которых, на наш взгляд, являлась разобщенность органов в борьбе с подрывной деятельностью противника. Но, как нам представляется, наличие недостатков должно было бы еще в большей мере продиктовать необходимость изучить первый опыт организации контрразведки в условиях войны, выявить и обобщить имевшие место ошибки и сделать соответствующие выводы на будущее. Но руководство России не сумело дать правильной оценки всему тому положительному, что было выработано в организации контрразведки в ходе русско-японской военной кампании. Не были проанализированы и имевшиеся недостатки в этой деятельности, с тем чтобы и в будущем более эффективно использовать приобретенный опыт в борьбе с иностранными разведками.
Забегая несколько вперед, отметим, что только лишь в ходе Первой мировой войны, в 1915 г., руководство военного ведомства России обратилось к опыту постановки контрразведки в 1904–1905 гг. с целью использования его в новой войне. В частности, это нашло свое отражение в подходе к выработке системы органов контрразведки на театре военных действий.
После окончания русско-японской воины и перевода армии на мирное положение органы, отвечавшие за борьбу со шпионажем на театре военных действий, были упразднены.
Единственный орган контрразведки сохранился только в столице, в Петербурге, и это было Разведочное отделение, перешедшее в подчинение Главного управления Генерального штаба (ГУГШ). В преддверии готовящейся мировой войны работа контрразведывательного подразделения ГУГШа активизировалась. Его сотрудники под руководством полковника В. Н. Лаврова добились существенных результатов в борьбе с военным шпионажем в столице. Венцом его работы на посту начальника Разведочного отделения стало разоблачение шпионской деятельности агента австро-венгерской разведки барона Унгерн-Штернберга. Его «куратор» – военный атташе граф Спанноки был выдворен из страны. В августе 1910 г. В. Н. Лавров, представленный за отличия в службе к правительственной награде, сдал дела своему преемнику подполковнику Отдельного корпуса жандармов В. А. Ерандакову. До начала Первой мировой войны оставалось ровно четыре года.
Деятельность иностранных разведок друг против друга приобретает в этот период повсеместный тотальный характер, и Россия, как никакое другое государство, ощутила это на себе. Встал вопрос о необходимости придания организации контрразведки системного характера. Первые шаги в этом направлении были предприняты на рубеже XIX–XX вв. При штабах Петербургского, Виленского, Варшавского, Киевского, Одесского, Московского, Кавказского, Туркестанского военных округов и Приамурского и Заамурского округов пограничной стражи существовали предусмотренные военными штатами еще в начале XX в. отчетные отделения, главной задачей которых была разведка. На отчетные отделения была возложена обязанность и контрразведки. В июне-августе 1906 г. в штабах военных округов, сначала припограничных, стали формироваться разведывательные отделения. На первых порах они иногда были нештатными. К вновь сформированным отделениям перешли и функции по организации борьбы со шпионажем.
Однако во внутренних военных округах вопросами борьбы со шпионажем продолжали ведать отчетные и строевые отделения[38]. Каждый военный округ, как правило, занимал территорию нескольких губерний. Малочисленные по своим штатам перечисленные выше органы военных округов не могли на всей занимаемой ими территории успешно бороться со шпионажем. В связи с этим обязанность по борьбе со шпионами в этот период по-прежнему пытались возлагать на органы МВД. Но так как полиция и жандармерия своими основными задачами считали политический сыск, а в деле военной контрразведки были не совсем компетентны, то иностранный шпионаж в России опять оставался часто занятием безнаказанным.
Такое состояние борьбы со шпионажем в России очень тревожило высших военных чиновников. Так, например, начальник Генерального штаба в своем отношении от 11 января 1907 г. отметил неудовлетворительную работу жандармской полиции по осуществлению надзора за иностранцами, путешествующими по России с разведывательными целями. Здесь же начальник Генерального штаба приказал возложить эти обязанности на воинских начальников, отвечавших за передвижение войск. Но это приказание не было в дальнейшем подкреплено никакими дополнительными материальными и организационными мерами, поэтому решение данной проблемы с места не сдвинулось. Это было признано и самим управлением военных сообщений, отвечавшим за выполнение данного приказания. В частности, в докладе на имя начальника Генерального штаба в апреле 1909 г. сообщалось, что двухлетний опыт наблюдения за иностранцами положительных результатов не дал: не хватало денег, служащие и чиновники по передвижению войск могли наблюдать за иностранцами только на своих участках, не было своей агентуры и в принципе наблюдение осуществлялось через жандармов, то есть как и ранее[39]. В связи с этим было решено вновь сделать жандармерию ответственной за осуществление контрразведки на транспорте и вернуться, таким образом, к тому, от чего отказались два года назад.
На Дальнем Востоке Военное министерство пыталось усилить дело контрразведки за счет подразделений отдельного корпуса пограничной стражи, но успеха это также не имело.
Возрастание в Европе удельного веса Германии подстегнуло гонку вооружений и обострило противоречия между Антантой и Тройственным союзом. В сложившейся внешнеполитической обстановке Россия занимала особое положение. К ней было приковано повышенное внимание разведывательных служб как потенциальных противников, так и союзников. Активность иностранных разведок потребовала принятия срочных мер по защите секретов, в первую очередь военных.
На повестке дня встал вопрос о создании качественно новой службы – системы органов отечественной контрразведки.
От органа контрразведки к системе контрразведки в РоссииМинистерства и ведомства царской России, имевшие отношение к борьбе со шпионажем, начинают предпринимать попытки к поиску путей более эффективной организации контрразведывательной службы.
Первым начало принимать соответствующие меры армейское командование. В 1908 г. во время киевского съезда старших адъютантов разведывательных отделений штабов военных округов была выработана общая система организации контрразведки в мирное время. Согласно этой системе, контршпионажем должны были заниматься чины отдельного корпуса жандармов и пограничной стражи под общим руководством старших адъютантов разведывательных отделений штабов военных округов. Координацию их деятельности предполагалось возложить на 5-е делопроизводство ГУГШ. Эти предложения легли в основу проекта «Инструкции по контрразведке», составленной офицерами Генштаба. Начальник Генерального штаба Ф. Ф. Палицын обратился с письмом в МВД, в котором предлагал порядок координации деятельности всех заинтересованных ведомств. П. А. Столыпин, занимавший должности председателя Совета министров России, министра внутренних дел и шефа жандармов, согласился с необходимостью ликвидации «пустот» в сфере безопасности, но вместе с тем отверг предложение военных о возложении «исполнительных функций всецело на жандармские и полицейские учреждения» при руководящей роли штабов военных округов. Он отмечал, что «контрразведка, в сущности, является лишь одной из отраслей политического розыска» (на наш взгляд, достаточно спорное утверждение. – Л.Я.). Кроме того, по мнению П. А. Столыпина, в штабах военных округов не было квалифицированных кадров, знающих достаточно хорошо «техническую сторону розыска». С точки зрения премьера, эффективное взаимодействие с военными могли бы осуществлять районные охранные отделения. Что же касается финансирования контрразведывательной деятельности, то, по его мнению, расходы розыскных учреждений МВД на наем специальных агентов должно нести военное ведомство.

Ф. Ф. Палицын
Руководители армии согласились с предложениями Столыпина и делегировали своих представителей для участия в работе комиссии, которая была создана 10 декабря 1908 г. под председательством директора Департамента полиции действительного статского советника М. И. Трусевича. В нее вошли исполняющий обязанности вице-директора ДП МВД коллежский советник С. Е. Виссарионов, заведующий особым отделом департамента полковник Е. К. Климович и состоящий при особом отделе подполковник В. А. Беклимишев. Интересы военного ведомства представляли полковник Генерального штаба Н. А. Монкевиц – делопроизводитель Разведывательного отделения, его помощник капитан С. Л. Марков и отвечавший за разведработу в штабе Киевского военного округа старший адъютант Разведывательного отделения полковник А. А. Самойло. Морское ведомство делегировало начальника иностранной части Морского Генштаба капитана II ранга Б. И. Доливо-Добровольского[40].
С этого момента в истории контрразведки начинается этап по созданию системы специальных органов контрразведки и выработке их статуса. Работа по поиску путей формирования системы контрразведки заняла около трех лет.
28 марта 1909 г. комиссия собралась на межведомственное совещание. На этом совещании были рассмотрены материалы, характеризующие огромные размеры шпионской деятельности в России разведок Австро-Венгрии, Германии, Японии и других государств, а также методы и способы получения ими секретных сведений. Комиссия в ходе своей работы впервые выработала определение контрразведки как вида деятельности. «Контрразведка (борьба со шпионством), – по мнению этой комиссии, – заключается в своевременном обнаружении лиц, занимающихся разведкой для иностранных государств, и в принятии вообще мер для воспрепятствования разведывательной работе этих государств в России. Конечная цель контрразведки есть привлечение к судебной ответственности уличенных в военном шпионаже лиц на основании ст. 108–119 Угол. уложения 1903 г. или прекращение вредной деятельности названных лиц хотя бы административными мерами»[41].
Комиссия выработала четыре варианта организации контрразведывательной службы: 1-й – контрразведывательное отделение (КРО) состоит в непосредственном ведении военного командования, а органы Департамента полиции оказывают содействие и помощь; 2-й – контрразведка возлагается на охранные отделения под руководством ДП МВД; 3-й – КРО одновременно подчиняется и штабу военного округа, и охранному отделению; 4-й – КРО учреждается отдельно от охранных отделений и подчиняется ДП[42]. Было принято решение остановиться на 4-м варианте.
Отдав предпочтение этому проекту, совещание тем самым отступило от принципа, который был положен в основу организации Разведочного отделения в 1903 г., то есть образование органов контрразведки при военном ведомстве. Межведомственное совещание здесь допустило ошибку, и это застопорило на некоторое время создание специальных органов контрразведки России.









