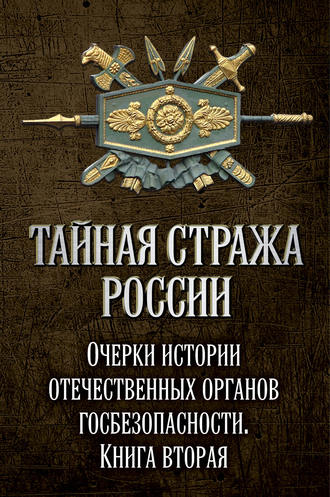
Полная версия
Тайная стража России. Очерки истории отечественных органов госбезопасности. Книга 2
К середине 1909 г. предполагалось создать: два контрразведывательных отделения в Петербурге, по одному – в Варшаве, Киеве, Вильно, Иркутске и Владивостоке. Содержание этих отделений должно было обходиться казне в 251 520 руб. в год[43]. Эта сумма, по логике, должна была стать добавкой к тому, что выделялось ежегодно в 1906–1909 гг. на секретные расходы (разведку) ГУГШ (344 160 руб. в год). Однако денег у правительства не нашлось ни в 1909, ни в 1910 гг. Поэтому все планы по совершенствованию контрразведки пришлось отложить на неопределенный срок. М. И. Трусевич вскоре был смещен со своей должности, и фактическое руководство русской тайной полицией перешло в руки генерал-лейтенанта П. Г. Курлова – товарища министра внутренних дел и командира Отдельного корпуса жандармов.
28 марта 1909 г., как говорилось выше, состоялось заседание межведомственной комиссии, на котором было выработано «Положение о контрразведывательных отделениях» и «Правила для словесного наставления лиц, руководящих контрразведкой». Однако дальше дело не пошло, и на следующем заседании в марте 1910 г. комиссия признала, что: «Дело организации органов контрразведки, в том числе установление негласного надзора за путями тайной разведки иностранных государств против Российской империи, должным образом не налажено. Функции контрразведывательных органов в настоящее время используются разрозненно, отчасти чинами корпуса жандармов, отчасти ГУГШ, отчасти Морского Генерального штаба (МГШ), а также разведывательными отделениями штабов округов. В связи с этим, с целью усиления мер борьбы с военным и военно-морским шпионажем против Российской империи, введения единоначалия и повышения эффективности органов контрразведки, межведомственная комиссия предлагает соответствующим министерствам и главным штабам этих министерств приступить к разработке и созданию единого органа, который взял бы на себя единолично функцию контрразведки, охраны военных секретов и безопасности Российской империи»[44].
29 июля 1910 г. под председательством генерал-лейтенанта П. Г. Курлова вновь состоялось заседание комиссии при МВД, которая рассмотрела вопрос организации контрразведывательной службы. Ознакомив присутствующих представителей ГШ и МГШ с журналом заседаний межведомственной комиссии в 1909 г., председатель высказался против учреждения контрразведывательных отделений по схеме № 4. Заявление свое он мотивировал тем, что Департамент полиции не обладает специальными знаниями организации русской и иностранных армий и вследствие этого не может эффективно руководить контрразведывательной службой. Курлов предложил наметить организацию контрразведывательных отделений при военно-окружных штабах, но с тем условием, что для руководства ими будут откомандированы офицеры отдельного корпуса жандармов, знакомые с делом розыска и имеющие полномочия по производству обысков и арестов. Таким образом, органы Департамента полиции должны были тесно взаимодействовать с контрразведкой и оказывать ей всяческую помощь. Это предложение было принято членами межведомственной комиссии как очередная рабочая версия.
Следуя решению комиссии от 29 июля 1910 г., Генеральный штаб по согласованию с министерствами внутренних и иностранных дел стал прорабатывать систему организации самостоятельных контрразведывательных отделений в структуре вооруженных сил. По этой схеме в военном ведомстве должны были быть образованы: Петроградское городское, Петроградское окружное, Московское, Виленское, Одесское, Варшавское, Киевское, Тифлисское, Ташкентское, Иркутское и Хабаровское контрразведывательные отделения (бюро). Таким образом, на территории империи учреждалось 11 КРО. Районы деятельности трех отделений не совпадали с территориями округов, при штабах которых они создавались. Одесское отделение должно было действовать в пределах Одесского военного округа и войска Донского, Московское – в районах Московского и Казанского военных округов, Иркутское – на территории Омского и Иркутского округов.
Рассматривая материалы межведомственных совещаний, автор обратил внимание на отсутствие в них какого-либо упоминания о Разведочном отделении ГУГШ. Более того, с молчаливого согласия полковника Монкевица, представлявшего на совещаниях интересы Генерального штаба, комиссия констатировала в своих протоколах, что к моменту ее работы (1908–1910 гг.) в России вообще не существовало какого-либо специального контрразведывательного органа.
Автор не может согласиться с этим утверждением, согласно которому следует, что организация и деятельность Разведочного отделения не были связаны с образованной в 1911 г. системой контрразведывательных органов. Несостоятельность подобного утверждения может быть раскрыта, если доказать что Разведочное отделение было образовано и действовало как контрразведывательный орган, тесно связанный с последующим развитием контрразведки в России. Кроме того, необходимо показать также причины замалчивания на совещаниях факта существования Разведочного отделения.
Однако образованное Разведочное отделение было первым специальным органом контрразведки. Нетрудно доказать, что такую же оценку данному органу давали и представители самого военного ведомства царской России. Для этого достаточно сослаться на «Выписку из отчета Главного управления Генерального штаба за 1906–1907 гг. о контрразведывательной деятельности управления». Отчет был составлен по результатам деятельности Разведочного отделения[45]. Значит, по мнению ГУГШ, Разведочное отделение занималось контрразведывательной деятельностью, а другие задачи на это отделение, согласно проекту об его образовании, на него и не возлагались. Еще раньше, в 1905 г., руководство Главного штаба считало, что после окончания русско-японской войны деятельность Разведочного отделения не будет ограничиваться только территорией Петербургского военного округа, а распространится и на другие округа империи. Забегая немного вперед, отметим, что созданные в военных округах в 1911 г. контрразведывательные органы были тождественны с Разведочным отделением как по принципам их комплектования, так и по принципам их внутренней организации и самой контрразведывательной деятельности. На базе самого Разведочного отделения, по свидетельству архивных материалов, было создано Петербургское городское контрразведывательное отделение. Имеется, например, прямое указание на то, что Петербургское городское контрразведывательное отделение существовало с 1903 г., называлось оно сначала «разведочным отделением» и что 9 августа 1910 г. начальник Разведочного отделения полковник Лавров передал дела по описи полковнику Ерандакову – будущему начальнику Петербургского городского контрразведывательного отделения.
13 августа 1910 г. полковник Лавров за заслуги по руководству Разведочным отделением в «ведении наблюдения за деятельностью иностранных военных атташе в С. Петербурге и по борьбе с военным шпионством в этом городе и его окрестностях» был представлен к правительственной награде. Представление на награждение Лаврова было подготовлено в 5-м делопроизводстве части 1-го обер-квартирмейстера управления генерал-квартирмейстера ГУГШ. Начальник 5-го делопроизводства полковник Монкевиц присутствовал на всех межведомственных совещаниях 1909–1910 гг., но о роли Разведочного отделения как специального органа контрразведки он на этих совещаниях не упоминает. В связи с этим можно сделать вывод, что полковнику Монкевицу были даны указания от ГУГШ не только не афишировать, но и вообще не упоминать о Разведочном отделении.
Одной из причин замалчивания существования Разведочного отделения как органа контрразведки бесспорно могло являться то, что при его образовании в 1903 году в докладной записке, представленной А. Н. Куропаткиным Николаю II, была обоснована необходимость засекретить сам факт его создания. Так, в записке говорилось: «Официальное учреждение сего отделения представлялось бы неудобным в том отношении, что при этом теряется главный шанс на успех его деятельности, именно тайна его существования»[46]
Но, вероятно, могла быть и другая причина замалчивания. В частности, Генеральному штабу, ввиду подготовки царским правительством проекта закона «Об отпуске из государственной казны средств на секретные расходы Военного министерства», выгодно было представить дело таким образом, что контрразведку предстоит создавать в условиях полнейшей ее неорганизованности (на чистом месте). В таком случае легче было заполучить от государственной казны желаемую сумму. Отсутствие до этого специального кредита на контрразведку заметно сдерживало работу Разведочного отделения, которое существовало исключительно за счет внутренних резервов ГУГШ.

А. Н. Куропаткин
То, что с августа 1910 г. до апреля 1911 г. в архивах не удалось обнаружить ни одного документа о деятельности Разведочного отделения, думается, тоже не случайно. По всей вероятности, Генеральный штаб решил до выхода закона об ассигнованиях на секретные расходы временно не оставлять никаких документов о деятельности Разведочного отделения, с тем чтобы после принятия закона преобразовать его в более мощный контрразведывательный орган. И действительно, Петербургское городское контрразведывательное отделение, созданное впоследствии на базе Разведочного отделения, превосходило последнее по своей численности в 2 раза, а по ассигнованиям на его нужды – в 3,5 раза. Это стало возможным благодаря принятому 7 апреля 1911 г. закону «Об отпуске из государственной казны средств на секретные расходы Военного министерства»[47], согласно которому на разведку и контрразведку выделялось дополнительно 1 443 720 руб.[48]
Независимо от значимости обозначенных выше причин замалчивания существования Разведочного отделения бесспорным фактом остается то, что это был реально существовавший первый орган контрразведки, хотя и строго засекреченный, в силу чего о его существовании знал очень ограниченный круг людей даже среди сотрудников ГУГШ. А если взять во внимание, что и сам термин «контрразведка» среди специалистов стал употребляться только после создания контрразведывательных отделений (КРО) в 1911 г., то становится понятным, почему в советской историографии долгое время, вплоть до начала 80-х гг. XX столетия, существовала точка зрения о том, что датой образования отечественной контрразведки как государственной структуры следует считать именно 1911 г., когда было принято Положение о контрразведывательных отделениях. Данной точки зрения, в частности, придерживался и известный советский деятель органов государственной безопасности, специалист в области исследования истории разведки и контрразведки царской России генерал-майор Иосиф Илларионович Никитинский.
На наш взгляд, такое утверждение не вписывается в методологию определения статуса государственных структур на стадии их становления и развития. Разведочное отделение, с точки зрения общей теории государства, как об этом уже говорилось выше, уже в 1903 году обладало всеми признаками государственного органа. А в 1911 г. государственная организация российской контрразведки приобретает новое качество: в соответствии с «Положением о контрразведывательных отделениях» создается система органов контрразведки.
Создание системы контрразведки по Положению 1911 г.«Положение о контрразведывательных отделениях» с приложениями: 1) ведомость районов деятельности КРО; 2) штаты КРО; 3) инструкция начальникам КРО; 4) правила регистрации КРО; 5) инструкция начальникам КРО по расходованию сумм и ведению отчетности – было утверждено 8 июня 1911 г. военным министром В. А. Сухомлиновым.
Перед органами контрразведки ставилась цель защищать интересы обороны империи от иностранного «военного шпионства».
На КРО были возложены обязанности по борьбе с деятельностью иностранных разведок, направленной на подготовку в России вооруженных восстаний; создание военных формирований из пограничного инородческого населения; выведение из строя искусственных сооружений; сбор среди неблагонадежного населения империи денежных средств на военные надобности иностранных государств. КРО должны были также расследовать забастовки и стачки на заводах военного и морского ведомств, если они подготавливались иностранными разведками, и выявлять каналы связи разведок со своей агентурой.
В структуре военной контрразведки России по «Положению» 1911 г. предусматривался центральный орган контрразведки и местные КРО.
Руководство всеми этими органами контрразведки осуществлял отдел генерал-квартирмейстера ГУГШ, подчинявшийся непосредственно начальнику Генерального штаба. Все делопроизводство по контрразведывательным отделениям и переписка по вопросам о борьбе с военным шпионажем сосредоточивались в особом делопроизводстве отдела генерал-квартирмейстера Генерального штаба. Особое делопроизводство являлось также связующим органом между отделом генерал-квартирмейстера ГУГШ и местными КРО. Согласно второму параграфу «Положения», при особом делопроизводстве ГУГШ для ведения переписки, организации регистрации шпионов и оказания помощи делопроизводителю особого делопроизводства ГУГШ образовывался центральный регистрационный орган. Этот орган создан 1 ноября 1911 г., и во главе его поставлен подполковник отдельного корпуса жандармов Якубов. В литературе и архивных материалах встречаются самые различные названия этого органа: Центральный регистрационный орган, Центральное регистрационное бюро, Регистрационное бюро, Регистрационное отделение особого делопроизводства ГУГШ (РООД ГУГШ).
Центральное место по решаемым задачам среди создаваемых контрразведывательных органов отводилось Петербургскому городскому КРО, подчинявшемуся отделу генерал-квартирмейстера ГУГШ.
Прослеживая далее историю развития Петербургского городского КРО, мы увидим, что в апреле 1914 г. оно было объединено с Регистрационным отделением особого делопроизводства ГУГШ под общим руководством Петербургского КРО. В результате объединения этих двух органов образовано Контрразведывательное отделение ГУГШ (КРО ГУГШ).
Основу системы военной контрразведки по «Положению» 1911 г. составляли местные КРО, которые образовывались при десяти штабах военных округов. Это были Петербургское, Московское, Виленское, Варшавское, Киевское, Одесское, Тифлисское, Ташкентское, Иркутское и Хабаровское контрразведывательные отделения. Деятельность этих КРО распространялась соответственно на территории: Петербургского военного округа, Московского и Казанского военных округов, Виленского военного округа, Варшавского военного округа, Киевского военного округа, Одесского военного округа и области войска Донского, Кавказского военного округа, Туркестанского военного округа, Иркутского и Омского военных округов, Приамурского военного округа. Во всех этих округах контрразведывательные органы вводились не одновременно и носили неодинаковые наименования.
Контрразведывательные органы непосредственно сами могли устанавливать контакты между собой, с жандармскими и полицейскими властями своего района. С жандармскими и полицейскими властями других районов взаимодействие осуществлялось через соответствующие контрразведывательные отделения, а с военными властями и другими учреждениями – через отдел генерал-квартирмейстера Генерального штаба (по особому делопроизводству).
С жандармскими властями наиболее часто приходилось взаимодействовать по вопросам производства ликвидаций[49] шпионских дел. Исполнителями ликвидаций выступали начальники губернских жандармских управлений и охранных отделений.
Состав всех контрразведывательных отделений определялся прилагаемой к «Положению» специальной ведомостью.
В каждом КРО предусматривались должность начальника и помощника начальника отделения[50]. В зависимости от размеров обслуживаемой тем или иным контрразведывательным отделением территории, в них предусматривалось от 1 до 3 чинов для поручений; от 1 до 4 старших наблюдательных агентов; от 6 до 12 младших наблюдательных агентов.
Казна ежегодно должна была выделять Военному министерству на нужды контрразведки по 843 тыс. руб., однако реально отделения получали меньше на 200–260 тыс. руб. Общая сумма «секретных» расходов Военного министерства в 1911 г. составила 1 947 850 руб., в том числе на разведку – 891 920 руб. и на контрразведку – 583 500 руб.[51]
Выделяемые суммы на контрразведку распределялась следующим образом: на секретную агентуру и оплату ценной информации – 246 тыс. руб., жалованье служащим – 157 260 руб., на служебные разъезды – 63 600 руб., наем и содержание канцелярий – 33 840 руб., услуги переводчиков – 12 600 руб., содержание конспиративных квартир – 12 600 руб.[52] Таким образом, почти 43 % всех денег шли на оплату услуг агентуры, которая являлась важнейшим средством контрразведки. Самая крупная сумма предназначалась Санкт-Петербургскому (городскому) отделению. Этот орган обеспечивал безопасность центральных военных учреждений империи и противодействовал подрывным действиям иностранных дипломатов в столице Российского государства. На втором месте по финансированию находилось Хабаровское КРО, задачей которого являлась борьба с мощной японской разведкой. Варшавское и Киевское отделения, противодействовавшие германской и австрийской разведкам в западных приграничных губерниях, получили третью по объему сумму ассигнований. Четвертую позицию по выделяемым средствам занимало Иркутское контрразведывательное отделение, в зоне ответственности которого находилась огромная территория всей Сибири. На этой территории Иркутское КРО вело борьбу с китайской, японской и другими разведками. Наиболее скромные суммы достались Тифлисскому и Одесскому отделениям. Они противостояли относительно слабым разведслужбам Австро-Венгрии, Турции и балканских государств.
Начальником Генерального штаба генералом от кавалерии Я. Г. Жилинским 6 июня 1911 г. были утверждены штаты КРО. Начальники окружных штабов в течение месяца представили отделу генерал-квартирмейстера ГУГШ кандидатуры начальников КРО. 4 июля начальник Генерального штаба обратился к командиру отдельного корпуса жандармов, заявив, что представляется возможным теперь приступить к формированию контрразведывательных отделений, и просил командировать в распоряжение генерал-квартирмейстера ГУГШ и начальников окружных штабов «намеченных» жандармских офицеров.
Генерал-лейтенант Курлов 12 июля отправил своих подчиненных к их новому месту службы. Среди начальников контрразведывательных отделений 7 начальников имели чин ротмистра и 4 – подполковника, четверо из них до этого состояли на службе в охранных отделениях. По характеристикам своих начальников, все они были опытными и энергичными офицерами. Ротмистр Немысский возглавил контрразведывательное отделение штаба Санкт-Петербургского военного округа, подполковник князь Туркестанов – Московского, подполковник Аплечеев – Одесского, ротмистр Муев – Варшавского, ротмистр Беловодский – Виленского, ротмистр Зозулевский – Туркестанского, ротмистр Куприянов – Иркутского.
Чтобы должность начальника контрразведки выглядела в глазах жандармов более привлекательной, было предусмотрено достаточно крупное «добавочное содержание» – 3600 руб. в год. В общей сложности начальники отделений получали в зависимости от чина 5500–5800 руб. в год, что в 2,5 раза превышало средний годовой оклад жандармского ротмистра и превышало обычное денежное содержание командира пехотной бригады в чине генерал-майора.
Сложнее было найти кандидатов на должности помощников начальников КРО, хотя им также полагалось «добавочное содержание» по 1200–1500 руб. В § 9 «Положения о контрразведывательных отделениях» содержалось требование, чтобы помощниками начальников отделений назначались армейские офицеры и, в крайнем случае, – жандармы.
Кроме того, в каждом отделении предусматривался незначительный обслуживающий персонал. Весь штат работников отделений колебался от 22 человек в Хабаровском КРО и до 10 человек в Петербургском окружном КРО. Наибольшие расходы на служебные и секретные нужды были определены для Петербургского городского КРО.
«Положение о контрразведывательных отделениях» 1911 г. впервые оформило образование системы органов контрразведки России, определило направления развития сил, средств, форм и методов контрразведывательной работы. Это «Положение» не могло не оказать благоприятного влияния на борьбу с иностранным шпионажем.
Некоторые вопросы организации военной контрразведки по «Положению» были сформулированы неудачно, что и вскрылось вскоре в ходе последующей практической деятельности КРО. Одним из недостатков «Положения» являлся вопрос о подборе начальников КРО и их помощников. К этим лицам, которые были представителями отдельного корпуса жандармов, в военной среде относились с большой неприязнью, что, безусловно, влияло на результат работы.
«Положение» умалчивало о характере существования КРО, то есть в документе ничего не говорилось об их гласности или негласности. Практика показала, что здесь пошли по пути негласности КРО, как это было в свое время определено в отношении Разведочного отделения. Усилению негласных принципов в организации КРО должно было способствовать, например, распоряжение ГУГШ о том, что начальники контрразведывательных отделений обязаны носить не жандармскую, а штабную адъютантскую форму. Критикуя в последующем негласность положения контрразведки, некоторые специалисты по розыску утверждали: «Дело борьбы с иностранным шпионажем должно быть популярным, национально-патриотическим, широко охватывающим всё население, все слои общества, все правительственные учреждения, независимо от того, к какому они принадлежат ведомству»[53]. К недостаткам «Положения» надо отнести также малочисленность установленных для КРО штатов и полную зависимость органов военной контрразведки от жандармских и полицейских властей в производстве уголовно-процессуальных действий.
Помимо указанных недостатков, чины департамента констатировали некоторую отчужденность КРО от жандармских управлений и охранных отделений. Она выражалась в том, что начальник КРО в своих требованиях к начальникам ГЖУ и охранных отделений о проведении совместных оперативно-розыскных мероприятий не считал нужным посвящать последних в существо дела. В этих случаях роль жандармерии и охранки сводилась лишь к формальному исполнению ими требований контрразведки. Жандармерия и охранка не имели возможности самостоятельно проводить расследования и оперативные разработки подозреваемых в шпионаже лиц.
В данном случае, видимо, руководство контрразведки не считало нужным посвящать органы жандармерии в свои дела, исходя из того, что в «Положении о контрразведывательных отделениях» (1911 г.) было указано, что начальники КРО подчинены генерал-квартирмейстерам окружных штабов, при которых созданы. Однако начальниками отделений были офицеры Отдельного корпуса жандармов, и они считались прикомандированными к местным жандармским управлениям. В силу этого обстоятельства начальники жандармских управлений были убеждены в том, что офицеры контрразведки обязаны беспрекословно выполнять их приказания. Выходило, что контрразведка в провинции имела двойное подчинение, причем каждое начальство (военное и жандармское) стремилось продемонстрировать свою исключительную власть над контрразведывательным отделением.
Совершенствование организации контрразведки во время I-й мировой войныВ действующей армии на театре военных действий, независимо от органов КРО, образованных по «Положению» 1911 г., была создана дополнительная система контрразведки. В правовом отношении это было оформлено Наставлением по контрразведке в военное время, утвержденном Верховным главнокомандующим 6 июня 1915 г. На театре военных действий была сформирована следующая система органов контрразведки: КРО Ставки (штаба Верховного главнокомандующего); КРО штабов фронтов; армий, входящих в состав фронтов; отдельных армий неместного характера; отдельных армий местного характера; военных округов на театре военных действий.
В сентябре 1915 г. было принято «Положение о морских контрразведывательных отделениях». Учреждались следующие органы контрразведки: Морское КРО Морского Генерального штаба, Финляндское морское КРО, Балтийское морское КРО, Черноморское морское КРО, Беломорское морское КРО и Тихоокеанское морское КРО.
Организация контрразведки после падения царизмаПосле февраля 1917 г. Временное буржуазное правительство вынуждено было относительно контрразведки освободиться от царских правовых актов и принять новые.
Вместо «Положения» 1911 г. принимается «Временное положение о контрразведывательной службе во внутреннем районе» от 23 апреля 1917 г. Это положение предусматривало создание центральных и местных органов контрразведки во внутреннем районе. К центральным относились: Контрразведывательная часть обер-квартирмейстера, Центральное контрразведывательное отделение, Центральное бюро – все они входили в контрразведывательную службу ГУГШ. Местные органы контрразведки во внутреннем районе состояли из КРО внутренних военных округов.









