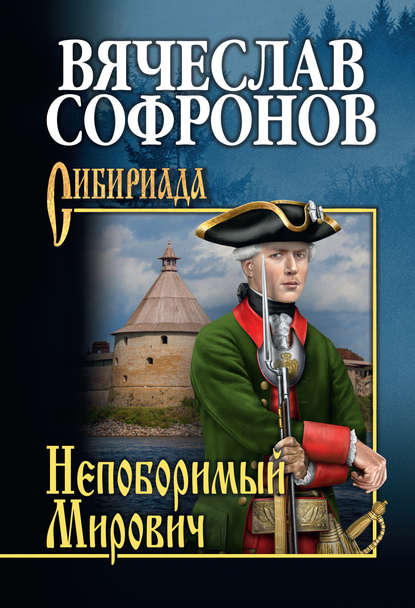Полная версия
Дорога на эшафот
Мирович не знал, что ему ответить на это, тем более вернулся Аполлон и нетвердой походкой прошел мимо них к столу. Шурка же заговорщически подмигнул Василию, обозначив свое соучастие с ним в пусть небольшом, но все же сговоре. На другой день он тайно сообщил, что дорогу узнал и на вторые сутки они должны будут проехать через этот самый Инстербург, узнать который можно по холму, на котором стоит местная кирха.
6Действительно, после обеда они подъехали к развилке дорог. Одна вела к видневшейся вдали реке, а вторая – в сторону городка, который Мирович безошибочно узнал по прежним своим воспоминаниям, и сердце его тут же радостно забилось. Русская армия прошла мимо, поэтому не было видно зловещих пепелищ и толп беженцев. Вскоре они без особого труда нашли постоялый двор, где не было ни одного приезжего. Ушаков, словно что-то заподозрив, стал ворчать, что они слишком рано остановились, а могли бы еще до темноты проехать какое-то расстояние, а там, глядишь, и до Кенигсберга останется совсем чуть. На что Шурка в ответ заявил ему, что дорога была трудная и лошадь устала, а еще неизвестно, где они смогут обнаружить свободный постоялый двор, а потому самое лучшее остаться здесь. Мирович не стал дожидаться, когда Аполлон обратится к нему с очередной просьбой взять денег взаймы, и сам попросил хозяина принести кувшин вина, после чего ворчание его попутчика само собой прекратилось, и он тут же уселся за стол в ожидании обещанного угощения.
Василий давно заметил, что попутчик его трудно переносил дорогу. Может, тем и объяснялось его постоянное желание выпить перед сном, чтобы хорошо выспаться. Все последние дни он ходил, словно в полусне, и постоянно интересовался, долго ли еще им ехать. Вот и сейчас он не допил даже стакана вина и задремал за столом. Сашка с Мировичем растолкали его и проводили в соседнюю полутемную комнату, где он быстро уснул.
Кобылку свою Сашка успел подкормить заранее припасенным овсом, и она выглядела довольно бодро, да и ехали они сегодня благодаря Сашкиной сообразительности тихим шагом, так что к недолгой поездке она была готова. Еще не начало смеркаться, а они уже выезжали в сторону развилки. Лошадь сразу поняла, что они повернули в сторону дома, и прибавила шаг.
В сам городок они заезжать не стали, а нашли дорогу, тянувшуюся в сторону холма. Но сколько Василий ни вглядывался, а той рощи различить не мог. Когда поднялись к вершине, то Мировича поразила безжизненность пейзажа, представшего его глазам. Исчезла роща, где некогда его капральство заготовляло дрова и в глубине которой он встретил Урсулу и ее брата. То ли сами жители, то ли солдаты вырубили ее полностью, и сейчас под снегом нельзя было найти пеньки от деревьев, что должны были остаться на месте вырубки. Василий вначале даже подумал, уж не ошибся ли он дорогой и в ту ли сторону они едут. Но другой дороги просто не было, да и та, по которой они пробирались, едва давала о себе знать узкой санной колеей, тянувшейся к вершине холма. И лишь когда они на него въехали и приблизились к пологому спуску, то вдали увидели мельницу и домик под черепичной крышей, из трубы которого вился едва приметный дымок. Шурка ворчливо понукал лошадь, с трудом взобравшуюся на холм, и время от времени поворачивал голову к Василию, интересуясь, не сбились ли они с пути. Наконец дорога пошла под уклон, и вскоре они подъехали к воротам наполовину заметенного дома мельника.
Василий выскочил из саней и в нерешительности подошел к калитке, не зная, что предпринять дальше. Вот и сбылась его мечта: он находится вновь на том месте, где когда-то впервые ощутил себя по-настоящему счастливым, но вот только не сумел сохранить, сберечь в себе то хрупкое чувство и растерял его в череде будничных дней.
«Зачем я здесь?» – спросил он сам себя и не мог найти ответа. В глубине души он желал вернуть и возродить в себе ту утрату, поскольку, как искренне считал, она была обронена им ненароком, случайно, словно какая-то вещь, забытая на одном из многочисленных постоялых дворов во время поездки. Так и сейчас он ждал, что, увидев Урсулу, вернет почти умершее, но все еще иногда вспыхивающее в нем чувство радости от встречи с девушкой, и тогда он, обретя его, уже не расстанется с ним, а будет дорожить и лелеять, не давать угаснуть до конца. Других желаний у него просто не было, и он даже не мог четко сформулировать ответ, если бы кто-то спросил его, зачем он вновь здесь.
Он бросил взгляд в сторону замшелого валуна, видневшегося вдали на берегу замерзшей речки, пытаясь пробудить воспоминания, но вместо них ему почему-то вдруг вспомнился бал в Ораниенбауме и лицо жены наследника, ее мягкий вкрадчивый голос и устремленные на него глаза. Она и сейчас присутствовала рядом с ним и с усмешкой вглядывалась в его понурую фигуру, робко застывшую подле закрытых ворот семейства мельника. Василий зло выругался, стараясь прогнать навязчивый образ, и в этот момент послышались чьи-то тяжелые шаги, потом приоткрылась калитка, и он увидел через небольшую щель заросшее щетиной лицо мельника Томаса, недоверчиво разглядывающего его.
– Что надо? – спросил он сухо, не спеша выходить наружу. – Мне нечего вам дать, все уже давно забрали: и зерно, и муку, а нового привоза давно не было. Так и передайте это тем, кто вас сюда послал.
Он хотел закрыть калитку и уйти обратно в дом, но Мирович не дал ему этого сделать. Подойдя ближе, спросил:
– Герр Томас, неужели вы не узнали меня?
Тот с удивлением повернулся в его сторону, и унылое выражение его лица сменилось вдруг удивлением, густые брови сдвинулись на лице. Он слегка прищурился и, наконец вспомнив что-то, спросил осторожно:
– Вы тот русский офицер, что встречался с Урсулой?
– Да, конечно, это я, Василий, – радостно отозвался Мирович, ожидая, что наконец-то рассеются все недоразумения, вызванные его появлением. Но мельник был далек от радости и спросил сурово:
– Зачем пожаловал? Тебя тут никто не ждал. Ты поступил sehr schlechte, weggehen… – Потом, поняв, что Василий мог не так истолковать его слова, добавил по-русски: – Ты есть плохой человек, что бросил мою дочь. Уходи отсюда, пока я не взял в руки топор, – и вновь попытался закрыть калитку, но Мирович опять не дал сделать ему этого и извиняющимся тоном попросил:
– Скажите, где Урсула? Я приехал повидаться с ней… Умоляю, не прогоняйте меня, мне очень нужно встретиться с ней.
При этом Василию стало неловко, что сидящий в санях Шурка слышит их разговор, но он не мог его прогнать, как это сейчас сделал с ним мельник. Внутри у него вдруг закипела злость, и он переменил прежний просительный тон и властно заявил:
– А ну, зови Урсулу, а то я с тобой иначе говорить стану! А за топор схватишься, пристрелю, как собаку. Не забывай, с кем разговариваешь! Я русский офицер, и в моей власти поступать так, как считаю нужным, – с этими словами он распахнул епанчу и поправил заткнутый за пояс пистолет.
Лицо Томаса помрачнело, весь он как-то осунулся и, ни слова не сказав, отправился, шаркая подошвами старых сапог, в дом. Мирович был уже сам не рад неожиданно проявившейся вспышке гнева, родившейся неизвестно по какой причине. Сейчас, слегка остыв, он даже не мог себе объяснить, что с ним произошло. Может, сказалась запоздалая реакция на петербургские события, недовольство всем, чем бы он ни занимался: Ушаковым, видом пожарищ, оставшихся после продвижения русской армии в глубь страны… Так или иначе, ему стало неловко перед старым мельником, которого он незаслуженно обидел, и захотелось войти в дом и извиниться перед ним. Но больше всего Василия угнетало чувство вины перед Урсулой, которой он ни разу не дал знать о себе более года.
– Долго ждать еще? – окликнул его Шурка, так и не вылезший из саней. – Лошадку бы покормить, а то за день ее ничем не угостили. Вон там сено какое-то лежит. Хозяева не заругаются, коль поест чуть? Что скажете, Василий Яковлевич?
Мирович махнул рукой в его сторону, давая понять, что тот может поступать по своему усмотрению, и вновь принялся ждать. Шурка же развернул лошадь и подъехал к сену, сложенному возле забора, потом вышел из саней и вынул удила изо рта лошади, после чего она принялась аппетитно хрумкать запрелое сено, лежавшее там непонятно с каких пор.
Наконец послышались чьи-то легкие шаги, и со двора навстречу Мировичу вышла Урсула. Она с удивлением смотрела на него своими широко открытыми васильковыми глазами и, чувствовалось, порывалась убежать обратно, но какая-то сила удерживала ее на месте, словно она увидела что-то страшное для себя и в то же время притягательное. На голове у нее была серая вязаная шапочка, а на плечи наброшена легкая накидка, отороченная лисьим мехом. Она сильно изменилась после их последней встречи, став по-женски статной и от этого еще более привлекательной.
Мирович сделал несколько шагов ей навстречу, но она вся сжалась и тихо что-то прошептала.
– Что ты сказала? – переспросил ее Василий, не расслышав. – Не ждала? Извини, то не от меня зависело. Война…
– А ты совсем другой стал, – сказала она, вглядываясь в него. – Отец даже не узнал тебя поначалу…
– В чем другой? Постарел? – попробовал пошутить Василий. Но она не приняла шутки и покачала головой, повторив:
– Просто другой… – Потом через паузу добавила: – Чужой совсем. Я уже и думать о тебе перестала. Думала, умер или уехал.
– Да что со мной сделается? Глядишь, поживу еще… – вновь, как бы шутя, ответил Василий, хотя понимал, что шутки сейчас неуместны и что девушка ждет от него совсем других слов.
Тогда она задала вопрос, которого Василий боялся больше всего, поскольку не знал, что на него ответить:
– Зачем приехал?
– Тебя увидеть, – ответил он единственное, что пришло ему в голову. – Не рада? Мне очень хотелось повидаться с тобой. Сама понимаешь, война не закончилась, а я состою при армии. В одном сражении уже побывал, а сколько их еще будет, кто знает… Всякое может случиться…
– Я понимаю, ты солдат и должен воевать. Но я тебя в армию не звала. Говорила: оставайся…
– Ты так не говорила, – торопливо прервал ее Мирович.
– Пусть не говорила, но думала, а ты знал, о чем я думала. Понимал, на что идешь.
– Не я ту войну затеял.
– Да, но ты в ней участвуешь.
– Я солдат, и никто меня не спросил, хочу я воевать или нет. Но я все это время думал о тебе, – выдавил он из себя почти через силу, понимая, что говорит не всю правду.
Урсула словно прочитала его мысли и усмехнулась, но ничего в ответ не сказала. Мирович тоже не знал, как продолжить разговор. Он совсем иначе представлял себе их встречу и никак не ждал подобной холодности от Урсулы. А сейчас был окончательно сбит с толку, тем более что в дом его не приглашали. Меж тем уже почти совсем стемнело, и надо было возвращаться обратно, чтобы не сбиться с едва видной дороги. Но и вот так, ничего не сказав девушке, он уехать не мог.
– А где твой брат? Его, кажется, звали Петер? Правильно? – наконец нашелся он, что спросить.
– Он в армии…
– В вашей армии? – уточнил Василий, понимая, что вряд ли его могли взять в русскую армию.
– Нет, – ответила Урсула. – В армии прусского короля. Мы живем на его земле.
– Так он же совсем мальчишка? – воскликнул Василий.
– Сейчас мальчики быстро становятся мужчинами. Как ты, например…
– Да, не ожидал этого, – неопределенно высказался Василий, все откладывая главную тему их разговора. – Как твой жених поживает? – решился он задать вопрос, который больше всего мучил его.
– Наверное, неплохо живет. Я его давно не видела. Он женился этой осенью и у нас больше не показывается.
– Он же хотел на тебе жениться? – со вздохом спросил Василий, которому стало сразу легче от этого известия. Значит, Урсула отказала тому, а потому оставалась хоть слабая, но надежда, что она до сих пор ждет его, Василия.
– Кому нужна девушка с ребенком? – все с той же злой усмешкой ответила Урсула. – Таких, как я, добрые люди замуж не берут.
– С каким ребенком? – растерялся Василий. И только тут до него дошел смысл сказанного, и он почувствовал холодный пот, выступивший у него на лбу. – Ребенок? А чей это ребенок?
– Как чей? Мой ребенок. Мой, и ничей другой.
– А отец его кто? – Василий хотя и понимал бессмысленность своего вопроса, но хотел услышать ответ именно от Урсулы, чтобы не жить одними догадками.
– Зачем это тебе? – ответила она, опуская глаза в землю. – Мой, и все тут.
– Нет, ты скажи мне. Все скажи, – не унимался он, – я имею право знать. Ведь он и мой тоже. Так ведь?
– Разве это важно? Тебе нет до него никакого дела, вот и живи дальше. Я не хочу быть тебе в тягость. Иди, воюй дальше, пока тебя не убили. Я поняла, что не нужна тебе.
– Скажи хоть, кто родился? Мальчик? Девочка? – умоляюще спросил Василий.
– Мальчик.
– И как назвала?
– Петер.
– По-русски, значит, Петр?
– Пусть будет так…
– Ты назвала его так в честь брата?
– Правильно. Мой брат на войне, и неизвестно, вернется ли обратно. А так, скажешь: «Петер» – и будто бы он дома, рядом с нами.
– А хотя бы глянуть на него можно? Пусть даже издали. Прошу тебя, Урсула. Я же не знал, что у меня появился сын. Это все меняет…
– Ничего не меняет, – жестко отрезала она. – Он сейчас спит, поэтому показать его не могу. Приезжай завтра, только со своим сеном, а то нашей корове до весны не хватит, – кивнула она в сторону лошади, жевавшей сено у забора. – Если ребенок не будет спать, то, может быть, и покажу…
– Мне завтра нужно будет дальше ехать, вслед за армией. Тут никак нельзя остаться. Тем более, я не один, а с товарищем.
– Значит, будешь жить и дальше так, как раньше жил. Без нас. А мы уж как-нибудь сами тут проживем. Может, найдется добрый человек и пожелает взять меня с Петером в жены. Все во власти Бога.
Мирович не знал, что сказать ей в ответ. Да и что он мог сказать? Что закончится война и он, коль останется жив, заберет ее отсюда? Но куда заберет? В Петербург? В Тобольск? А где и на какие деньги они будут жить? Пока он служит в армии, можно не заботиться особо о своем будущем. Но что ждет его после окончания войны, он даже не мог себе представить. Потому он подошел к Урсуле, притянул ее к себе и поцеловал в выглядывающее из-под шапочки ее нежное маленькое ушко.
– Милая, родная, – зашептал он нежно. – Прости меня Христа ради. Такой вот я непутевый отец оказался. Но я обязательно что-нибудь придумаю, и у Петра будет отец. Обещаю тебе. Клянусь, – добавил он для верности, хотя в этот момент не знал, как сможет исполнить второпях данную клятву. Но сейчас ему казалось, будто бы он в состоянии все изменить, исправить, найти выход и сделать ее и ребенка счастливыми. Лишь бы быстрее закончилась эта уже порядком надоевшая ему война, а там все должно измениться…
Урсула с усилием отстранилась от него, внимательно взглянула ему в глаза, и легкая усмешка скользнула у нее по лицу.
– Не знаю, можно ли верить тебе. Один раз я уже поверила и дала волю своим чувствам, а вот теперь жалею, – тихо проговорила она.
Мирович вновь попытался прижать ее к себе, желая тем самым показать, что она ему не безразлична и ему так не хочется уезжать. Но девушка встряхнула головой, отчего из-под шапки упали ей на плечи мягкие золотистые волосы. Тогда Василий быстрым движением выхватил дорожный нож и, не спросив разрешения, срезал прядку у самого конца ее чудного солнечного убранства. А потом, не глядя на удивленную и напуганную девушку, достал из кармана клубок ниток, который всегда брал с собой в дорогу, оторвал кусочек и замотал в тонкий жгутик добытой им пряди.
– Он будет хранить меня в бою и напоминать о тебе, – пояснил он. – Ты испугалась, да? – спросил он Урсулу, поскольку испуг так и не исчез из ее глаз.
– Зачем ты так? – только и спросила она. – Словно украл часть меня… Сказал бы, я бы вынесла ножницы и сама отрезала.
– Что теперь говорить! Дело сделано, – не захотел он пояснять причину своего поступка. – А вдруг бы не согласилась? Ты ведь такая, можешь подумать чего. Только мне уже пора, давай прощаться. Не знаю, когда в следующий раз смогу наведаться. Ты прости меня за все, – в очередной раз повторил он. – Скажи только: ждать будешь?
Девушка ответила не сразу, словно обдумывала про себя что-то важное, но не хотела в том признаваться. Потом плотно сжала губки и отрицательно качнула головой. В это время из дома послышался детский плач, и Мирович, уже собравшийся идти к саням, на мгновение застыл, словно пронзенный молнией, потом рванулся в дом, но Урсула встала у него на пути, не желая пропускать в калитку. Василий отодвинул ее плечом в сторону, пробежал по двору, вскочил на высокое крыльцо и толкнул дверь. В комнате стоял Томас и держал на руках проснувшегося малыша. Василий подскочил к старому мельнику и выхватил ребенка у него из рук. Томас растерялся, но потом, решив, что ребенка хотят похитить, вцепился Василию в руку и что-то закричал на своем языке. Следом в дом вбежала плачущая Урсула и бросилась помогать отцу. Но их сил не хватило, чтобы погасить порыв Мировича, который крепко прижимал сына к себе.
– Да оставьте вы меня! – крикнул он, отбиваясь. – Только чуть подержу и отдам обратно. Дайте глянуть хоть, как он выглядит, сын мой…
Лишь тогда Урсула с Томасом с неохотой отпустили его и отступили чуть в сторону. Василий же с восторгом глядел в личико малыша, который совсем не испугался, оказавшись в руках незнакомого ему человека. Он еще какое-то время разглядывал его, стараясь запомнить каждую черточку, потом осторожно чмокнул в лобик и передал Урсуле со словами:
– Весь в меня! Береги его и жди, когда с войны вернусь. Теперь я знаю, куда мне следует ехать. А потом решим, как дальше жить станем.
Он бережно поцеловал Урсулу в щеку, махнул рукой Томасу, решив, что он вряд ли ответит на рукопожатие, и вышел во двор, откуда направился к саням, где его с нетерпением поджидал замерзший Шурка.
– Все, едем! – скомандовал он. – Надо до темноты в город успеть, а то что-то неспокойно у меня на душе, как там себя друг мой Аполлон поведет, коль нас хватится. Не натворил бы чего спьяну.
7Когда они взобрались на холм, то увидели, как на фоне вечернего заката по небу медленно проплыла огромная стая галок, возвращавшаяся в город со стороны раскинувшихся на севере полей. Было что-то зловещее в их неспешном полете, и Шурка, зябко поводя плечами, крикнул:
– Ой, не к добру это.
– Откуда они взялись? – спросил его Мирович.
– Так, видно, хлеб по осени не успели убрать из-за войны, мужиков-то всех позабирали, вот они и кормятся там.
– Тогда точно не к добру, – согласился Василий. – Как бы голоду не было, тогда и нам хлеб неоткуда будет взять.
Лошадь едва брела по неглубокому снегу, и Шурка не спешил подгонять ее, понимая, что ехать им еще несколько дней, а околеет она, то и вовсе они застрянут где-нибудь в поле. Ушакова они застали мирно спавшим на лавке возле пустого кувшина. Других постояльцев, кроме них, не было, и Мирович, отказавшись от предложенного хозяином ужина, тут же улегся спать, не дожидаясь, пока Шурка распряжет и накормит уставшую за день лошадку. Закрыв глаза, он вдруг увидел себя как бы со стороны, державшим в руках запеленатого младенца, и горько подумал: «Радоваться мне или печалиться, ставши отцом? Вроде хорошо, что у меня появился наследник, но вот только что ему придется наследовать? Что смогу оставить после себя? Разве что свою шпагу. Прямо как у Кураева… Он тоже ходит со шпагой отца… Но вот если бы мне вернули отцовские земли, то было бы, куда привезти Урсулу и собственного сына…»
Он еще некоторое время думал об этом, а потом незаметно уснул с надеждой, что рано или поздно добьется своего и тогда заживет совсем иначе, а Урсула родит ему еще детей. Когда Шурка вернулся с конюшни, то заметил на лице Василия блаженную улыбку, что его весьма озадачило, поскольку раньше тот лишь скрипел во сне зубами, словно сражался со всем миром.
А Василию снился его дед, славный казак Иван Мирович, много лет водивший полки и против татар крымских и ляхов ненасытных. Он внушал внуку:
«Помни, чьих ты кровей будешь, не поддавайся никому, дерись до смерти с каждым, кто тебя обидел. Ты, внуче мой, для великих дел рожден. Придет время, сам обо всем узнаешь и поступишь, как положено истинному царю…»
«А почему царю? Разве я царь?» – спрашивал его во сне Василий.
«Каждый человек царь супротив других людей, только не все то понимают. А ты знай, что царской породы и неча тебе яшкаться с москалями и убогими офицериками. Не ровня они тебе. А цена твоя – быть главным среди других. С тем и живи…»
Утром, проснувшись, Василий разыскал Сашку и спросил:
– Ночью на квартиру к нам никто не заходил?
– Да двое нищих постучали. Старики древние… Хозяин пустил их обогреться, а под утро они сами ушли, я уж и не видел, когда то было…
– А спать они где легли? Не подле меня?
– Нет, прямо на кухоньке у печи, сама печь-то занята. Один, правда, заглянул к вам, поглядел так, лучину в руке подержал, пошептал что-то и вышел. А что, пропало чего? – всполошился он, понимая, что Василий неспроста задает вопросы.
– Да вроде бы как ничего не пропало. Слышал ночью, ходит кто-то… Вот и спрашиваю…
– Тогды ладно. А то за такими глаз нужен: сопрут чего, потом ищи-свищи ветерок в чистом поле.
– Скажи мне, а как тот старик выглядел? – не унимался Василий, хотя сам не понимал, зачем ему знать о том.
– Обычно выглядел: старый такой, высоченного роста, на вас чем-то обличьем похожий, нос тоже с горбиком будет. Только у него усы висели по саму грудь, а бороды нет. Я еще подумал, на него глядючи: не растет, что ль, борода у дедка того, а усища вон какие знатные.
«Он, это он был, дед Иван, – пронзило Василия. – Зачем он приходил, если в земле давно лежит? И говорил со мной как-то странно… Про царя, про род царский… Или впрямь приснилось все, а дед случайно тут оказался?»
Но тут ему вспомнилась картина, висевшая в спальне у бабки Пелагеи, где был изображен похожий на церковного святого человек с длинными усами и с ясным, немигающим взглядом пытливо уставленных в пространство глазниц. Он так и считал в детстве, что это икона, поскольку бабка часто стояла перед ней на коленях и что-то шептала. Но потом ему разъяснили, то это писанка его деда, покойного полковника Ивана Мировича. Правда, особых подробностей из жизни полковника, бывшего его дедом, ему не сообщали, а потому он как-то особо не задумывался о картине в бабкиной спальне.
Так ни в чем и не разобравшись, он торопливо собрался и плюхнулся в сани, куда Сашка набросал свежего пахучего сена, то ли украденного, то ли выпрошенного у хозяина. А какое ему дело до всего этого? У него никак не шла из головы клятва, которую он дал Урсуле, что ребенок их не останется без отца. Ему хотелось чувствовать себя отцом и знать, что после него останется зернышко, от которого заколосится нескончаемая нива их рода.
А пока что Мировичу не терпелось поскорее добраться до своей части и оказаться если не дома, то хотя бы среди близких и знакомых людей. Мечтать о доме пока не приходилось. Да и не было у него никогда этого самого дома, что принято среди прочих людей считать родным кровом. Не то что дома, а даже своего угла и то сроду не имел. Поэтому не ощущал он себя человеком домашним, привязанным к чему-то или к кому-то.
В свои два десятка с небольшим годков жил он птицей перелетной, у коей разорили гнездовье и вынудили скитаться в поисках непонятно чего, вечно перелетая и перепархивая с места на место. Печать безвременья лежала на нем, словно клеймо на каторжнике, да и был он сыном и внуком каторжников, попавших в немилость власти верховной. И сколько он ни живи, сколько благих дел ни сделай или даже соверши подвиг немыслимый, все одно скажут ему коль не в лицо, то в спину: «Каторжник» и иного слова на его счет не сыщут.
И что удивляться, коль не видел он ни в чем своей нужности, необходимости в том мире, где жил, даже не зная, зачем ему эта жизнь дана и на что ее употребить. Он часто видел сны, подобные сегодняшнему. Только ему все больше снились разные генералы да офицеры, украшенные сабельными шрамами за лихие бои, и в богатых мундирах, увешанных орденами. А чаще всего где-нибудь в замызганной халупе, укрытый своей протертой до полного непотребства епанчой, видел он один и тот же сон: открываются двери бедного его пристанища, и внутрь входит в сиянии факелов, весь осыпанный инеем, гвардейский офицер и спрашивает:
– Мирович Василий сын Яковлев здесь обитает?
Василий поспешно вскакивает, смущенный убогостью своей обители, вытягивает руки по швам, представляется.
Офицер же, отдав честь, трубным голосом провозглашает:
– Вам возвращены имения и доброе имя предков ваших. Государыне известно о страданиях ваших и подвигах, что вы изволили совершить, а потому вас немедленно требуют в столицу ко двору, где вам вручат доверенность на право владения имениями и орден Андрея Первозванного за боевые заслуги.