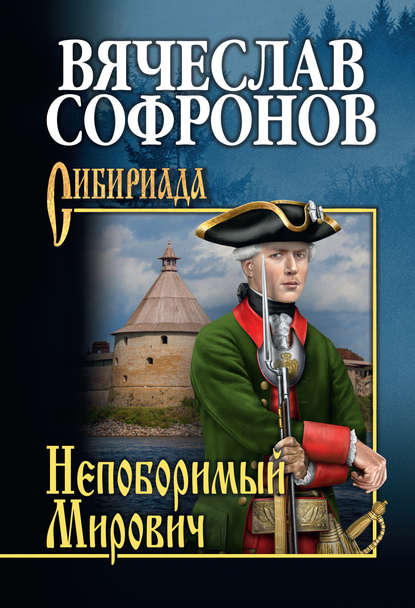Полная версия
Дорога на эшафот

Софронов Вячеслав Юрьевич
Дорога на эшафот
© Софронов В.Ю., 2018
© ООО «Издательство «Вече», 2018
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018
Сайт издательства www.veche.ru
Часть I. Накануне перемен
Глава 1. Возвращение в полк
1Обратная дорога показалась Мировичу гораздо длиннее, нежели недавний путь в столицу. Он понимал, что это всего лишь самообман, и если в столицу он летел как на крыльях, то теперь тащился в свою часть, словно побитый пес. Поэтому и время шло совсем иначе.
Кучер-преображенец, столь любезно предоставленный ему Кураевым, довез его только до первой заставы, а там хмуро предложил покинуть карету и ехать дальше на перекладных. Судя по всему, Гаврила Андреевич и эту услугу оказал Мировичу опять же с определенной целью, опасаясь, как бы он ненароком не задержался в столице. Поэтому и дюжий кучер, выполнявший, похоже, роль конвоира, был выбран далеко не случайно. Он зашел вместе с Василием в станционное помещение и там полушепотом о чем-то переговорил с пожилым смотрителем, показал ему какие-то бумаги, а потом незаметно что-то сунул тому в руку. Смотритель тут же расплылся в улыбке, обнажив ряд гнилых зубов, и глянул в сторону Мировича, а потом несколько раз согласно кивнул головой. После этого преображенец достал из-за пазухи конверт с бумагами, а из кармана епанчи увесистый кошелек и протянул их Василию со словами:
– Велено тебе передать от капитана.
Мирович молча принял все это и сунул в свою дорожную сумку, даже не взглянув, что за бумаги находились в конверте, чем тут же вызвал недовольство преображенца.
– Денежки-то следует пересчитать, мил человек, – скорее потребовал, чем предложил он.
– Зачем? – возразил ему Мирович. – Смысла не вижу. Я не знаю, сколько там денег было, и если ты что-то из них оставил себе, то так тому и быть, обратно не отдашь. Но все одно благодарствую.
– Ты, паря, того… Говори, да не заговаривайся. Мы на чужое польститься сроду не горазды были. Потому как служим честно, – густым басом ответил тот, говоря о себе почему-то во множественном числе.
Мирович не знал, что ему ответить, и огляделся по сторонам, где на лавках сидело несколько человек, дожидавшихся, когда им подадут лошадей. Он обратил внимание, что в углу расположились три унтер-офицера со своими мешками и баулами, занимавшими весь проход. У самого края возле двери примостилась пожилая пара, судя по всему, из мелкопоместных дворян, в лице почтенного супруга в длиннющем, до ног, тулупе и его жены в подшитой камкой дохе. Они чувствовали себя в непривычной для них обстановке неуверенно и постоянно о чем-то шептались друг с другом, с опаской поглядывая по сторонам. Если сомлевшим в тепле унтер-офицерам было абсолютно наплевать на все происходящее вокруг них, то вот пожилая пара внимательно следила за разговором Мировича с преображенцем, что совсем не понравилось Василию. Поэтому он поспешил прервать разговор, достал не глядя из только что врученного ему кошелька монету и протянул ее преображенцу со словами:
– Прими за честную службу и проваливай. Начальникам своим передай, что доставил меня куда следует, а дальше я сам как-нибудь доберусь. Покорнейше благодарю за все.
Но, к его немалому удивлению, преображенец отшатнулся от него, словно от прокаженного, и лицо его налилось кровью.
– Ты, как погляжу, вроде из благородных будешь, а говорить с людьми тебя так и не научили. Неча мне подачку совать, оставь ее себе на что хочешь. Нам чужого не надо, своего хватает.
После чего он отошел к стене и уселся на лавку, видимо, собираясь проследить за отправкой своего подопечного.
«Да, хорошо у них служба налажена, – хмыкнул про себя Василий и спрятал монету обратно. – Ежели бы все в армии так себя держали, то, глядишь, и воевали бы иначе».
Ему стало даже неловко за свой поступок. Хотя любой на месте преображенца без зазрения совести принял бы деньги, да еще бы и поблагодарил. А тут, ишь, не по коню корм оказался. Он хотел было выйти на улицу, но тут вернулся смотритель и призывно махнул ему рукой, приглашая идти следом за ним. Мирович кинул взгляд на своего надзирателя, но тот даже не смотрел в его сторону, словно они не были знакомы. Тогда он пошел вслед за смотрителем, который указал ему на легкие санки, запряженные переступающим с ноги на ногу непонятной масти мерином. На облучке, сгорбившись, сидел возница в мохнатом овчинном тулупе и лисьем треухе на голове.
– Садись, ваше благородь, специально для нужных людей держим его, – он указал рукой на мерина. – Не гляди, что неказист с виду, но идет шибко. Так что поезжай с Богом.
Мирович поблагодарил смотрителя и отогнал мелькнувшую мысль дать и тому одну из переданных ему монет, опасаясь, как бы и он не оказался столь же принципиален, как давешний преображенец. Он сел в санки и прикрыл ноги волчьей полостью, предусмотрительно положенной туда заботливым смотрителем. Вскоре они выбрались за город и поехали по узкой, тянувшейся между сугробов дороге в преддверии занимавшихся позади утренних сумерек.
Василий удивился, как быстро промелькнула ночь. Вроде совсем недавно Федотовна потчевала его в доме у Елагиных, а вот уже и утро. Еще он в очередной раз пожалел, что не смог проститься с сердобольной женщиной, наверняка поджидавшей его возвращения, но на этом мысли его смешались, и он задремал.
До Нарвы он добрался лишь на третий день и сразу же отправился искать свою часть. Но первый же попавшийся ему навстречу патруль потребовал предъявить предписание, почему он находится в городе, а не выступил со всей армией. Мирович растерялся, не сразу сообразив, что все воинские части уже больше недели как выступили в сторону Кенигсберга. Патрульный офицер внимательно просмотрел все бумаги, которыми снабдил Мировича предусмотрительный Кураев, и посоветовал ему долго здесь не задерживаться, а постараться нагнать свой полк на марше, чтобы избежать суливших ему неприятностей в случае опоздания.
– Сюда как добрались? – поинтересовался он у Мировича.
– Да как обычно, где на перекладных, где на почтовых, почти три дня ушло, – честно признался Василий.
– Дальше ни перекладных, ни почтовых ждать не придется, поскольку там уже не Россия, а потому если кто и согласится из местных везти, в чем сильно сомневаюсь, то за хорошие деньги. Так что советую сыскать себе попутчиков из обер-офицеров, авось да и уговорите кого захватить с собой. И одеждой потеплее запаситесь, до Кенигсберга почти тысяча верст, непонятно, когда доберетесь.
– А что, город уже взяли? – поспешил узнать у него Мирович, у которого все никак не укладывалось в голове, почему Кураев не предупредил его о том, что армия покинула Нарву и вступила на прусскую землю.
– Да там и брать было нечего. Пруссаки сами ушли, так что казаки уже там гуляют, – со смехом пояснил тот на прощание, и Мирович тут же пошел искать дом для ночлега.
2После оставления русскими войсками Нарвы свободных квартир оказалось предостаточно, и он без труда нашел домик на окраине, где уже расположилось несколько интендантов в ожидании прибытия амуниции для полка из Пскова. Они не тратили времени даром и хорошо погуляли, доставая дешевое вино на местном рынке. Василий, уставший с дороги, отказался от предложенного хозяйкой угощения и тут же завалился спать на недавно протопленной русской печи, благо, место там было не занято. Сон сморил его почти сразу, и он даже не прислушивался к пьяным разговорам, что вели подвыпившие интенданты, оказавшиеся вдали от начальства.
Он не знал, сколько проспал, но неожиданно проснулся среди ночи от стука в дверь и чьего-то очень знакомого голоса, хозяин которого интересовался, есть ли в доме свободное место. Проснувшаяся хозяйка вышла из-за перегородки и пыталась объяснить прибывшему, что дом ее занят, и советовала поискать место для ночлега в ближайших домах.
– Да уже везде стучался, – отвечал пришелец. – Но или спят, или боятся, но внутрь никто не пускает. А у вас вон огонек горит, потому и зашел наудачу. Не в сугроб же мне ложиться. Пусти, хозяюшка, Христа ради, не обижу…
Василий силился вспомнить, где он уже слышал этот голос, но за событиями последних дней воспоминания уносили его в дом Елагиных, в Ораниенбаум и еще куда-то далеко, но никак не наводили на того человека, что разговаривал сейчас с хозяйкой в нескольких шагах от него. А той совсем не резон был упускать случай и получить плату с приезжего, но и не хотелось спорить с громко храпевшими интендантами, разлегшимися в небольшой горнице, которые, проснувшись, наверняка начнут прикладываться к бутылке и не уснут уже до утра. Потому она не говорила ни «да» ни «нет», как бы набивая тем самым цену за ночлег.
– Чего ж ты, мил человек, так припозднился-то? Вот с вечеру еще печка была свободна, а офицер какой-то пришел и занял ее. А на полу ты вряд ли где устроишься, все кругом занято…
– Заплутали мы в дороге. Возница мой повернул не туда, а пока расчухали, назад возвернулись, ночь пришла. Хорошо, что вообще доехали. Я много места не займу, притулюсь хоть на лавке, главное, в тепле, – продолжал уговаривать хозяйку тот.
И тут Мировича словно осенило, когда он услышал знакомое словечко «возвернулись», слышанное им когда-то давным-давно. И он, просунув голову под занавеску, отделявшую его от остальной избы, спросил:
– Аполлон, не ты ли случаем будешь?
На столе едва теплился огарок свечи, не потушенный уснувшими интендантами, в доме стоял полумрак, и можно было различить лишь темные фигуры возле двери. Но он безошибочно узнал в вошедшем своего друга по Шляхетскому корпусу, вовлекшего его в карточную игру, Аполлона Ушакова. После отбытия в действующую армию прошло почти два года, и жизнь ни разу не свела их. Когда Василий временами вспоминал о беспечном времени обучения в корпусе, то неизменно в памяти его всплывал Аполлон, и ему очень хотелось узнать, где он и что с ним стало. Будучи в столице, Василий не сообразил навести справки о нем, а вот сейчас тот собственной персоной стоял на пороге дома, где и сам Мирович оказался совершенно случайно.
– С кем имею честь? – спросил тот настороженно. – Чего-то не узнаю, кто тут есть. Назовите себя, может, и признаю…
– Ах ты, чертяка, старых друзей не узнаешь! – Мирович соскочил с печи и, шаря рукой в темноте, чтобы на что-нибудь не наткнуться, подошел к двери. – А ты вспомни Шляхетский корпус, и как мы прятались под лестницей, а потом нас вахмистр чуть не словил. Неужели забыл все?
– Василий, неужели ты? – отозвался тот и шагнул вперед, обхватив Мировича за шею и притянув к себе. – Вот уж кого не ожидал встретить! Какими судьбами здесь оказался?
– Потом расскажу, – ответил Мирович и, повернувшись к хозяйке, проговорил: – Матушка, пустите блудного сына к себе до утра. Я его рядом с собой на печку положу, там места на двоих хватит. Знатная печка, войдем и не подеремся.
– Правильно, сынок, говоришь, печку эту хозяин мой ладил еще в молодые годы, как мы с ним повенчались, и всегда приговаривал опосля, мол, на ней и впятером ночевать можно, а не только одному. Да вот забрал Господь Ванюшу моего, не пожил почти, надорвался работой тяжкой… – И она громко шмыгнула носом, но спохватилась и миролюбиво закончила: – Ну, коль говоришь, что разместитесь вдвоем, то так тому и быть. Пущай остается. Вы там располагайтесь, а я к себе спать пошла. Только свечку задуйте, а то эти варнаки оставили огонь, а я не углядела, как бы беды от того не вышло. А то вместо благодарности оставите меня без крыши на старости лет… – С этими словами она удалилась на свою половину, а Мирович с Ушаковым, осторожно ступая, прошли к столу и примостились рядышком на свободной лавке.
Потом Аполлон спохватился, что не снял одежду, поднялся с места и стал стаскивать с себя заледеневшую епанчу, положил ее рядом с собой, расстегнул кафтан, и Мирович, заметив, что он тоже перепоясан офицерским шарфом, спросил с интересом:
– До каких чинов успел дослужиться?
– Да пока что в поручиках хожу, – ответил тот, ставя на колени дорожную сумку. – А сам кем служишь?
– У меня чин пониже, подпоручика дали после Гросс-Егерсдорфа. А начинал с капралов.
– Поздравляю! – кивнул Ушаков. – Ничего, война еще не закончилась, глядишь, и дослужимся до иных чинов, где наша не пропадала. Значит, ты тоже в том сражении был? И в каком полку? Хоть одного пруссака уложил? А здесь как очутился? – засыпал он Василия вопросами, как всегда, выкладывая все сразу, торопливо и без пауз, успевая при этом вытаскивать из своей сумки какие-то мешочки и свертки.
Мирович смотрел на него с улыбкой и не торопился отвечать, ожидая, что тот сам начнет рассказывать о себе, а потом лишь начнет интересоваться всем остальным.
Так они и вышло. Аполлон вытащил припасенные с собой продукты на стол, сдвинул рукой остатки пиршества спящих интендантов и предложил Василию:
– Давай перекусим, чем Бог послал, а то я не помню, когда у меня кусок хоть чего-то съестного во рту был. Чертова дорога всю душу из меня вытряхнула, а потому голоден как волк. Присоединяйся без всякого стеснения. Что-что, а покушать – оно никогда лишним не будет. Ты куда дальше едешь? – задал он очередной вопрос, торопливо засовывая в рот отрезанный кусок вареного мяса и держа в другой руке здоровенный ломоть черного хлеба.
– Благодарствую, – отозвался Мирович, неожиданно почувствовавший приступ голода, тем более что и он лег спать, необдуманно отказавшись от хозяйского угощения. Сейчас, при виде аппетитно уплетающего холодное мясо с хлебом Аполлона, чувство это проснулось и в нем. – Я редко что с собой в дорогу беру, больше надеюсь на трактир какой или на то, что найду где-нибудь пропитание себе. Не привык как-то о себе заботиться…
– Зря, зря, – не переставая жевать, отвечал Ушаков. – В дороге всякое может случиться, потому всегда запасаюсь самым необходимым. А выпить чего у тебя не найдется? У меня с собой было немного, но пока ехали, все в себя вылил, иначе бы замерз непременно, – громко хохотнул он, но Мирович тут же остановил его, приложив палец к губам и указав на половину хозяйки, где недавно скрипнули половицы от ее шагов. Видно, она не спала, дожидаясь, пока гости улягутся спать, чтобы задуть свечу и не опростоволоситься, как в прошлый раз.
– Все, молчу, – почти шепотком ответил Аполлон и переспросил: – Так нет ли у тебя, друг Василий, зелья какого. Я бы не отказался, чтоб сон быстрей пришел.
– Увы, не припас. Но коль знал бы о нашей встрече, то непременно захватил бы что-нибудь с собой. А так вон только, – Мирович кивнул на стоявший на соседней лавке бочонок с выбитым дном, оставшийся после пиршества уснувших интендантов.
– А это мысль, – согласился Ушаков. – Сейчас проверим, что там есть внутри.
Он взял со стола глиняную кружку, несколько раз встряхнул ее, потом проверил пальцами, не застряло ли что внутри, и подошел к бочонку, попытался зачерпнуть что-нибудь в нем. Но если там что-то и было, то на самом дне, и Ушаков, сморщившись, попросил Мировича:
– Не получается у меня, наклони-ка его, а я кружку буду держать…
Василию было не особо приятно участвовать в затеянном другом похищении чужой выпивки, но отказать он не мог. Поэтому выполнил его просьбу и наклонил бочонок, в котором и в самом деле оказалось совсем чуть вина, заполнившего кружку наполовину.
– Их, что ли? – Аполлон кивнул на мирно спавших интендантов. – Не могли хоть чуточку побольше оставить. Жаден русский человек до выпивки, ох, как жаден! – И с этими словами он сделал большой глоток из кружки и протянул ее Мировичу. – Не побрезгуй, глотни в память о дружбе нашей недолгой.
Василию опять же стало неловко отказать другу, но пить ему совсем не хотелось. И все же он принял кружку и, чуть замочив губы, передал ее обратно.
– Э-э-э, брат, гляжу, пить-то ты так и не научился. Может, оно и к лучшему, но только непьющих у нас не особо любят. Поди, заметил уже. Хотя мое дело сторона, живи, как знаешь. – С этими словами он сделал еще большой глоток, закашлялся, поперхнувшись, и тут же вновь засмеялся сам над собой, через силу выговорив: – Вот ведь, точно говорю, русский человек жаден до выпивки. А ты, как Суржиком был, так им и остался – ни то ни се! Как один кузнец у нас в имении любил повторять: ни Богу свечка, ни черту кочерга, – после чего принялся закусывать, разворачивая многочисленные свертки с едой, извлекаемые все из той же дорожной сумки.
3Мирович, съев всего лишь один кусок мяса с душистым, не успевшим зачерстветь хлебом, к трапезе товарища никакого интереса не проявлял. Никак не отреагировал он и на его слова о выпивке, противником которой Василий себя не считал, но почему-то особой радости она ему тоже не доставляла. Поэтому и слова Ушакова выслушал вполне равнодушно, и даже про себя отметил, что раньше он давно бы вступил с ним в спор и начал доказывать свою правоту, абсолютно не слушая его возражения. То было раньше… До проклятого столкновения в Ораниенбауме с Понятовским, после чего он вдруг почувствовал свою незначительность и ничтожность в этом мире. Теперь ему было все равно, обвинят его в излишнем пристрастии к выпивке или, наоборот, упрекнут в излишней трезвости. Подобные обвинения после пережитого теперь Мировича мало трогали. Он уже пожалел, что признал в приезжем своего друга по корпусу и упросил хозяйку пустить его на ночлег. Сейчас он мог бы спокойно спать дальше и не выслушивать смешные упреки, что он отказывается сделать глоток чужого, кем-то недопитого вина.
Ему хотелось поговорить с Аполлоном о чем-то другом, более важном. О той же Прусской кампании, что после посещения Петербурга предстала перед ним совсем в ином свете. Он порывался рассказать тому о своем знакомстве с Кураевым, о том, как он попал на бал, устроенный наследником, но вовремя спохватился, вспомнив о недавно данном обещании не упоминать ни при каких условиях обо всем, что там с ним произошло. Внимательно вглядываясь в торопливо жующего Ушакова, он вдруг пришел к выводу, что перед ним находится совсем другой человек, нежели тот, которого он знал раньше. Тот был весел, задорен, способен на непредсказуемый поступок, чем, собственно, запомнился Василию. А вновь встреченный им Ушаков оказался вполне заурядным человеком, которого ничего вокруг, кроме собственного благополучия, не интересовало. О чем с ним можно говорить сейчас, Мирович не представлял.
Наконец, насытившись и слегка захмелев, Аполлон привалился спиной к стене и, подавляя зевоту, поинтересовался:
– Чего же о себе ничего не расскажешь? В каком полку на службе состоишь?
– Ты вначале о себе расскажи, мне особо сообщить нечего. Записали меня в Сибирский пехотный, с ним и при Гросс-Егерсдорфе стоял, пока в капралах, а потом вот, почти сразу после боя, получил подпоручика. А тебя, выходит, сразу после корпуса в поручики произвели?
– Я же на последнем годе обучения был, потому и произвели. Это вас, недоучек, рассовали кого куда, а наших почти всех взяли на обер-офицерские должности: кого в Нарвский, нескольких человек в Киевский, а остальных в Московский, Выборгский, Ладожский полки. Я вот в Выборгский попал, а Петруша Ольховский, поди помнишь такого, в Ладожский. И оба в артиллерию направлены. «Единороги» шуваловские опробовать, – с усмешкой добавил он.
– Это вы, значит, в средней колонне оказались, где покойный генерал Лопухин командовал? – спросил Мирович, который много слышал о гибели командующего второй дивизией генерала.
– Правильно говоришь, на нас все силы пруссаков и ополчились. Не знаю, как и выстояли. Если бы не старичок Лопухин, что бежавших молодых рекрутов удержал, за собой повел, иначе и меня сейчас в живых не было бы, – с этими словами он широко перекрестился, найдя висевшую в противоположном углу темную икону с горевшей подле нее лампадкой.
– И что «единороги» шуваловские? Они во время сражения позади моего капральства поставлены были, бахали так, думал, оглохну. Вроде большой урон от них кавалерии был. Все у меня на глазах творилось. Но тебе лучше знать, коль ты при них командовал.
– Да какое там командовал! – обреченно выдохнул Аполлон. – То поначалу, когда пруссаки далече от наших позиций стояли, точно командовал. А потом, когда они толпой поперли, не до команд было: сам заряжал, сам стрелял и куда там наводил, уже не припомню. Прислуга – кого поубивало, кто в лес рванул, а остальные с неприятелем врукопашную дрались. Кто чем мог. Нам, артиллеристам, по штату, кроме пушек, другого оружия иметь не предписано. Там, наверху, – он ткнул пальцем в потолок, – решили, будто бы неприятель до нас добраться никак не должен, а потому не подумали об охране нашей. Вот оно и вышло… – замолчал вдруг он, уставясь в стол, и поднял опустевшую кружку, проверяя, не осталось ли в ней чего.
Мирович, заметив произошедшую с ним перемену, не спешил расспрашивать друга, что там случилось дальше, надеясь, что тот сам продолжит свой рассказ. И действительно, чуть помолчав, Ушаков закончил тяжким признанием:
– Когда всех вокруг меня поубивало, а на мне ни одной царапинки, словно заговорил кто, а пруссаки уже совсем рядом, два шага, и до меня доберутся, не выдержал, шпагу свою выхватил и что, думаешь, сделал? – Он пристально глянул в глаза Василию.
– Тоже на них кинулся? – спросил он, хотя понимал, друг его скрывал что-то, тяготившее его, а вот сейчас решился рассказать, может быть, ему первому, поскольку не мог уже дальше хранить это в себе.
– Если бы на них! – тяжело покрутил он головой. – Я же говорю: совсем один остался. Остальные – кто мертвый, кто раненый лежит, а пруссаков тех чуть ли не полсотни на пригорок лезет, где гаубицы наши стояли. Не знаю, зачем я шпагу свою выхватил, что я с ней против штыков их сделать мог, но кинулся, словно заяц, с того пригорка вниз, в сторону леска, куда не так давно часть рекрутов удула. Понимаешь, представил, как мне в брюхо штык прусский войдет, а он у них широченный да острый, вот умирать и не захотел. Бегу себе и думаю: «Аполлон, что же ты отцу родному потом скажешь? Как в глаза ему смотреть будешь, коль жив останешься?» И все одно – только шибче бегу, а вокруг меня пули свистят.
Мировичу захотелось ободрить его, поддержать, что пусть и сбежал он с поля боя, но зато жив остался. И никто не вправе осудить его за это. Но понимал, что вряд ли эти слова смогут утешить молодого поручика, все это время переживавшего за свой поступок, а потому просто промолчал.
Ушаков же, не глядя ему в глаза, попросил:
– Только, слышь, Василий, ты никому больше об этом не рассказывай, а то, ежели кто о том узнает, как есть, с собой покончу, не смогу дальше жить. Хотя вот так в себе все носить – еще труднее. Хорошо, что тебя встретил и поведал обо всем. Честное слово, полегчало, словно нарыв гнойный прорвало. Потому и пить начал после боя того, ты уж прости меня.
– Ничего, бывает. – Мирович положил свою ладонь на бессильно опущенную руку Ушакова и легонько сжал ее. – Так ты мне о единорогах сказать чего-то хотел, – напомнил он ему, желая увести разговор в иное русло.
– Ах, да! – спохватился тот. – Вроде ничего орудия, но капризны больно. Чуть больше или меньше пороху туда заложат, а ты же видел, как его картузами меряют, попробуй, угадай, сколько точно нужно, то начинают они палить как попало. То перелет, то рядом совсем картечь просыплют, и, не приведи Господь, коль там наши шеренги окажутся, то своих и положат. В горячке-то кто особо смотрит, куда и откуда снаряды летят, но я-то видел, как двумя выстрелами передние ряды наши почти под корень выкосило своим же огнем. А кто в том виноват? Я, что ли, неправильно проследил? Или заряжающий? Или сами мортиры, не опробованные толком, сказать не могу. И никто тебе того не скажет. Но иной раз так точно сыпанет, что полбатальона неприятельского, словно ветром солому с крыш сдует. Вот и суди сам, как те шуваловские «единороги» считать пригодными для боя или помехой тому. Не нашего то ума дело…
Они некоторое время помолчали, и в избе было слышно лишь шумное дыхание спавших на раскиданной по полу соломе интендантов, которым их разговор особо не мешал. Зато на другой половине время от времени поскрипывала кровать, видно, хозяйка никак не могла уснуть, опасаясь за сохранность своего жилища.
– Ну, показывай, что ли, где твоя печка, пора и нам укладываться, – сказал уставшим голосом Ушаков. – Ты так и не сказал, куда завтра двинешь?
– Куда же еще? Армию нагонять надо, а то запишут в дезертиры, и не докажешь потом, что не по своей воле отстал, – ответил ему Мирович.
– Из Петербурга, что ли, едешь?
– Из него, задержался на несколько дней, и вот теперь нагонять нужно.
– А я из Пскова еду, меня туда отправили новые пушки подобрать. До столицы чуть не доехал.
– И как, выбрал?
– Два десятка полевых пушек отписал на свой полк, но не все из них еще готовы. Какую на лафет поставить нужно, некоторым кое-какую доработку сделать. А из своих «единорогов» пусть сам Шувалов стреляет по кому хочет. После всего виденного за них поручиться не могу. Мне еще этот грех на душу принимать совсем ни к чему, других предостаточно.