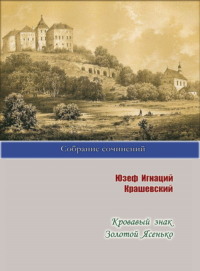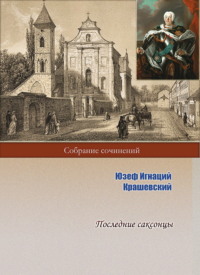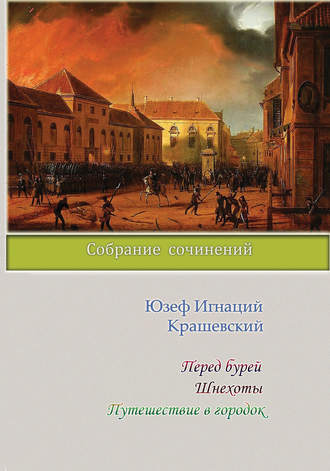
Полная версия
Перед бурей. Шнехоты. Путешествие в городок (сборник)
Стояла ещё в те времена та граница на Буге, которая разрывала страну надвое, ненавидимая царём Николаем, желающего от неё избавиться, но равно ненавистная тем, что по общности с братьями вздыхали. Официально Польша была в Варшаве, за Бугом польские сердца были горячей, хоть им такими едва ли разрешено было называться. Братья из-за Буга сердечно приветствовали друг друга, с каким-то беспокойным любопытством. Тут и там были одни мысли и чувства, взаимно притягивающиеся.
Когда Каликст в этот вечер туда вошёл, в кофейне уже было полно дыма, трубки давно в работе, и нашёл кучку своих знакомых, собрашихся около молодого мужчины с бледным лицом, смелым взглядом, живыми движениями, который вполголоса что-то рассказывал, чего-то доказывал. Когда новый пришелец остановился, чтобы к нему прислушаться, сначала оратор немного задержался, поглядев на него, точно не был уверен, может ли дальше говорить свободно, но, видя, что с ним все здоровались, тут же прерванное доказывание развязал заново.
– Да, верьте мне, – говорил он, – одного приличного издания, стоящего на вершине наших нужд, мы не имеем. Надобно его создать, но нужно согласиться на то, чем оно должно быть.
Высокого роста, красивой фигуры, подкупающего лица брюнет с розовыми устами, заговорил:
– Значит, мы просим программу…
– Говори, пане Михал, – вставил другой. – Стефану будет главным образом важно, чтобы свою библейскую поэзию было где печатать.
Брюнет сильно зарумянился.
– Посоветуемся с профессором Бродзинского, – сказал кто-то сбоку, – это человек и великих знаний, и великой сдержанности, понимающий…
– Всё что хотите, – воскликнул тот, которого называли Михалом, – я его почитатель, но – хотя это и солдат, и вождь – я его сегодня на начального коменданта не возьму. Он слишком мягкий, слишком добрый, слишком снисходительный. Жизнь забрала у него энергию – дух живёт в нём спокойный, а мы не заблуждаемся, идём на войну.
– Тише, – сказал кто-то, – с войной…
– Но ради Бога, в конце концов только против педанства и онемелости, – добавил пан Михал.
Послышалось несколько смешков.
– Молодые силы нам нужны, – говорил далее тот, которого окружали, – этих нам хватит, забранные губернии нам их доставят.
Снова кто-то боязливый шикнул, но рассмеялись над трусом.
В эти минуты как-то один из стоящих бросил взгляд по покою, такой задумчивый, что нелегко было заметить сидящих с краю; за его взором пошёл машинально пан Каликст и в уголке за маленьким столиком заметил Бреннера, который, отвернувшись, пил кофе, вовсе не обращая внимания на кучку беседующих в другом конце.
В эти минуты начали как-то трясти локтями, глазами друг другу давать знаки, и разговор, вполне свободный, не переставая, изменил течение, даже предмет, обращаясь к вещам более повседневным. Очевидно, старались, чтобы это не очень было выразительным. Однако же вся жизнь, какая недавно выливалась, словно парализованная, задержалась и перестала, несколько особ оглянулось за капюшонами, начали вставать, несколько выскользнуло, остальные рассеялись.
Каликст, который сразу узнал своего соседа, так был этим паражён, удивлён, почти задет, что, не в состоянии задержаться, отвёл в другой покой своего друга, Эдварда.
Эдвард, коллега по одной лавке в Liceum, был немного старше Каликста и независим. Пребывал в Варшаве, будучи известным и охотно принимаемым в первейших домах, – Каликст не знал определённо, чем он занимался. На вид только развлекался. Именно взгляд Эдварда вызвал этот переполох и панику.
Вышли в другой покой, в котором никого не было. Каликст приблизился к его уху.
– Мой дорогой, почему же ты так смешался и прервал разговор в минуту, когда действительно он был занимательный?
– Как же! Ты не видел? – отпарировал Эдвард.
– Кого? Что?
– А этого господина у столика сбоку!
– Кто же это?
– Это известный шпион Любовидзкого и доносчик великого князя… Говорят, что имеет свободный доступ в Бельведер. Зовут Бреннер.
Каликст побледнел.
– Может ли это быть? – воскликнул он невольно, ломая руки.
– Не может – но есть, точнее не бывает, – кончил Эдвард. – Человек безмерно ловкий, хитрый и самый опасный на свете.
Затем Эдвард поглядел на насупленного и смешанного приятеля и схватил его за руку.
– Что с тобой? Почему это так тебя взволновало? Всё-таки бояться нечего. Хоть бы сам Юргашко нас слушал с Маркотом, не нашёл бы ничего грешного в разговоре. Всегда, однако, подобает быть осторожным; поэтому мы предпочли прервать разговор, который куда-то перенесётся.
Каликст по-прежнему стоял, как окаменелый. Эдвард его толкнул.
– Ну же, скажи мне, что случилось?
– Только то, что я живу в одном доме с этим Бреннером… я наверху, он на первом этаже. Я никогда не догадывался о его несчастной профессии.
Он пожал плечами.
– Я надеялся, – шепнул Эдвард, – что ты был осторожен, потому что теперь будешь с ним осторожен, в этом не сомневаюсь. Не имеешь что на совести?
– Мне кажется, что ничего, – отпарировал Каликст, – но, прошу тебя, это верно?
Эдвард громко начал смеяться.
– Но, прошу тебя, весь свет об том знает, знают его не меньше, чем Бирнбаума и других, хоть самое последнее занимает на вид положение. Он давно в этой службе и имеет большие заслуги… Достаточно поведать, что даже шпионы его бояться, и что где надо что-нибудь чрезвычайное совершить, шлют его.
Каликст не отвечал уже ничего, на лице его выступил пот, чувство непередаваемой боли сжало ему сердце. Он попрощался с приятелем и вышел. В первом покое Бреннера уже не было. Не очень зная, куда идёт, что с собой делать, Каликст оказался на улице, свежий воздух немного его оживил. Удручённый, он машинально побрёл к Саксонскому Саду.
Он был влюблён… Несколько раз встретившись с Юлией, он отпустил уже поводья сердцу и загорелся той юношеской безмерной любовью, которая в счастье становится безумием, в недоле – отчаянием. Юлия – дочка этого человека! Этот цветок, такой чистый, такой благоуханный, расцветший на этом отвратительном стебле! Могло ли это быть? Могла ли природа допустить такой чудовищной игры?
Пришло ему на ум, что серьёзность Юлии, простота, доброта, очарование, спокойствие, всё это могло быть деланным, наигранным, фальшивым.
Он весь задрожал. Этого невозможно было допустить! Такое прикидывание стало бы преступлением. Как безумный, он пошёл не видя, постоянно давая себя толкать.
Был вечер, он не хотел возвращаться домой, пока бы не остыл от этого страшного впечатления. Шёл он так с опущенной головой, когда: «Добрый вечер, пане!», сказанное тихим голосом пробудило его, а скорее, устрашило, так что он отскочил на шаг.
Рядом как раз прошла Юлия, смеясь и приветствуя рукой. За ней шла, как обычно, Агатка, неся ноты, потому что возвращались с какой-то репетиции дуэта на два фортепиано.
Каликст вежливо раскланялся, на лице его было видно такое смешение и страдание, такая внутренняя боль, что Юлия, заметив это, беспокойно к нему приблизилась.
– Что с вами? Вы больны?
– Да, действительно, мне немного… нехорошо, – слабым голосом сказал Каликст. – В самом деле, я испытал такое неприятное впечатление…
Юлия вздохнула.
– Не смею спрашивать, не смогу вас утешить, – ответила она и тихо добавила:
– Не идёте домой?
– Сам взаправду не знаю, – сказал, колеблясь, Каликст; но затем посмотрел на Юлию: чистый её взгляд встретился с его глазами, и он решил её сопровождать.
– Вы правы, боль лучше на свет не выводить – и с ней скрыться дома, но позволите мне сопровождать вас?
Юлия дала немой знак позволения. Какое-то время, не говоря друг с другом, шли дальше.
– Мне в самом деле стыдно, – прервал в итоге молчание Каликст, – что я так не по-мужски впечатлителен. Не правда ли, что я вам должен был показаться по-детски слабым? Мужчине трудно сделать более тяжёлый упрёк, чем в слабости и нехватки энергии. Наш долг – иметь силу. Но я должен хоть немного вам объясниться. Известие о тяготеющем пятне на семье, которая мне дорога… для которой…
Он ещё не докончил, когда глаза Юлии с выражением неизмеримого беспокойства и страха обратились на него. Хотя, очевидно, боролась с собой и хотела прикинуться равнодушной, Каликст видел, что была взволнована, словно о чём-то догадалась. Но продолжалось это только мимолётную минуту, Юлия скоро восстановила полностью хладнокровие и равнодушно отозвалась:
– Пятно тяготит на семье? – вопросила она. – Прошу вас, разве вся семья так друг за друга в ответе и разве все виноваты?
– Я плохо выразился, – отозвался Каликст, – пятно лежит на одном члене семьи.
– Или в вашем убеждении оно падает на семью? – спокойно говорила Юлия.
– Справедливость Божья и людская не делает нас ответственными за чужие вины, но общий суд, но… но…
Покачал головой и замолк.
– Лучше не будем о том говорить, – прибавил он спустя мгновение.
Они шли вместе друг с другом. Каликст смотрел на эту чистую, красивую фигуру и ему хотелось над ней плакать. Чувствовал, что должен был удалиться, отречься, но уже не имел силы.
– Мне очень вас жаль, – через мгновение начала Юлия, – а одинаково жаль мне ту семью, несчастную, невинную и наказанную, страдающую и осуждённую. Что за судьба…
Она вздохнула.
– Есть ужасные трагедии на свете, – шепнул Каликст.
Они посмотрели друг на друга. Шли в этот раз как-то так медленно, что далеко было ещё до каменички – но разговор не клеился. Юлия не смела спрашивать. Каликст не знал, чем её развлечь.
Они больше разговаривали глазами, чем устами. Уже вдалеке виднелась каменичка, когда он с ней попрощался, как обычно, сам запаздывая домой. Смотрел за ней долго и мучился. Нет, она, по крайней мере, виновной быть не может… она ничем не запятнана… На ней не тяготит никакого пятна. Бедная – несчастная!
С заломанными руками пошёл он назад, не имел охоты возвращаться домой. Этот дом стал ему страшен.
Панна Юлия, взволнованная, также возвращалась, точно её самое что-то коснулось.
И однако она вовсе не знала о том, какую несчастную славу имел её отец. Проницательная, она, может, о чём-то догадывалась, предчувствовала что-то подобное; кольнуло её то, что поведал Каликст, хотя сама не знала, почему так сильно была задета.
Бывают предчувствия… Измученная, уставшая, вошла она в дом и тётка, которая её нежно обняла на пороге, заметила сразу в ней какую-то перемену.
– Что с тобой? – спросила она заботливо.
– Ничего со мной, вот, так, взаправду, сама не знаю, почему сделалось мне грустно, странно.
– Но может ли это быть без причины?
– Я собственно не знаю ни одной, верьте мне, тётя.
Так они разошлись, но пани Малюская следила за племянницей издалека и всё сильней убеждалась, что что-то тяготило её сердце. Юлия ходила по покоям, брала и бросала ноты, задумывалась, вставала, садилась – словом, была явно не в себе.
Бреннер возвращался чрезвычайно поздно, случалось, однако, что являлся вечером на чай. В этот день все обрадовались, услышав в прихожей голос, дочка выбежала его приветствовать. Он возвращался хмурый и молчаливый, обнял дочку, пошёл сразу к своему бюро, объявляя, что имеет много дел, и закрылся в покое, приказав подать лампу. Тем временем приготавливали чай. Когда тот был готов, попросили советника, который, не спрятав бумаг, вышел. Он был обеспокоенный, задумчивый, лицо имел нахмуренное и стиснутые уста. Напрасно Юлия старалась его развеселить – и он был, как бы чем-то мучимый и не в себе.
Среди чая пани Малуская вышла, Бреннер посмотрел на дочку и приблизился к ней.
– Мне нужно тебе что-то сказать, – отозвался он.
Юлия повернулась к нему.
– Ты знаешь, как я люблю тебя и что беспокоить тебя было бы для меня очень болезненным, и однако, знаю, что сделаю тебе неприятно – а должен… Пан Каликст тебя провожал сегодня?
Юлия зарумянилась, но глаза подняла смело.
– Да, – сказала она. – Мы встретились на дороге, было бы смешно, если бы его, как испуганная, отпихнула от себя. Что же в этом плохого?
– Это нехорошо, – отозвался Бреннер – я с этим господином никаких отношений не желаю.
– Отец, имеешь что-нибудь против него? – спросила Юлия.
– Имею, но того, что против него имею, поведать тебе не могу. Достаточно, что, повторяю, я решительно против знакомства и отношений с ним.
Юлия замолчала, но видно было, что ей это действительно сделало нериятность, Бреннеру также жаль её было, он нежно схватил её за руку.
– Дитя моё, дитя моё, – отозвался он, – верь мне. У меня есть причины.
– Разве совершил что-нибудь нечестивое?! Или чем-нибудь запятнал себя? Прошу, отец, скажи мне! – произнесла дочка.
– Но что же он тебя так интересует? – прервал Бреннер.
Панна Юлия мгновение помолчала, задумалась, а потом медленно отвечала:
– Мне было бы больно узнать о нём что-нибудь плохое. Знаешь, отец, почему? Не о нём, может, речь, но о том, что если бы такое бесчестие могло покрываться и заслоняться благородством, как в нём, пришлось бы мне сомневаться в людях.
Бреннер, так спрошенный, мгновение боролся с собой, прежде чем собрался отвечать.
– Не скажу, чтобы на нём тяготело что-то нечестное, но, дитя моё, есть много честных людей, с которыми всё-таки отношения неприятны и – опасны. Вот и тут так – пусть тебе этого будет достаточно. Я с моей стороны прошу, а если нужно, приказываю его избегать, не давать ему приблизиться. Ты не должна его знать. Если встретитесь снова, прошу вежливо отделаться от него и не давать провожать тебя.
Юлия совсем замолчала, бросилась в глубь кресла, явно грустная. Бреннер беспокойно смотрел на неё, но уже не вернулся к этому предмету. Сидели молча, когда колокольчик, резко дёрнутый у первых дверей, испугал панну Юлию так, что она крикнула.
Вскоре потом услышали оживлённый разговор и спор с кухаркой – какой-то незнакомый мужчина вошёл без церемонии в салон. Высокого роста, неприятного лица, он даже не задал себе работы снять военный плащ, как казалось, в прихожей, а шапку не спеша снял, только увидев женщину.
Панна Юлия, увидев его, тут же быстрым шагом вышла, Бреннер вскочил с канапе и, беспокойный, выбежал навстречу прибывшему. Оба одновременно, шепча что-то, вошли тут же в кабинет, слышен был оживлённый разговор, горячий, и не прошло четверти часа, когда незнакомец вместе с хозяином, который приготовился к выходу, быстро вышел из дома.
На пороге он едва имел время шепнуть кухарке:
– Погаси сама лампу в кабинете и запри.
На столике остался недопитый чай. Бреннера уже не было. Панна Юлия, хотя чрезвычайно спешно удалилась, почти не взглянув на прибывшего, испытала очень неприятное впечатление, заметив, с каким любопытством он уставил на неё глаза. Был это взгляд старого распутника, циничный, почти устрашающий. Одного блеска этих глаз хватило за оскорбление. Смелость, с какой вошёл он в салон, осанка, взгляд, всё в нём указывало какую-то особу высокого положения и имеющую власть над Бреннером. Было это почти беспримерным, чтобы кто-то подобный заглянул в каменичку на улице Святого Креста; поэтому можно себе представить, какое впечатление это произвело внизу, где стояла Ноинская и вся чернь. Мастерова провожала глазами высокого мужчину и клялась потом, что, должно быть, был «генералом».
Кто же знает? Могла не ошибиться. Неподалёку на площади стояла карета и точно генеральские кони.
* * *Когда за Бреннером закрылись двери, а кухарка побежала дать знать панне Юлии о планах отца, Юлия тут же пошла в покой, в котором горела на бюро оставленная лампа.
Бреннер не имел времени ни спрятать бумаги (о чём, верно, забыл второпях), ни привести их в порядок. Издалека смотрела панна Юлия на разбросанные записки, точно вынутые из бумажника, и лист бумаги, половина которого была исписана. Сначала она не хотела даже взглянуть на них, но, беря лампу, глаза её почти невольно упали на заголовок уже исписанного листа бумаги, и остановилась как вкопанная.
Её лицо покрылось смертельной бледностью, глаза стали круглыми, дыхание в груди задержалось, взгляд не мог оторваться от бумаги. На ней был начатый рапорт тайного полицейского агента генералу Жандру… С неописуемым страхом Юлия, нехорошо даже понимая, что это было, обо всём догадалась, читая имена лиц, присутствующих на сходке в Литературном кафе. Среди иных стояло там имя пана Каликста Руцкого.
Юлия читала, стояла долго, начала вся дрожать, выпустила из рук лампу и упала, бессознательная, на пол.
Счастьем, звук падающей лампы услышала Агатка, убирающая со стола, и вбежала, а, увидев девушку словно не живую, на полу, разбитую и льющуюся на пол лампу, своим криков всполошила весь дом.
Вбежали Малуская и кухарка. Они не могли понять, что случилось. Плача, схватили бессознательную, которая постепенно пришла в себя, и отнесли её на кровать. Погасили лампу, очистили и заперли покой советника.
Но состояние Юлии, которая плакала и показывала практически какое-то безумие, так встревожило тётку, что послали к ближайшему доктору на Новый Свет. Был им знакомый пани Малуской, молодой ещё человек, который даже показывал большую заинтересованность панной Юлией.
Прежде чем пришёл доктор Божецкий, женщине помогали, успокаивали как умели, но о самом случае панна Юлия ничего сказать не могла. Она плакала и была как бы в отчаянии, чего тётка себе никаким образом объяснить не могла. После ожидания, которое показалось долгим, поспешно пришёл Божецкий. Тётка выбежала к нему в прихожую и в немногих словах рассказала ему непонятный случай. Молча молодой доктор вошёл в покой. Прибрав весёлое на вид лицо, он приблизился к больной, но та, казалось, его не узнаёт.
На первые вопросы она ничего не отвечала и только после долгих склоняющих просьб Божецкого она заикнулась, что сама не знает, что с ней стало – ослабла, потеряла сознание, упала.
Доктор, естественно, долго расспрашивал о симптомах, предшествующих этому кризису, оценивал, смотрел, думал, и, не в состоянии открыть ничего, кроме того, что это был какой-то женский нервный припадок, наказал отдых, средства, смягчающие сон, и т. п. В случае же, если бы тревожные симптомы вернулись, просил, чтобы ему дали знать.
Во время всего совещания почти не говоря ничего, с испуганными глазами, сидела бедная Юлия – слова от неё добиться было трудно. Малейший шелест только пугал её так, что самую строгую тишину должны были приказать в доме.
В одну минуту вся каменица уже знала о случившемся. Кухарка и Агатка должны были о нём рассказать, всё население собралось около них слушать. Обе рассказывали, каждая иначе.
В каменице это произвело ужасающее впечатление.
Версии кухарки и Агатки, хотя согласные друг с другом, в главных фактах очень разнились в подробностях.
Агатка, которая вошла первой, утверждала, что панна держала в руке бумаги и что-то должна была прочитать. Кухарка доказывала, что отец панны Юлии делал выговоры (очевидно, слушала за дверью) за то, что общается с панычем сверху, который её провожал. О том рассказывала и Агатка. Мастерова Ноинская и более важные особы догадались, что, пожалуй, дело было в том, что отец был против него, а девушка его любила. Предположения мастеровой, которая имела буйное воображение, шли даже так далеко, что кухарка возмутилась.
– Э! Что вы думаете, пани мстерова. Эта панна не такая, чтобы, с позволения, могла в романы вдаваться на лестнице. Её нужно знать!
Диспуты были долгие и оживлённые, а когда спускался задумчивый доктор, они за ним внимательно следили глазами, словно хотели что-то прочитать по его лицу. Кухарка заговорила:
– Прошу пана лекаря, что же наша панна… ведь мы её так любим.
– Можете быть спокойны, ничего. Что с ней может быть? Ослабла, упала, стукнулась головой, полежит какой-нибудь день и будет здорова как рыба.
Ноинская услышала это, но приняла с недоверием.
– Дай Бог, чтобы он так сам здоров был! – шепнула она.
Тётка ни на шаг не отходила от кровати, давали воду с каплями померанцевого цветка, laurocerasus, разные вещи, натирали, обкладывали. Однако состояние больной вовсе не изменилось. Одна минута на её молодом и свежем лице произвела такую страшную перемену, молниеносную, глаза так странно смотрели, безумно, что тётка ломала от отчаяния руки, а тут Бреннера, который так неожиданно был похищен из дома, неизвестно даже когда было ожидать.
Пришла ночь и в каменице внизу болтали кумушки, на верху уже только у пана Каликста и на первом этаже в покое панны Юлии горел свет. Тут никто, кроме Агатки, которая, сидя, уснула, не думал ложиться спать. Ждали, когда вернётся Бреннер. Панна Юлия получила горячку. Сколько бы раз, утомлённая постоянным плачем, она не закрывала веки, вскакивала с криком, ломала руки и повторяла постоянно: «А! Я несчастная!» Малуской уже приходили самые разнообразные мысли, хотела что-то выпытать у племянницы, вызвать признание, Юлия качала головой, не отвечала ничего, кроме того, что была очень несчастной.
Медленно проходили часы. Полночь, два часа, три, четвёртый, наконец, и день собирался, а Бреннер не возвращался.
Около пяти часов застучала дрожка и остановилась у ворот. Малуская выбежала к началу лестницы. Увидев её, Бреннер испугался.
– Несчастье, мой советник! Несчастье! А мы тут в доме одни бабы… не знаем, что делать. Юлка вдруг ослабла… после вашего ухода она вошла к вам в кабинет за лампой… и не знаю, что случилось. Мы нашли её в обмороке лежащей на полу.
Бреннер, который единственного ребёнка любил больше жизни, не отвечая ни слова, бросился на верх, прямо к кровати больной. Тут вид его вместо того чтобы принести успокоение, вызвал резкий кризис. Увидев его, Юлия закрыла глаза и снова потеряла сознание.
Бреннер стоял над ней как труп. Он также, казалось, утратил сознание. Малуская дёргала его за руку, он не понимал, что она ему говорила. Он побежал в кабинет, а день уже позволял там всё рассмотреть, – хлопнул за собой дверью. Кухарка слышала, как с порывистостью он закрывал бюро и бегал по комнате. Вскоре потом вернулся к дочке. Послали за Божецким. Состояние Юлии ухудшилось.
Бегание по дому, движение, беспокойство, крик не могли уйти от внимания живущего наверху. Утром за бельём на чердак бегала кухарка, когда Каликст отворил дверь, спрашивая, не случилось ли у них чего.
– А! Вы ничего не знаете? – начала живо женщина. – Это история… трагедия, прошу вас… судный день. Наша панна, как упала в обморок, так до сих пор не можем её в сознание привести. Что не делали, доктор был… А плачет и мечется, аж смотреть жалко. Все стоят как убитые. Пан плачет, тётка, мы все. Или судороги, или какая болезнь вдруг, но плачет и кричит постоянно, и то без повода, потому что ничего не стало… отца не было. Так схватило что-то…
Каликст не смел уже спрашивать больше, только об имени доктора.
– А это наш ординарий, – отвечала кухарка, – с Нового Света, Божецкий, что ходит за Детьми Иисуса.
Каликст знал Божецкого, и, поблагодарив кухарку, закрыл дверь, сразу желая одеться, чтобы пойти спросить его о Юлии.
Доктор, тем временем вызванный, пришёл, но, кроме тех же симптомов, что предшествовали, только усиленных, ничего нового не нашёл. Наказал те же средства, а прежде всего – отдых. Советник, неспокойный, ввёл его в кабинет.
– Будьте милостивы, пан, поведать мне открыто; сначала – не грозит ли опасность, потом – что могло быть причиной?
Божецкий пожал плечами.
– Опасности до сих пор не вижу, но так какой-то сильный кризис, нехороший для будущего. Что до причин, я бы от вас хотел узнать. Я всё сильней убеждаюсь, что этот кризис, атаку, вызвало моральное впечатление, какое-то чувство, случай – это не болезнь от крови, лимфы, от ненормальных функций организма, но удар из внешности, удар по нервам.
Он поглядел на Бреннера, лицо которого побелело и пожелтело, приняло почти трупный цвет. Старый советник дрожал.
– Ничего не знаю, – выцедил он сухо.
Упросив о новом посещении через несколько часов, Бреннер проводил доктора в сени. Тут, у лестницы наверх, его ждал Каликст.
– Тс!
Божецкий поднял голову.
– На минутку прошу вас ко мне, будьте милостивы.
Доктор, узнав старого приятеля молодости (не знал, что тут жил), приятно удивлённый, пошёл охотно к нему.
– Давно тут живёшь? – спросил он.
– Больше года.
– Тебе, наверное, интересно, что делается на первом этаже и что я тут делаю. А, может, тебя красивая панна интересует? И я, признаюсь, равнодушно на неё смотреть не могу.
Смеясь с равнодушием медика, Божецкий бросился на канапе, выгнутое и узкое.
– Очень ладная панна! Красивая, милая и – неглупая! – добавил доктор. – Но папа!
– Что же случилось? – спросил Каликст.
– Разве я знаю, упала в обморок в кабинете отца, стукнулась головой, но удар слабый, симптомов сотрясения мозга нет. Что-то в этом всём есть таинственное, какое-то впечатление, беспокойство, отчаяние, не знаю. Плачет и кажется безумной. Ничего не понимаю. Кто знает… Истерия, может, но на это не выглядит. Здоровая, свежая, и такая умная и холодная!