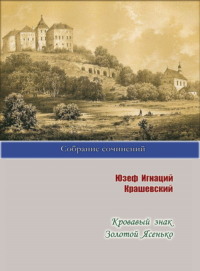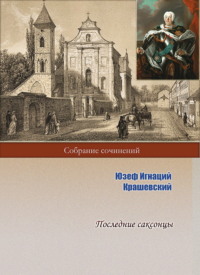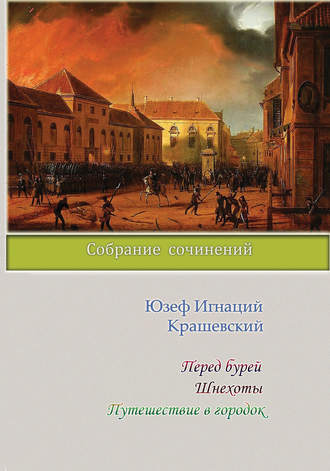
Полная версия
Перед бурей. Шнехоты. Путешествие в городок (сборник)
Дочка должна была это и заметить, и предчувствовать и, однако же, хоть отца боялась и была ему послушна, как бы специально часто очень горячо говорила о Польше и своей привязанности к ней. Казалось, это выводит отца из себя, он молчал, бормотал, иногда говорил: «Оставили бы это в покое», но дочку не обращал. Уже позже оба избегали раздражающего предмета. Сколько бы раз случайно или патриотическую книжку, или запрещённую песню не находил у Юлки, отец с видимым недовольством её бросал, а не смел ничего ей сказать. В такие редкие минуты, когда семья собиралась вместе, а заходила о чём-то речь, как заключение, какое-нибудь наказание, насильственный поступок князя, пани Малуская и панна Юлия жаловались на суровость и угнетение, Бреннер ходил молчащий и пожимал плечами. Его это, очевидно, выводило из себя. Чаще всего он заключал разговор:
– Оставили бы это в покое – глупость.
Раз или два формально он обвинил молодёжь в излишнем подвергании опасности себя и семьи, добавляя:
– Всё глупость и ни к чему не пригодится.
В этом году Бреннер казался более деятельным и хмурым, чем когда-либо. Выходил иногда до наступления дня, а возвращался ночами, мрачный и кислый, и едва говорил с дочкой. По несколько дней неожиданно он совсем исчезал, а когда его спрашивали, отвечал, что имеет дела. Какого они были рода, о том ни дочка, ни сестра жены не имели ни малейшего представления. Что они, однако, не были плохими и оплачивали труд, это видно было из запаса, какой собирал Бреннер. Не только денег в доме всегда была предостаточно, но покупали шкурки и складывали капиталики.
О богатстве отца дочка даже не имела ясного понятия, так как с этим он никогда не исповедовался, режима жизни не изменял, только дочку, чего она требовала, снабжал охотно и без труда. Требования её были очень скромные. Для себя Бреннер также очень мало в чём нуждался. Малуская имела какую-то пенсийку от семьи мужа, которой ей хватало на небольшие нужды.
Пан Каликст так легко, может, не познакомился бы с панной Юлией, если бы не настоящий романсовый случай. Вечером того дня, когда и кухарка была в городе, и Агатку послали за сухарями, пани Малуская, ходя неосторожно, свечой подожгла в салоне шторы. А так как чрезвычайно боялась огня, начала испуганно вопить: «Горит! Горит!», отворила двери выбежала на лестницу. От сапожника разошлись люди, никто как-то не услышал крика или его не понял, когда пан Каликст сбежал сверху, бросился в салон, оборвал шторы, залил огонь и, очень быть может, что не только от страха, но и от опасности избавил этих дам. Тут, естественно, встретился глаза в глаза с панной Юлией, которая с равным, как он, хладнокровием и мужеством помогала в подавлении огня. Вскоре оба даже смеяться могли над случаем, маленькой неприятностью, хоть законченной великой тревогой. Тётя плакала от страха и благодарности.
Спасителю невозможно было не задержаться на минуточку, особенно, что он очень и сразу понравился, что дал узнать себя лучше, чем обычно при первой встрече, и что он равно, как и панна Юлия, почувствовали друг к другу симпатию, что-то родственное в душах своих. Пан Каликст заметил какую-то книжку, что-то смекнул, поняли друг друга в одних симпатиях и отвращениях. Панна Юлия была также поклоницей Мицкевича.
Завязалось неожиданное, дивное знакомство. После ухода соседа панна Юлия как-то долго о нём думала. Тётя постоянно говорила о нём. Пан Каликст был как молнией поражён видом красивой Юлии – сразу почувствовал себя влюблённым и это приводило его в отчаяние, потому что чувствовал себя связанным и невольником.
На первом этаже и на верху почти одни чувства, одинаковые решения родились – панна Юлия чувствовала, что юноша произвёл на неё впечатление, какого не испытывала в жизни; имела намерение защищаться, гневалась на себя за избыточную чувствительность и сентиментальность. Каликст пробовал шутить сам над собой, пожимал плечами, потом бросился к книжке – не мог читать, хотел заставить себя, преследуемый воспоминанием, взялся за работу, та не шла, сколотил стишок, порвал его и, приведя в порядок немного обожжённые руки, очень поздно пошёл спасть.
Когда ночью уже вернулся домой Бреннер и застал на пороге тётку, спешащую с рассказом о несчастье и спасении, внимательно глядя на него, сказали бы, что гораздо больше беспокоился прибытием на помощь соседа, чем самим происшествием.
На самом деле он ничего не сказал, но вместо того чтобы расспрашивать о неприятности и опасности, доведывался, каким образом мог сюда попасть юноша. Панна Юлия, которая слушала и смотрела на отца, поняла это и сильно зарумянилась. Как ни крути выпадало, чтобы хозяин пошёл благодарить храброго юношу; тётка, давая ему это невыразительно понять, думала, что сам до этого догадается. Бреннер, однако, вовсе, видно, не желал этого знакомства и главным образом, казалось, беспокоиться тем, что оно в некоторой степени завязалось само.
Эта забота была такой очевидной и для Юлии, видно, обидной, что после ухода тётки она почувствовала себя вынужденной сказать отцу:
– Вижу, что ты, папа, опасаешься этих отношений и знакомства, но прошу быть спокойным. Я не была легкомысленной и ей не являюсь, и для меня нет ни малейшей опасности.
Отец, который боялся любимому ребёнку сделать неприятность, начал объясняться, почти извиняться, оправдываться; не ушло также от его глаз, что Юлка была сильно взволнована, почти обижена и всё-таки непривычным образом этим задета. Он утешался, причинив временное неудовольствие, тем, что оно, однако, будет предостережением и предотвратит дальнейшее сближение молодых людей.
Совсем противоположного мнения была, по-видимому, тётка, которая видела в том, как бы перст и волю Божью, а в пане Каликсте самого желанного мужа для дорогой племянницы. Этого, однако, она никому не разбалтывала. Обещала только молиться по этому случаю.
Бреннер, человек неизменно ловкий и хитрый, как оказалось, назавтра выбрал такой час для выхода из дома, чтобы как раз на лестнице встретиться с паном Каликстом. Очень холодно с ним поздоровался.
– Я слышал, – сказал он, – что вы были так любезны вчера прийти в помощь моим женщинам в этом их переполохе. Позвольте вас за это поблагодарить. Я так занят и в таких часах домой возвращаюсь, что мне иначе трудно было бы вам этот долг оплатить.
Пан Каликст сказал только, что это была очень маленькая услуга, не заслуживающая никакой благодарности, а Бреннер, избегая дальнейшего разговора, тут же ускорил шаги и – ушёл.
Хотя пан Каликст сам себе, по-видимому, в этом не признавался, однако же в первый раз на следующий день начал искать средства встретиться, увидиться с прекрасной Юлией. Это не было лёгким. Отношения с тётей поддерживались как можно лучшие, но панна не показывалась.
Совпадением или инстинктом, не знаю уже чем следует назвать, но спустя несколько дней потом, когда панна Юлия возвращалась через Саксонский сад с Агаткой домой, на дороге попался Каликст. Не задумываясь над тем, что делает, не заботясь о том, не будет ли дамам назойлив, – поклонился, приблизился, и начал разговор, говоря себе в духе, что если панна Юлия будет от него избавляться и покажет ему явную холодность, тут же с ней попрощается.
Панна в самом деле ужасно зарумянилась, сильно смешалась, но в ту же минуту восстановила хладнокровие, весёлость, и не то что не оттолкнула пана Каликста, но, не показывая ни малейшего кокетства, с серьёзностью и великой простотой завязала с ним беседу, вовсе не стараясь его отпихивать.
Было жарко, поэтому начали с общих фраз, дошло до музыки, которой пан Каликст был очень большим любителем, потом на поэзию и книжки.
Начали говорить о «Марии» Малчевского, о балладах Мицкевича и нескольких неопубликованных его стихах. Каликст удивился, что панна Юлия знала их, некоторые даже заучила на память. Говоря о поэзии, исключили чувство. Однако беседа молодых людей вовсе весёлой и легкомысленной не была. С первых слов Каликст заметил, что перед ним не кокетливая девушка, но женщина не по годам взрослая, почти на глаз холодно и здорово судящая обо всём. Шутливый тон вовсе не приставал к её расположению – легко ему пришлось его изменить.
От поэзии перешли к историческим романам Вальтера Скотта, которые тогда занимали своей новизной и красотой. Тогда как раз выходил «Монастырь», переводили коллективными силами, к которым и Гошчинский в значительной мере принадлежал. Оба не заметили, как от Саксонского сада прошли значительное пространство к улице Святого Креста, обмениваясь мыслями, улыбаясь друг другу и всё сильнее чувствуя, что друг с другом во всём дивно соглашались.
– Не считай, пани, за зло мою навязчивость, – сказал в итоге Каликст, видя, что уже до каменицы было недалеко и желая сначала попрощаться с панной, чтобы возвратившись с ней вместе, не давать повода к сплетням хромому Ноинскому, который постоянно смотрел в окно, и ребятам Арамовича, – я не заметил, как убежало время, и мог вас утомить. Но не принимай, пани, этого за комплимент, настоящую красоту вы набросили на меня, не мог устоять…
Юлия серьёзно поглядела на него, но без гнева и мягко.
– Если бы я гневалась, – отвечала она, – и если бы мне, без лести, разговор с вами приятным бы не был, я бы попрощалась с вами сразу в Саду. У меня есть привычка, может, до избытка быть искренней и открытой. Для вас этот разговор не был какой-нибудь редкостью, потому что вам гораздо легче, наверное, найти общество… У меня нет никакого. Однако же должна вас предупредить, – прибавила она с улыбкой, – что отец мой очень суров и, хотя мы так близко друг с другом соседствуем, даже пригласить вас к нам никогда не смогу.
Она говорила это так естественно, что пан Каликст не мог ни объяснить себе эти слова иначе, как звучали, ни вытянуть из них ничего. По тону, по голосу было видно, что была искренна, а глаза говорили, что была добродушна.
– А, пани! – воскликнул Каликст. – Это было бы слишком большое счастье для меня, на самом деле, я никогда бы в этом не смел признаться. Пусть мне, однако, будет разрешено, если когда-нибудь счастливый случай позволит нам встретиться…
Панна Юлия зарумянилась, молчала, Каликст, видя, что приближаются к каменице, быстро с ней попрощался. Ни Ноинский, ни ребята Арамовича, ни недостойный мошенник Ёзек незаметили Каликста, провожающего панну, но – от тёти тайна укрыться не могла, потому что из окна на первом этаже видно было далеко, а пани Малуская, читающая книгу с помощью очков, отдалённые предметы отличо различала. Вдобавок Агатка шла за панной, а была болтушкой, что бы и смертный грех разболтала.
С опущенной головой, панна Юлия одна, задумчивая, возвратилась домой. Тётке так было срочно поговорить с племянницей, что вышла навстречу ей на лестницу. Не смела заговорить, а пылала любопытством.
Юлия, снимая плащ, сразу сказала:
– Знаете, тётя, с кем я встретилась?
– Я догадалась… а скорее, признаюсь тебе, дорогая, издалека видела.
Юлия сильно зарумянилась.
– Ну, тогда мне уже не в чем признаваться, – сказала она весело.
– Но, напротив, говори, потому что горю нетерпением, как же это было? Как?
– Случайно встретилась с ним, возвращаясь, в Саксонском саду.
– А! Случайно, отлично! – прервала тётка. – Хочешь, чтобы я поверила в случайность! Плут-парень шпионил за тобой, искал, ждал и настоял на своём.
– Но не может быть, – возмутилась Юлия.
– Почему? И что же в этом плохого? – говорила тётка. – Я почитала бы его слепым, если бы в тебя не влюбился, а признаюсь тебе…
Не докончила и спросила:
– Прицепился и провожал?
– Ну, так, если тётя хочет, то прицепился… Разговаривая, мы шли почти до каменицы, но он имел столько деликатности, что раньше со мной попрощался.
– Потому что умный, потому что порядочный, что называется, – прибавила тётка, хлопая в ладоши. – Зачем же Ноинский сразу сделал из этого какую-то историю!
Помолчали немного, а пани Малуская вздохнула.
– Не говорю я ничего никогда против отца твоего, умный человек, отец добрый – но почему бы также не пригласить его домой… С каждым другим я понимаю осторожность, но это человек образованный, приличный, ты не по возрасту степенна. А впрочем, для чего же я тут суммирую?
Она рассмеялась, пожимая плечами.
– О том и речи быть не может, – заключила Юлия.
Действительно, она закончила даже разговор, обращая его на иные предметы.
На следующий день они встретились случайно на лестнице. Пан Каликст нёс книжку, показал её, панна Юлия заинтересовалась ею, просил, чтобы взяла её почитать и отослала ему потом. Не отказала. Напротив, Юлия поглядела на него весьма дружелюбно, подала ему руку. Они были как-то близки друг с другом, добры, без кокетства и без тревоги, как брат с сестрой.
Расстались с тем чувством, что снова должны встречаться и видеться будут, хотя этого друг другу не сказали. Только Агатка и кухарка шептали потихоньку, что холостяк сверху к их панне уже зарекомендовался. Тётя, подслушав разговор, сильно их упрекнула, объяснила невинное знакомство пожаром, и велела молчать.
Кухарка, однако, что-то доверчиво намекнула о том Ноинской, а та, женщина большого опыта, сказала ей на ухо:
– Я давным-давно знала то, что этим должно закончиться. Сударыня моя, кровь не вода… оба словно созданы друг для друга, но что старик на это скажет? Гм! Тут сук.
– Старик! – сказала кухарка, задумчивую голову опирая на локоть. – Старик… а кто нашего пана отгадает? Скажите, пани мастерова, кто из нас его знает? Я у них служу, каждый день его вижу, думаете, пани мастерова, я его до мельчайшей подробности знаю! Никто даже не знает, что он на свете делает.
– Уж это правда, – поддакивала Ноинская, понижая голос и шёпотом выговаривая признание. – Потому что он или служит, или торгует, или разбойничает, или чем-то там на свете хлеб зарабатывает, никто, ей-Богу, никто не умеет отгадать.
– Вы думаете, пани мастерова, – добавила кухарка, – что его самые близкие, Малуская или ребёнок родной, знают его ходы и заходы, ей-Богу, столько, что и мы, пани мастерова, или я…
– Но может ли это быть, моя сударыня, – шептала Ноинская, вытирая нос природой данным для этого инструментом, – слыханная и виденная ли вещь, чтобы это так скрывалось? Господи Боже, отпусти грехи, могло бы показаться, что там что-то криво стоит, когда так людских глаз боится. Сударыня моя, как например, когда мой старик ботинки шьёт, не таится с тем, или тот Арамович, что стульчики колотит, известно о том всему свету А тот – служит не служит, торгует, мошенничает – кто его знает. Это правда.
– Святая правда, моя пани мастерова. Или то также, что к нему никто никогда прийти не придёт. Выйдет рано, весь день его нет, на обед, как бы не имеет своего часа, приказание есть: не ждать. Часто вернётся, когда мы уже спать собираемся, только панна всегда, не раздеваясь, ждёт его… и ждёт. Прилетит, как бы от горячки, с позволения, врывается сразу в своё бюро. Из кармана какие-то бумаги выбирет и на ключ закроет.
– Что вы говорите? Бумаги? Он носит бумаги? – прервала Шевцова.
– А как же! Полные карманы! А так о них помнит – как зеницу ока бережёт. Запихнёт в бюро и закроет. Раз, единственный раз так получилось, что в сюртуке что-то забыл, я скажу мастеровой, с позволения, в одной рубашке он вылетел сразу в сени, чтобы достать эти бумаги. А бледный был, трясся, аж страх.
– Если я прошу кого, моя сударыня, – отозвалась Ноинская, – то всё-таки не без причины… конечно, бумаги, должно быть, важные.
Она наклонилась к уху кухарки.
– Я вам скажу, я бывалая… это ни что иное, как деньги, которые под процент одалживает. Но когда Матусовой пятьдесят злотых было нужно, расступись земля, а пошла его просить – не дал.
– Не дал?!
– Не дал! Сказал: «Разве я какой-нибудь процентщик, капиталист? Откуда у меня деньги?». Хотела Матусова залог дать, тогда ещё накричал на неё и хлопнул дверью. Только на следующий день Малуская, будто бы из своих денег дала ей на две недели под процент. Не кокетство ли это? Хо! Хо! Думает себе: знают ли они, чем я занимаюсь? Ноинский придёт, придёт Арамович, разгласятся большие проценты… сразу человек упадёт в цене. А так, что на Праге или на Солцу станет, кто его знает? И человек себе пан редчайший, и остерегаться нужно.
Кухарка кивала головой.
– Уж как вы это, пани мастерова, выкладываете, как бы человек смотрел… наверно, должно быть не иначе.
– Я скажу вам, – шепнула таинственно Ноинская, – у него своя контора где-то в городе… Где бы он сидел по целым дням? Где?
– Очевидно, – сказала кухарка, – пани мастерова, также не тайна, слякоть ли, грязь ли, мороз ли, молнии бьют ли, он должен выйти, чтобы там, не знаю что… должен.
Обе кумушки замолчали.
– Я поклялась бы, – добавила Ноинская, – что денег имеет много.
– Кто его знает? Поэтому сам себе на обувь почти жалеет…
– Впрочем, добрый человек, – поправила мастерова, – нельзя плохого сказать!
Кухарка странно склонила голову направо и налево.
– Чтобы был плохой, этого я также не скажу. Не сумасброд – человека не обидит, но, чтобы снова к нему можно было пристать, нужно быть дочкой, пожалуй… Э! Панинку то уж любит как нельзя лучше – но столько свечей и воска. Уж Малускую считает бабой, а остальной свет…
Махнула рукой.
– Дочке-то рад бы небеса пригнуть – это правда, но и только… Зеница ока для него. Для неё бы на самые дорогие вещи не поскупился, а для себя белья не справит и ходит в залатанном.
– Ну и что с тем романом будет, как вам кажется? – спросила Ноинская.
– Кто их знает! Наша панна, как отец, замкнута, даже не выдаст, что думает. Малуская готова бы посредничать. О! Баба! Аж рот не закрывается, но с нашей панной… Мне видится, что ни дочка, ни отец и никто не будет слушаться друг друга на свете. Как чего хочет или не хочет, то там напрасно рот остужать…
Ноинская кивнула головой.
– Кавалер степенный, отец, слышала, около Сандомира деревню имеет, брат под великим князем в войске. Никогда тут в каменице не видели, чтобы самые маленькие любовные похождения на нём были. Молодой, приличный.
– Пани мастерова, – отчеканила кухарка, – уж Богом и правдой, и панне также ничего требовать не нужно. Красивая, панское образование и отец деньги делает.
– Что это? – спросила Шевцова. – Разве не знаешь ты, что шляхте прислуживала, что такой Бреннер, может, происходит из евреев или швабов, что ещё хуже… это всегда только смердит… Гм! Гм!
– Ну всё-таки, моя мастерова, когда есть деньги…
– О! Вот правда, моя сударыня, деньги, деньги! Пусть бы их свет не знал! Всё зло от них. Человек лезет из кожи вон, работает – не экономит, а такому вот, что руками ничего, только головой работает, людей обманывает, сами ему идут в карман. Ей-Богу…
Кухарка, которая стояла с корзиной, надумала наконец выйти в город, и занимательный разговор на этом прервался.
* * *Никогда, пожалуй, может, только накануне Четырёхлетнего Сейма, не было столько оживления в Варшаве, как в этом году, который должен был стать памятным ноябрём. Но Четырёхлетний Сейм, исключая минуту перед оглашением устава 3 мая, явно работал и влиял на страну, – движение 1830 года должно было всё себя скрывать. Малейший его признак был подозрительным и не проходил безнаказанно. Вся бесчисленная фаланга шпионов самого разного калибра и ранга особенно следила за молодёжью, в которой подозревали революционный дух. Практически было виной собираться на беседу и чуть громче объявить более смелое мнение.
Каждое утро князь получал рапорты, в которых читал, что вчера произошло в столице. Мы уже говорили, что вся эта искусная машина не много пригодилась, редко ей удавалось действительно что-то важное подхватить – но была вынуждена за деньги, которые стоила, чем-то расплачиваться, приносила мелочи и служила для мучения людей, для преследования их страхом. За меньшие провинности, за невнимательные слова выше расположенные особы вызывали в Бельведер – что уже было наказанием – за подозрения, когда падали на тех, с которыми не нужно было делать много церемоний, тянули в тюрьму Здесь часто одного следствия хватало, чтобы вызвать болезнь человека, довести до смерти, ежели чего находили.
Несмотря на эту суровость и аргусово око, никогда, может, не было большей охоты к заговору. Заговоры были в воздухе, патриотичные стихи обегали Варшаву и провинции. Хватали их, не в состоянии получить исполнителей, расплачивались те, у которых их полиция хватала. Почти каждый день приносили князю какие-нибудь строфы, которые его побуждали к ярости.
Любовидзкий со всей своей армией никогда не мог подхватить больше, чем то, что плавало на поверхности. Тут и там появлялся виршек, начерченный углём на стене, кусочек бумаги, прилепленный к стене; писали рапорты. Состояние духа объявлялось даже слишком очевидно, но жилище его ни один глаз выследить не мог. Кто бы мог допустить, что одним из очагов была находящаяся под боком и оком князя Школа Подхорунжих? Молодёжь никого из старших не допускала к тайне, боясь, как бы их холодный разум не остудил её запала. Рассчитывали на многих, не взывали к совету никого.
Одновременно с патриотическим движением и профсоюзным задушенное и удерживаемое цензурой литературное выливалось за её берега.
Чего печатать было нельзя, то кружило, переписываемое.
Так же, как заговорщики чувствовали необходимую нужду свободы для народного духа, литераторы видели необходимость разрыва тех уз, которые на них надевали бессмысленная организация школ и педанство. Из Вильна и Литвы вышло это реформаторское движение, которое было только отражением пробегающего по Европе тока. Польская молодёжь, порвавшая на какое-то время традицию равномерного хода с западом и цивилизацией, заново прививала и вязала. Варшавский классицизм был выражением бессмысленного, гнусного консерватизма глупцов, скрывающих свою наготу за статуями древних мастеров. Мицкевич поднял хоругвь прогресса, жизни. С одной стороны была смерть, с другой – может, иногда безумная, выросшая, но живая жизнь. Между фалангой тех, что держались с трупами, и отрядом горячих рыцарей будущего кипела война, перчатку для которой бросил Мицкевич сочинением, адресованным варшавским критикам. У генерала Красинского и в других домах горячо спорили о романтизме и классицизме, под которыми скрывались попросту жизнь и движение – смерть и онемение. Между воюющими отрядами стояли грустные, не зная, куда идти, чтобы не покинуть братьев, сладкий певец «Веслава» и остроумный Моравский. Козьмиан тем временем кидал молнии в новаторов и славу лагеря поддерживал умершими в зародыше поэтами.
Мысль ведения той борьбы не для всех была ясна, но эпизоды её побуждали. Спорили о рифме, о размере, о предмете, о выражениях, о мелочах с неслыханной запальчивостью.
В этом на вид невинном бою, в который трудно было вмешаться полиции, князь и его клика видели, однако же, одно – движение, которое пробуждало от сна умы и слишком оживляло людей, некоторую смелость и независимость. Было немного революции в романтизме, а последователи его состояли из элемента, ненавистного князю, который только под карабином и под палкой охотно глядел на молодёжь.
Поэтому полиция бдила также над Литературным кафе, над литературными вечерами в домах, над редакциями самых невинных сочинений, как над самыми подозрительными очагами.
Спустя несколько дней после встречи с панной Юлией на лестнице Каликст, который любил прислушиваться к разговорам о литературе и учиться из споров, какие почти всегда вызывались, вечером пошёл в кафе. Он знал нескольких особ, принадлежащих к литературному кругу, и был допущен в него, хотя среди этого круга очень скромно выделялся. Тут всегда можно было узнать о недавно изданных и перспективных книгах, о судьбе сочинений и ежедневников, которые думали создавать. Что до политической прессы, развитие той было совсем невозможным в эти минуты – даже думать о ней не смели, поэтому, с тем большим запалом бросались к литературным проектам, к которым охота и желание были хоть отбавляй, но на средствах. Практически вся горячая молодёжь была зависимая и бедная, а старые меценаты присоединялись к противоположному лагерю.
Несмотря на несколько сочинений, нужда в литературном сборнике была признана всеобщей. В нём должны были размещаться и новые работы, и полемика о них. Увы – на это издание, такое желанное, не хватало меценатов и фондов. Распространение в то время было относительно небольшим, в деревнях читали по-французски или не читали вообще, подписные издания развозили апостолы[9], навязывая их стонущим на налоги; издание, поэтому, должно было иметь меценатов и поддерживаться пожертвованиями, своей силой возникнуть не могло.
Речь шла также и об определении программы, а тут одни становились на краю к борьбе, другие с Бродзинским требовали эклектики и прощения, не осуждая никого.
Не вечерах на кофе показывались тогдашние знаменитости, младшие, по крайней мере. Не был беспримерным Лелевел[10], на которого не только глаза и сердца учёных и реформаторов, но и горячей молодёжи, расположенной к действию, обращались. Приходили сюда и украинцы, молодой, энергичный отряд, и литвины, воспитанники Вильна, как те были детьми Кжеменца. Но с Лелевелом о тогдашней литературе говорить было трудно. Нёс он факел во мраке истории, вооружённый суровой критикой, но в деле романтизма руководствуясь только чутьём, признавал правоту того, в ком чувствовал самую горячую жизнь, энергию и силу. Вечера в этом кругу проходили очень приятно. Не было почти дня, чтобы сюда кто-нибудь из давних гостей не приводил нового пришельца «из-за Буга».