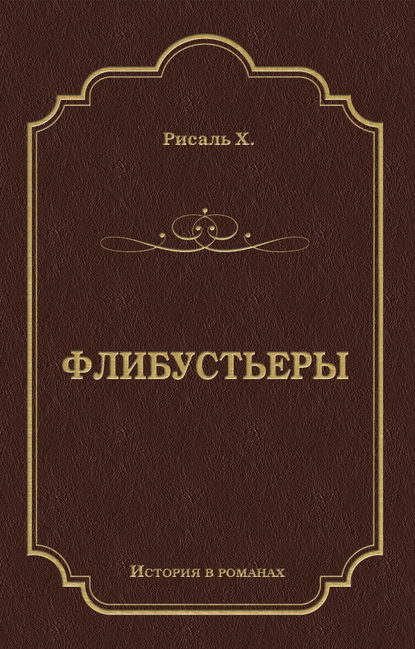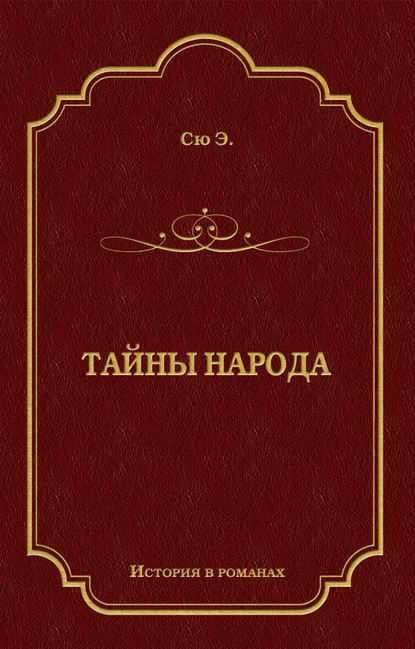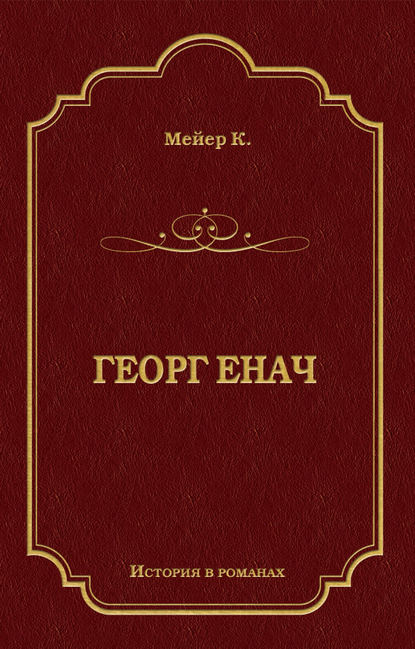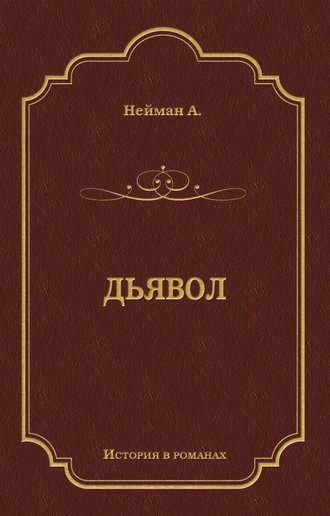
Полная версия
Дьявол
– Оливер, – спросила она тихо, – это ты положил мне платок на голову?
Он ответил сквозь зубы:
– Нет! – и, встав через минуту, направился к двери.
– Пойдем! – сказал он.
Она колебалась.
– Пойдем, – повторил он настойчиво, с лихорадочным взглядом. – Право, это стоит посмотреть.
Он коротко засмеялся и вышел во двор. В его словах и смехе была какая-то подзадоривающая осведомленность, было что-то противное, что возбуждало ее любопытство и делало ее послушной. Она последовала за ним и нагнала его у дверей. Молча шагали они полем по освещенной луной дороге к роще. Тут Оливер остановился и шепотом сказал ей, чтобы она сняла свои стучащие сабо[5]. Босиком прокрались они к хижине дровосека, откуда мерцал свет. Здесь жена увидела Клаэса, лежавшего около Гретье Хоувель, пятнадцатилетней служанки из Уденаарда. Элиза сделала движение, как бы желая броситься в хижину или закричать, но Оливер, стоявший сзади нее, обхватил ее, зажав правой рукой рот, а левой сдавил грудь; прижавшись лицом к ее спине, он взволнованно прошептал:
– Генрих!
С минуту, как оглушенная, подчинялась она этим объятиям. Потом, сильно оттолкнув мальчика, поспешно удалилась. Хотел ли того случай, чтобы она в поле на уединенной дороге встретила Генриха, или же это он подкарауливал ее за стогом сена? Его сильные руки подняли ее. Она не кричала и не сопротивлялась. Он понес ее в поле, задыхаясь и бормоча бессвязные слова, и осторожно опустил ее на землю.
Оливер, неподвижный, как столб, облитый лунным сиянием, стоял в воротах, загораживая вход, и ждал. Сперва явилась Элиза; она бежала, как бы преследуемая кем-то, и отпрянула при виде него. Тяжело дыша, уставилась она на мальчика широко раскрытыми глазами, смущенно и поспешно зашпиливая в узел распустившиеся волосы. Оливер молчал, лицо его было неподвижно. Его глаза в белом свете месяца казались так глубоко запавшими в своих орбитах, что женщине почудилось, будто ночь, просверлив ему голову в двух местах, проглядывала через них в бесконечный мрак. Женщина застонала и спросила совершенно изменившимся, чужим голосом:
– Ты ослеп, Оливер?
Мальчик не отвечал, но ей показалось, что он усмехнулся. Она закрыла глаза рукой, прижалась к воротам, чтобы его не задеть, и так прокралась мимо него мелкими, смиренными шажками. Он не обернулся в ее сторону.
Потом пришел Генрих, с опущенными руками и согнутой спиной. У ворот он поднял голову и не особенно испугался.
– Ах, это ты, Оливер, – сказал он грустно.
Однако ему, когда он пригляделся к мальчику, стало не по себе, и он залепетал смущенно:
– Я ее… не нашел… не нашел… Оливер, пожалуйста…
Наклонившись, он уставился прямо в глаза мальчику и вдруг ударил его по лицу. Оливер стукнулся о ворота, Генрих прошел во двор. Мальчик без единого звука боли или ярости покачал головой и опять встал на свое место.
Он ждал минут двадцать; тишина ночи шумела в его ушах. По временам лаяли собаки, из деревни доносились крики пьяных. Оливер стиснул зубы; ему вдруг захотелось плакать. Однако он не плакал. Пришла Гретье, напевая песенку. Она вскрикнула:
– Господи Иисусе! Матерь Божья! – и, проходя мимо, тихо, убежденно добавила: – Дьявол!
Пришел и Клаэс, несколько склонившись вперед и шагая своими большими шагами:
– Что ты тут делаешь, Оливер?
Мальчик посмотрел на него долгим взглядом и заговорил тихо, почти без всякого выражения:
– Плетка еще в крови, а Гретье уже тут.
Клаэс, приоткрыв немного рот, посмотрел мимо говорившего и прислонился к стене, как будто вдруг почувствовал себя очень усталым. После длинной паузы он сказал с бессмысленным видом: «Да», поднял мальчика, поцеловал его в лоб и, закрыв ворота, понес в дом.
С этих пор Оливер, как тиран, воцарился над их нечистой совестью. Он никогда не грозил и не вымогал, но он удручал и мучил людей своим взглядом, своим серьезным видом, своим смехом, наконец, просто своим присутствием, ибо знал об их скрытых отношениях. Он больше не приближался к мачехе, и она тоже с этого дня молчаливо и как бы случайно отказалась от своей власти над ним и своего права воспитательницы и относилась к нему как к взрослому. Генрих постоянно старался разнообразными ласками загладить свой удар по лицу, но Оливер не давал себя ни подкупить, ни растрогать. Так же и по отношению к отцу, который в ту пору хотел с ним сблизиться, Оливер оставался холодным, отсутствующим и непроницаемым. Он не давал вырвать у себя своей тайной власти. Он знал, что две необузданные натуры, Элиза и Генрих, снова и снова сходились и что старческая привязанность Клаэса к молодой девушке все увеличивалась.
И эти трое тоже знали, что мальчику известен каждый их шаг и что от него зависит, предоставлять ли им удобные случаи или, напротив, создать препятствия; в такие моменты он еще больше мучил их своим присутствием.
Но настала наконец ночь, когда терпение Генриха истощилось. Он наполнил довольно объемистый мешок стеклом, истертым в мелкий порошок, и крадучись, босой, внес его в каморку Оливера. Но мальчик не спал. Он спросил в темноте:
– Кто там?
Брат стоял молча. Тогда Оливер, как бы видя во мраке ночи, воскликнул:
– Ах, Генрих!
У Генриха выступил на лбу холодный пот. Он подождал минуту-другую и, так как Оливер оставался неподвижным, прыгнул к кровати, взмахнул мешком и высыпал его содержимое.
– Ах, Генрих, – сказал за его спиной Оливер, уже прокравшийся тем временем к двери, – разве ты не знаешь, что я тоже сын твоей матери?
Он закрыл дверь на запор снаружи и промолвил сквозь ее створки:
– Этот песок должен был разодрать мне легкие, брат Генрих, я уже слышал об этом. Таким способом один человек в Брюгге извел много народу. Но почему же ты хочешь лишить меня жизни, Генрих?
Брат не двигался, до крови кусая себе пальцы. Через минуту он снова услышал мягкий, низкий голос Оливера:
– Видишь ли, Генрих, я ничего не говорил отцу о тебе и Элизе, но завтра я ему скажу, завтра или послезавтра, лучше завтра утром, потому что завтра вечером ты снова попытаешься меня убить. А теперь спокойной ночи!
Он ушел и переночевал на сеновале. На следующее утро отомкнул он дверь своей каморки и нашел брата на кровати в глубоком сне. Он разбудил его. Генрих поднялся со смущенным лицом. Оливер спросил его со своей злой усмешкой:
– Ты выбросил в окно только песок, а почему не самого себя?
Генрих схватил его за руки и умолял:
– Не говори ничего.
Оливер сделал гримасу. Тогда Генрих поднял кулаки, но брат уже выбежал из комнаты. До полудня Генрих, снедаемый страхом, еще работал кое-как, наблюдая за отцом и Оливером, словно нечаянно бродившим около него. После же обеда и в течение остального дня, когда наблюдение за ними становилось все затруднительнее, неуверенность лишила его стойкости. Он приказал батраку, который должен был отвезти муку в Гент, остаться по какому-то поводу дома, а сам поехал в город. Он не вернулся; он отправился из Гента в Брюгге. Какой-то односельчанин доставил по его поручению повозку обратно и сообщил, что Генрих поехал по делам в Льеж. Так как подобного рода внезапные отлучки были в обычае у Неккеров, то на это сообщение не обратили особого внимания. Только Оливер криво усмехнулся. Элиза заметила эту усмешку, но она была из числа людей, которые мало спрашивают и многое молча переживают. Оливер не знал, скучала ли она о Генрихе или уже и не думала о нем. Он стал с нею приветливее.
Шесть недель спустя Генрих снова объявился в Генте и, без труда узнав, что дома не произошло ничего особенного, в тот же день прибыл в Тильт с деньгами, несколькими кипами тонких платков и значительным заказом на местные продукты. Прием был холодный, ибо у Неккеров чувства не были в почете. Клаэс кивнул ему головой. Элиза слегка улыбнулась и сказала:
– Добрый вечер, Генрих!
Оливер сделал вид, что не замечает протянутой ему братом руки.
И все-таки к одному человеку в это время он был добр без какой-либо преднамеренной цели или скрытой мысли, а именно к Луизе, самой красивой и самой опасной из его двух сестер. Когда ей минуло восемнадцать лет, она резко изменила свою еле заметную и отнюдь не шумную девичью жизнь. Ее пробудившееся тело некоторое время смущало лишь ее самое. Потом она быстро научилась пользоваться им, пленять им мужчин и находить в этом радость. В ту пору нашла она в Оливере, которого, подобно другим, доселе сторонилась – хотя и без проявления ярко выраженного к нему отвращения, – естественного союзника, помощника, гонца, передатчика и защитника. Им не было нужды друг другу открываться, стремиться к общению, добиваться друг у друга доверия и заверять в скромности. Когда она как-то раз вечером выскользнула из амбара, перед ней очутился Оливер и дружески посоветовал ей, ввиду того что Элиза еще не спит, не возвращаться пока домой, но пропустить вперед батрака Жана, а самой подождать в амбаре, покуда он, Оливер, не стукнет камнем в ворота. Этим у них все и ограничилось. С этого часа стали они сообщниками: устраивали проделки сперва у себя на дворе, потом и на деревне. Они подлавливали мужчин, начиная с подростков и кончая сбившимися с пути почтенными отцами семейств; они дразнили их, обманывали, натравливали друг на друга и покатывались со смеху, когда те дрались, а их жены ревели. Немногие осмеливались жаловаться на них Клаэсу. Старик высмеивал или выпроваживал жалобщиков, ибо знал, что Оливер стоит где-нибудь тут же в углу или за дверью. Однажды Элиза попробовала притянуть девушку к ответу, но Луиза оказалась не одна: из-за ее спины глянул на мачеху Оливер, и та умолкла. Возможно, что Луиза удивилась его власти, а может быть, сочла такое влияние соответствующим его поведению; во всяком случае, она не расспрашивала его по этому поводу. Потом дом оказался тесен для ее диких забав, и она поехала с Оливером на большую субботнюю ярмарку в Брюгге. Оттуда Оливер вернулся один. Клаэс спросил о Луизе.
– Она хорошо устроилась, – сказал Оливер и вздернул голову.
– А вернется она? – тихо спросила Элиза.
– Нет.
Больше о ней не говорили.
Судьба, которую Оливер до сих пор видел в своем кругу, которую он своеобразно и рано испытывал, но которая сама к нему еще не прикасалась, ухватила его за руку, когда ему минуло пятнадцать лет. В Тильте царило возбуждение. Восьмилетняя Розье, дочь булочника Дашера, пошла по ягоды и не вернулась обратно домой; розыски не помогли: она исчезла. Одновременно с этим первый раз в жизни заболел Оливер. Всю ночь его рвало без всякой видимой причины, в доме, кроме него, никто не заболел. Он много плакал, что было странно, ибо его еще никогда не видели плачущим; он не говорил ни слова и впустил к себе только Элизу. Два дня пролежал он и, когда вечером второго дня Элиза захотела его покинуть, задержал ее и вымолвил тихим голосом:
– Я тебя прощаю, матушка, прости и ты меня.
Элиза с беспокойством уставилась на него.
Он не стал отвечать на ее расспросы и казался утомленным. Тогда она поцеловала его легонько в лоб и ушла.
В ту же ночь Оливер встал и, одевшись, собрал свои вещи в узелок. Потом с маленьким фонариком в руках пошел он босиком к каморке отца, который уже много лет спал один. Дверь была заперта. Оливер постучал. Отец сейчас же ответил бодрым, несколько хриплым голосом:
– Кто там?
– Оливер.
– Что ты хочешь, Оливер?
– Открой, отец.
– Зачем тебе, Оливер?
– А почему ты не хочешь открыть, отец?
Клаэс помолчал с минуту, тяжело дыша, потом заговорил:
– Я не хочу тебя видеть, Оливер.
– Как же не хочешь ты меня видеть, отец, раз ты должен меня выслушать?
Тут Оливер услышал короткое, дикое всхлипывание. Минуту спустя он сказал еще тише:
– Разве тебе легче меня не видеть, отец?
– Я не знаю, о чем ты говоришь, – отвечал тот глухо, как если бы его рот зажимала рука, – но, во всяком случае, я не хочу тебя видеть, Оливер!
Прижавшись лицом к шероховатым доскам, сын простонал:
– Мне надо уходить отсюда, отец.
– Почему, Оливер?
– Я знаю, где лежит Розье и как она выглядит.
После этого наступила такая тишина, что Оливер слышал биение своих висков о дерево. Потом Клаэс зашептал:
– Да, ты должен уйти, Оливер.
В ответ Оливер тихо спросил:
– Это все, отец?
– Я тебя любил и все еще люблю, Оливер, сын мой.
Оливер упал на колени и вонзил ногти в пол:
– Отец, а завтра ты еще будешь меня любить?
Голос Клаэса прозвучал свободнее, страх оставлял его:
– Мертвые не любят, Оливер.
Мальчик подергал запор и мучительно застонал:
– Я хочу видеть тебя еще раз, отец, я хочу тебе что-то сказать, отец, что-то, что я знаю и чего ты не знаешь.
Клаэс перебил его ясным, спокойным голосом:
– Ты меня не должен больше видеть, Оливер, и не должен ничего мне говорить. Ты должен презирать людей, как я их презираю, но ты не должен обожать себя, ибо ты не Дьявол, а всего лишь бедный человек; ведь и я не люблю себя, ибо я тоже бедный человек. Ты имеешь право причинять людям боль, так как этим ты и себе делаешь больно. Вскоре ты узнаешь, что боль стоит рядом с радостью, а может быть, ты это уже узнал, Оливер. А теперь иди!
Когда Оливер был уже на дороге между Тильтом и Гентом и наступило утро, в доме раздался вопль Элизы, нашедшей удавленника.
Оливер поспешил покинуть Гент, прежде чем слух о деревенском происшествии достиг города. Уже в полдень нашел он одного льежского торговца оружием, ехавшего в собственной повозке в Брюгге и выразившего согласие за плату взять с собой мальчика.
В Брюгге Оливеру не долго пришлось расспрашивать о Луизе. Хозяин гостиницы, у которого год назад он стоял с сестрой, оставив ее потом в полное обладание богатому тучному старику суконщику, стал насмешливо разглядывать тщедушного юнца; потом трактирщик иронически спросил, есть ли у Оливера возможности подступиться к этой даме – а возможности потребуются в двойном смысле (тут хозяин грубо засмеялся), потому что-де она одновременно и самая пылкая, и самая дорогая куртизанка во всем городе. Оливер засмеялся вместе с хозяином, не дав ему никакого ответа, и, не напоминая о себе как о ее брате, сумел получить от него нужный адрес.
Луиза проживала в прекрасном доме близ ворот Св. Якова. Так как она имела дело исключительно с большими господами, то власти предержащие ее не беспокоили, тем более что она часто жертвовала на церкви, женские обители и богадельни, само собою разумеется, скорее из мудрого расчета, чем из чувства милосердия. Суконщик был ею уж отставлен. После того как он подарил ей дом, он стал скуповат и стеснителен, а так как ее красота была достаточно известна, то она имела возможность выбирать среди богатых купцов Флорентийской колонии и великолепных сыновей благородных фамилий Брюгге. Ла Росса, как ее прозвали и как вскоре она сама стала себя называть, была довольна своей судьбой.
Перед Оливером возникло препятствие в виде гиганта привратника, который упрямо и недоверчиво заявил, что госпожа сейчас не принимает.
Мальчик, в интересах своего будущего положения, нашел выгодным не называть себя ее братом. Он выдал себя за школяра, которого Росса намеревалась-де взять к себе в услужение в качестве секретаря. То ли его черное платье было похоже на костюм школяра, то ли слова были похожи на правду, но только привратник впустил его в дом.
Луиза приняла брата приветливо. Он остался у нее и стал услуживать ей, как и в Тильте. Но о своем родстве они помалкивали. Познакомившись с положением дел, Оливер через несколько недель с большой уверенностью взял на себя заведование ремеслом сестры. Он быстро понял исключительную власть ее тела и наметил для нее более высокие цели. Он обратил внимание на то, как во время мессы в церкви Св. Сальватора один высокопоставленный прелат не спускал с нее глаз. Она стала его любовницей и оказалась достаточно умна, чтобы последовать совету Оливера ограничить круг своих отношений к мужчинам, как того желал влиятельный и благосклонный к ней князь церкви. Что касается прелата, то ему понравился услужливый, во многих отношениях полезный и умеющий держать язычок за зубами, неглупый мальчик, которого одно время он намеревался пустить по духовной части. Оливер не возражал. Он учился грамоте и латинскому языку у братьев ордена госпитальеров[6], все время ловко растягивая срок искуса, назначенного его покровителем. Вскоре со свойственной ему наблюдательностью он заметил, что в присутствии Луизы лицо старика уже не оживляется так чудесно, как раньше, и счел выгодным переменить место и покровителя. В связи с этим в ближайшие же дни увидел Оливера у себя на квартире папский легат, молодой и красивый человек старинного рода, который, пируя у Луизы вместе с прелатом, бросал на нее жадные взоры. При встрече с достопримечательным секретарем этой дамы он услышал от него весьма обдуманное предложение: госпожа согласна следовать за ним, легатом, если он лично войдет в соглашение по этому поводу с прелатом и устроит через него покупку дома; если он будет готов взять с собой ее секретаря, привратника и двух служанок; если он обяжется по их прибытии в Рим просить о ее благосклонности не ранее восьми дней по приезде и если он сможет в течение этого же срока обеспечить ее необходимые расходы. Легат, которому не давала покоя блестящая бледность кожи Россы, ее узкий твердый рот, ее продолговатые глаза, становившиеся иногда янтарными, сказал «да» и встретил у добродушного, умно улыбающегося прелата не весьма большое сопротивление, каковое и сумел преодолеть. Они направились через Францию и Анжу в Ниццу, а оттуда на папской галере отплыли в Рим.
Там иноземная красота молодой женщины снискала ей восторженное поклонение. Легат не мог долго удержать Фиаммингу, как прозвали Луизу римские жуиры; он уступил ее всесильному кардиналу Борджиа[7] за богатое аббатство, тем более что был тщеславен и надеялся на кардинальскую шапку, если Борджиа получит желанную папскую тиару. Оливер остался первым лицом небольшого придворного штата Луизы, неизбежной инстанцией для получения ее согласия, персоной, с которой считался сам кардинал. И так как Оливер придерживался в своей политике мудрого правила: определенно и честно стоять на страже интересов того, чья дружба наиболее полезна, а равным образом следил за тем, чтобы отбирались подарки и у других претендентов, но сами они не проникали дальше преддверия спальни, то кардинал смотрел на него как на своего сообщника. Он занялся юношей сначала лишь для того, чтобы понравиться ему, а через него и Россе; потом заметил он нечто необычайное в молодом человеке: его стремление к темным целям, какую-то страшную, нехристианскую энергию, искрившуюся у него в глазах и делавшую его взгляд труднопереносимым. Однако это не был тот злой взгляд Джетатора[8], который надо поймать и парализовать амулетом из рога, раздвоенными ветками коралла или, по крайней мере, крестным знамением; нет, эти глаза не выступали наружу и не были близко расположены друг к другу, они сидели глубоко, осененные длинными ресницами, как глаза женщины; глаза неопределенного, неизмеримо глубокого мрака, манящего и опасного, как недвижная гладь альбанского озера. Кардинал заметил его поведение, умное, спокойное и в то же время полное сознания своей ответственности, его удивительную память, которой потребовалось едва ли четыре месяца для усвоения языка, его способности интригана, благодаря которым он в минутном разговоре распознавал людей, с тем чтобы, вооружившись знанием их слабостей, не грубо сбивать их, а запутывать, мягко и незаметно вести к поражению. Борджиа понял практическую полезность подобного человека, которого он уже не считал мальчиком (сам Оливер никогда не говорил о своих летах); несколькими словами направил он его, не страдавшего избытком совестливости, в новую и привлекательную область, область закулисной политики. Оливер, работая для него в качестве тайного секретаря, осведомляя его, вожака испанской партии, о делах противной группы, состоявшей из антиклерикальной римской аристократии и гуманистов, связанных с Папой Пием II[9] научными интересами и настойчиво боровшихся против кандидатуры Борджиа. Оливеру нетрудно было использовать для своих политических целей казавшийся нейтральным маленький палаццо близ форума Траяна, в котором жила Луиза; пользуясь Фиаммингой как приманкой, он склонил к должной доверчивости выдающихся аристократов и ученых. Но когда он по приказу кардинала поджег собранный им горючий материал, ему пришлось самому же пострадать от этого. Один ученый, принадлежавший к числу фанатических поборников республиканских и антипапских тенденций, Лоренцо Валла[10], доведен был Оливером и прочими провокаторами кардинала до заговора против жизни Папы. Борджиа надеялся получить таким способом возможность уничтожить всю партию, раскрыв заговор накануне покушения. Но ученый сдал раньше времени: он явился к папским властям, сознался в замысле и назвал своих сообщников. Борджиа, сам с трудом выпутавшийся из этого дела, без всякого раздумья отступился от своих людей. Однако, когда папские сбиры[11] проникли в дом Россы, чтобы арестовать ее секретаря и повесить его вместе с другими на башенке в замке Св. Ангела, они не нашли его. Оливер уже бежал в Браччиано, владетель которого охотно принимал всех тех, кого Папа преследовал. Там занимался он копированием латинского перевода Поджио «Киропедии» Ксенофонта[12]. Он обещал герцогу достать Фиаммингу.
Но Оливер больше уже не нашел своей сестры. Когда смертоносная чума ударила по сутолоке Священного года[13], он осмелился посетить Рим, охваченный ужасом, покинутый Папой, курией и магистратом. Кардинальский дворец и дом Россы он нашел тоже пустыми. Одни говорили, что куртизанка умерла, другие утверждали, что она еще до начала эпидемии бежала в Неаполь с придворным короля Альфонса, третьи якобы видели ее в свите Борджиа, бежавшего от чумы на юг. Оливер почувствовал грусть; захватив с собой маленький портрет Луизы, он отправился вместе с копиистом Джорджио Трапезунцио во Флоренцию.
Там работал он поначалу опять как писец и брадобрей; натолкнувшись благодаря одной покровительствовавшей ему публичной женщине на мысль изготовлять разные притирания и косметики, он достиг в короткое время известного благосостояния. Но снадобья его содержали в себе слишком много ртути и были вредны для здоровья, посему он с трудом избежал Барджелло[14].
После этого наступил период его пятилетнего странствования под сотней различных масок и имен. Был он писцом, школяром, брадобреем, врачом-шарлатаном и чернокнижником, шпионом, сутенером и шулером, прошел через многие жизненные бездны и сквозь водовороты быстротечной судьбы; он шел, лишь задеваемый событиями, но не захваченный ими, никогда не оставляющий за собой ничего, кроме платья, изредка кусочка кожи, более любимый, чем ненавидимый людьми, сам же не любящий и не ненавидящий никого, пользующийся своим превосходством, но не алчный до денег и все сильнее чувствующий тоску по северу.
Оливеру было двадцать пять лет, когда он вновь объявился в Генте. В первый же день его потянуло в Тильт. Он пришел туда в обеденный час; без волнения смотрел он на кирпичную деревенскую церковь, знакомые дома и дорожки, на родительский двор. «Чего мне здесь надо?» – спросил он сам себя, удивленный все не покидавшим его чувством ожидания. Элиза превратилась в грузную матрону с прядями седых волос. Она обернулась к дверям и сказала своим глухим, несколько гортанным голосом:
– Ах, Оливер!
Поднявшись с приветливым видом, она пошла к нему навстречу. Генрих, начавший уже лысеть, приветствовал его и, указав почти торжественным движением на хорошенькую молодую женщину, сидевшую около него, сказал:
– Это Лизбет, дочь мейстера Виллема Рима. Мы женаты уже два года.
Но всех их Оливер подарил лишь беглым взглядом и таким же словом. За столом около Лизбет сидела девочка лет десяти – двенадцати, улыбнувшаяся ему, как только он вошел в комнату. Редко случалось, чтобы люди ему улыбались, и никогда еще и с ним не бывало, чтобы улыбающийся человек распространял вокруг себя свет, который отразился бы у него в глазах и в груди. Он ответил на ее улыбку хорошим смехом, а ведь смеялся он не часто. Чистая и неведомая радость пронизала его, как хмель, – да, как хмель, и переплелась с опьяняющей мыслью: а ведь я ожидал эту радость.
Он отвел свой счастливый взгляд от серых глаз и чудесных зубов девочки, с торжеством взглянул на других, и вот все трое засмеялись, и комната больше уже не была темной. Элиза сказала:
– Я рада, что тебе хорошо, Оливер.
А Лизбет объяснила:
– Это Анна, моя сестренка.
Оливер опять взглянул на девочку.
– Ну, теперь я остаюсь в Генте, – сказал он, продолжая улыбаться.
Оливер вступил в цех брадобреев. Ему не трудно было этого добиться, ибо он был Неккером, человеком, совершившим далекое путешествие, а также и потому, что он работал в качестве старшего подмастерья у Виллема Рима, цехового мастера, уважаемого вождя гентского освободительного движения. Оливер вскоре сделался мастером и реорганизовал вместе с Виллемом Римом оппозиционную партию, очень озлобленную в результате несчастной войны с Бургундией и потери исконных городских вольностей. Старый мастер любил его как сына, видел в нем только патриота и ловкого цехового подмастерья и, когда Анне минуло пятнадцать лет, выдал ее за него замуж. Вскоре после этого Рим умер, и Оливер наследовал от него и его профессию, и его политическую деятельность.