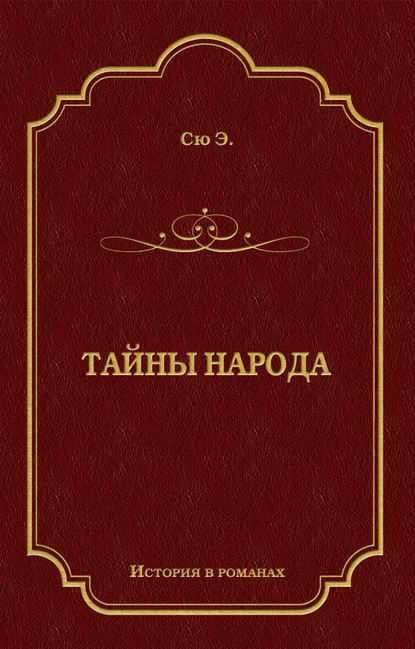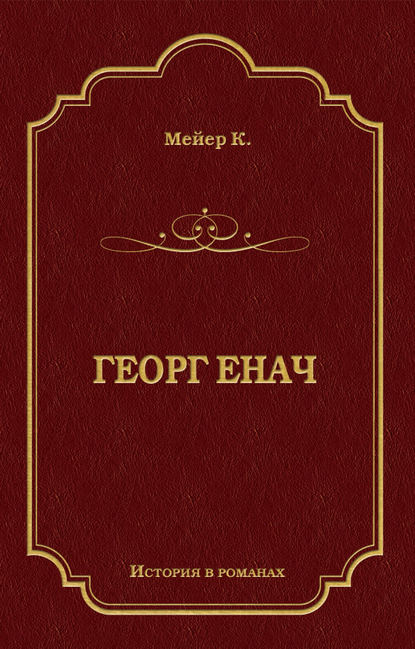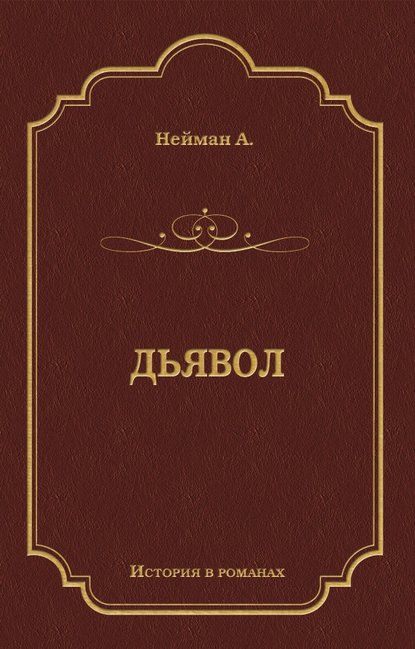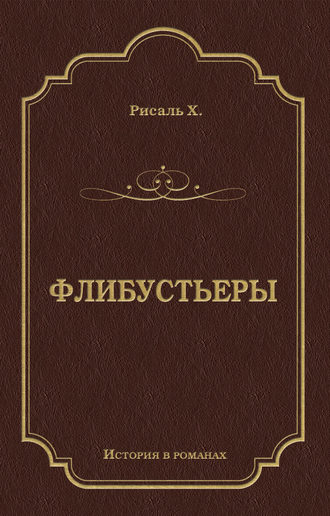
Полная версия
Флибустьеры
Как только односельчане заметили, что семья Талеса выбивается из нужды, ее кормильца поспешили избрать старостой барангая[24]. Тано, старшему сыну, было всего четырнадцать лет, так что старостой – «кабесангом» – стал Талес. Ему пришлось сшить себе куртку, купить фетровую шляпу и приготовиться к еще большим расходам. Чтобы не прогневить священника и жить в мире с властями, он должен был выплачивать недоимки за выбывших и умерших из своего кармана и тратить много времени на сбор налогов и поездки в главный город провинции.
– Терпение! Представь себе, что к кайману присоединилась его родня, – кротко улыбаясь, говорил Танданг Село.
– В будущем году ты наденешь длинное платье и поедешь в Манилу учиться, как другие сеньориты, – обещал кабесанг Талес своей дочери, когда она рассказывала ему об успехах Басилио.
Но этот будущий год никак не наступал, зато аренда все повышалась; кабесанг Талес мрачнел и почесывал в затылке. Рис из глиняного горшка уплывал в чугунный котел.
Когда аренда возросла до двухсот песо, Талес перестал чесать затылок и вздыхать: он возмутился, начал спорить. Отец эконом на это сказал, что, если Талес платить не может, землю отдадут другому. Желающих найдется много.
Кабесанг Талес подумал было, что монах шутит, но тот говорил вполне серьезно и даже назвал имя одного из своих слуг, которому намеревался отдать участок Талеса. Бедняга побледнел, в ушах у него зазвенело, перед глазами поплыл красный туман, и в этом тумане возникли образы его жены и дочери, бледных, истощенных, умирающих от болотной лихорадки! Потом ему представился густой лес, на месте которого они возделали поле, он видел, как пот ручьями струится в борозды, видел самого себя, несчастного Талеса, пашущего на солнцепеке, ранящего ноги о камни и корни, меж тем как этот монах разъезжал в коляске, а тот, кому предстояло завладеть его, Талеса, землей, бежал сзади, как раб за господином. О нет, тысячу раз нет! Пусть лучше провалятся в преисподнюю и это поле, и все монахи! Какое право имеет этот чужеземец на его землю? Разве привез он из своей страны хоть одну ее горстку? Разве шевельнул он пальцем, чтобы выкорчевать хоть один корень из этой земли?
Монах рассвирепел, кричал, что не остановится ни перед чем, что заставит и его, и всех прочих жителей деревни уважать себя. Кабесанг Талес, вспылив, сказал, что не заплатит ни одного куарто; красный туман все еще застилал его глаза, и он заявил, что уступит свою землю только тому, кто так же, как он, польет ее своей кровью.
Увидав лицо сына, старый Село не осмелился заговорить о каймане. Он попробовал утешить Талеса, напомнив о глиняном горшке и о том, что выигравшие тяжбу часто остаются без рубашки.
– Э, отец, все мы обратимся в прах, и все мы пришли в этот мир нагими! – ответил Талес.
И он наотрез отказался платить или уступить хоть пядь земли, если монахи не подтвердят свои притязания каким-либо документом. Документа у монахов не было, они подали в суд, и кабесанг Талес решил судиться, полагая, что найдутся все же люди, чтящие справедливость и закон.
– Много лет я служил и служу королю, не жалея ни денег, ни сил, – твердил Талес тем, кто пытался его отговорить. – Теперь я прошу правосудия, и король должен мне его оказать.
И, словно от этой тяжбы зависела самая жизнь его и его детей, Талес начал как одержимый тратить деньги на адвокатов, нотариусов и стряпчих, не говоря уже о секретарях и писарях, которые пользовались его темнотой и бедственным положением. Он без устали ездил в главный город провинции, не ел, не спал, только и говорил, что о заявлениях, доказательствах, жалобах… Завязалась еще не виданная под филиппинским небом борьба: борьба бедного, невежественного, не имеющего друзей индейца, полного веры в свои права и в справедливость своего дела, против всемогущего ордена, пред которым склонялось само правосудие, а судьи в страхе выпускали из рук меч Фемиды. Талес боролся с упорством муравья, который кусает, зная, что будет раздавлен, с упорством мухи, которая бьется о стекло, стремясь на волю. Ах, этот глиняный горшок, бросивший вызов чугунным котлам и обреченный быть разбитым вдребезги, являл собой волнующее зрелище, в его отчаянном упорстве было какое-то величие! В свободные от поездок дни Талес обходил свои поля с ружьем в руках. Он ссылался на то, что в округе бесчинствуют тулисаны и ему надо быть начеку, иначе он попадет к ним в руки и проиграет дело. Будто для самозащиты, Талес упражнялся в меткости – стрелял в птиц, в плоды на деревьях, в бабочек и бил без промаха, так что отец эконом уже не осмеливался приезжать в Сагпанг без охраны гражданских гвардейцев. Его прихлебатель, глядя издали на внушительную фигуру кабесанга Талеса, ходившего по своим полям, как дозорный по крепостным стенам, струсил и перестал зариться на чужую землю.
Однако мировые судьи и их коллеги в главном городе провинции не решались признать права Талеса; они боялись перечить монахам, чтобы не лишиться места, как случилось недавно с одним из них. А ведь никто не назвал бы их плохими судьями! Все это были люди добросовестные и нравственные, хорошие граждане, примерные отцы семейств, почтительные сыновья… И положение бедняги Талеса они понимали даже лучше, чем он сам. Многие из них отлично знали научные и исторические основания права собственности, знали, что монахам по уставу запрещено иметь собственность, но они знали также, что приехали сюда с другого конца света, что пустились в странствие по морям и океанам, тяжкими хлопотами добыв назначение, и готовы были исполнять свои обязанности как можно лучше. И что же, потерять все из-за какого-то индейца, которому взбрело в голову, что на земле, как и на небе, должно вершиться правосудие! Нет, это немыслимо! У каждого из судей была семья, и потребностей у нее, разумеется, больше, чем у семьи этого индейца. Один содержал мать – а есть ли более священный долг, чем сыновняя любовь? У другого были сестры на выданье, у третьего – орава малышей, которые, как птенчики в гнезде, ждут пищи и, конечно, умрут с голоду, если отец останется без места. Наконец, могла же быть у человека пусть не семья, так любимая женщина, там, далеко, за морями, которая, лишившись ежемесячной денежной помощи, окажется в нужде… И все эти судьи, все эти добросовестные и нравственные граждане полагали: самое большее, что они могут сделать, – это посоветовать сторонам прийти к соглашению и убедить кабесанга Талеса выплатить аренду. Но, как все бесхитростные люди, Талес, уразумев, в чем справедливость, шел прямо к цели. Он требовал доказательств, документов, свидетельств… Ничего этого у монахов не было, они ссылались только на его собственные прошлые уступки.
Кабесанг Талес возражал:
– Если я ежедневно подаю милостыню нищему, чтобы он ко мне не приставал, кто может заставить меня подавать ему и тогда, когда он злоупотребит моей добротой?
Разубедить его было невозможно, угрозы не действовали. Напрасно сам губернатор М. приезжал к нему побеседовать и припугнуть. Талес твердил свое:
– Делайте что хотите, сеньор губернатор, я человек маленький, необразованный. Но эти поля возделывал я, расчищать их помогали мне жена и дочь, они погибли, и я уступлю эту землю только тому, кто вложит в нее больше, чем я. Пусть оросит ее своей кровью и схоронит в ней жену и дочь!
Судьи, раздраженные таким упрямством, решили дело в пользу монахов, а над Талесом все смеялись, – дескать, на одном праве далеко не уедешь. Но он подавал апелляции, перезаряжал свое ружье и мерным шагом обходил границы участка. Жил он все это время точно в бреду. На Тано, его сына, такого же рослого, как отец, и кроткого, как сестра, пал жребий идти в рекруты; Талес и не пытался отстоять его, не пожелал нанять охотника.
– Я должен платить адвокатам, – говорил он рыдавшей дочери. – Выиграю дело, тогда уж я сумею вернуть Тано домой, а проиграю – не нужны мне дети.
Тано ушел, и больше о нем ничего не слыхали. Узнали только, что его обрили наголо и что спит он под повозкой. Через полгода кто-то сказал, будто Тано был среди солдат, отправлявшихся на Каролинские острова; другие уверяли, что видели его в форме гражданского гвардейца.
– Тано – гражданский гвардеец! Сусмариосен![25] – восклицали односельчане, всплескивая руками. – Такой добрый, такой честный малый! Реквиеметернам![26]
Дедушка долго не разговаривал с сыном, Хулия слегла, но кабесанг Талес и слезинки не проронил. Два дня он не выходил из дому, словно боялся укоризненных взглядов, боялся, что его назовут извергом, загубившим сына. Но на третий день он опять появился на поле с ружьем в руках.
Кое-кому показалось, что Талес замышляет убийство; нашелся доброжелатель, который насплетничал, будто сам слышал, как Талес грозился похоронить святого отца на своем поле. Монаха обуял страх, он немедля добился от генерал-губернатора указа, которым запрещалось носить оружие и повелевалось всем немедленно его сдать. Кабесангу Талесу пришлось расстаться с ружьем; тогда он вооружился длинным боло и продолжал свои обходы.
– Что толку в твоем боло, когда у тулисанов огнестрельное оружие? – говорил ему старый Село.
– Я должен охранять посевы, – отвечал Талес. – Каждый стебель сахарного тростника на поле – это кость моей жены.
Вскоре боло у него тоже отобрали под предлогом, что оно слишком длинное. Тогда Талес закинул на плечо старый отцовский топор и, как прежде, угрюмо отправился на обход.
Всякий раз, как он уходил из дому, Танданг Село и Хулия опасались за его жизнь. Девушка то и дело вставала из-за ткацкого станка, подбегала к окну, молилась, давала обеты святым, справляла новены[27]. У старика валились из рук метлы, он поговаривал о том, чтобы переселиться обратно в лес. Жизнь в этом доме становилась невыносимой.
Наконец то, чего они боялись, произошло. Поля Талеса были расположены в пустынном месте, далеко от деревни, и беднягу похитили тулисаны – топор действительно оказался плохой защитой против револьверов и ружей. Тулисаны заявили Талесу, что раз он в состоянии платить судьям и адвокатам, у него должны найтись деньги для гонимых и отверженных. Они потребовали выкупа в пятьсот песо и сообщили об этом семье, предупредив, что за любое покушение на их посланца поплатится жизнью пленник. На размышления было дано два дня.
Известие повергло несчастную семью в ужас, особенно когда посланец сообщил старику и Хулии, что за тулисанами охотится отряд гражданских гвардейцев. Ведь в случае стычки первой жертвой будет пленник – это знали все. Дедушка точно окаменел, бледная, трепещущая Хулия не в силах была вымолвить слово. Из оцепенения их вывела новая, еще более страшная весть. Посланец тулисанов сказал, что шайка вынуждена уйти в другие места и, если с выкупом будет задержка, кабесанга Талеса через два дня прикончат.
Старик и девушка, оба слабые, беспомощные, обезумели от горя. Танданг Село вставал с места, садился, спускался по лестнице, поднимался опять – он не знал, куда бежать, к кому обратиться. Хулия взывала к святым, считала и пересчитывала двести песо – всю наличность в доме, – но денег от этого не прибавлялось. Вдруг она начинала одеваться, собирала свои украшения и спрашивала дедушку: может, пойти ей к судье, к писарю, к лейтенанту гражданской гвардии? Старик на все отвечал «да», а если Хулия говорила «нет, не годится!», тоже бормотал «нет». Наконец прибежали несколько родственниц и соседок, одна беднее другой, все женщины простодушные и болтливые. Самая смышленая из них была сестра Бали, страстная картежница, которая когда-то жила в Маниле послушницей в женской обители.
Хулия готова была продать все свои безделушки, кроме осыпанного бриллиантами и изумрудами ларца – подарка Басилио. У этого ларца была своя история. Его дала монахиня, дочь капитана Тьяго, одному прокаженному, и Басилио, который лечил несчастного, получил ларец в подарок. Хулия не могла его продать, не известив о том Басилио.
Гребенки, серьги и четки тут же купила самая богатая из соседок. Хулия выручила пятьдесят песо – не хватало еще двухсот пятидесяти. Ей советовали заложить ларец, но девушка отрицательно качала головой. Одна из женщин предложила продать дом; Танданг Село эту мысль одобрил – ему так хотелось вернуться в лес и снова рубить дрова, как прежде. Но сестра Бали заметила, что продавать дом в отсутствие хозяина нельзя.
– Как-то жена судьи продала мне вышитый передник за один песо, а судья потом сказал, что продажа недействительна, потому что не было его согласия. Ох-ох-хо! Забрал он у меня передник, а этот песо его жена до сих пор не вернула. Зато, когда она выигрывает в пангинги, я ей не плачу! Уже содрала с нее таким манером двенадцать куарто. Только из-за этого и сажусь играть. Терпеть не могу, когда мне не платят долги!
Одна из женщин хотела было спросить у сестры Бали, почему же в таком случае она сама не платит проигрышей в пикет, но хитрая картежница, почуяв опасность, поспешно перевела разговор на другое:
– Знаешь, Хулия, что можно сделать? Попросить двести пятьдесят песо взаймы под залог дома с обязательством уплатить, когда выиграете тяжбу.
Это был самый разумный совет, и женщины решили не мешкая приняться за дело. Сестра Бали предложила Хулии сопровождать ее. Вдвоем они обошли всех богачей Тиани, но никто не соглашался дать деньги на таких условиях: дело Талеса проиграно, а поддержать человека, враждующего с монахами, значит навлечь на себя их гнев. Наконец одна богомольная старуха сжалилась над девушкой и дала ей взаймы деньги с условием, что Хулия останется у нее в прислугах, пока не выплатит долг. Работа, правда, была нетрудная: шить, читать молитвы, сопровождать старуху в церковь, иногда поститься вместо нее. Девушка со слезами на глазах согласилась и взяла деньги, обещая на следующий же день – это было как раз в канун Рождества – явиться к своей новой хозяйке.
Старик, узнав об этом, разрыдался, как дитя. Подумать только, его внучка, которой он не разрешал выходить на солнце, чтобы не загрубела кожа, его Хулия, с тоненькими пальчиками и розовыми пятками, станет прислугой? Самая красивая девушка в деревне, а может, и во всей округе, Хулия, под чьими окнами юноши простаивали целые ночи, распевая песни, единственная отрада в старости, единственная внучка, которую он мечтал увидеть в платье со шлейфом, болтающей по-испански, обмахивающейся пестрым веером, как дочки богачей, будет выслушивать попреки и брань, портить свои нежные ручки, спать, где попало, и вставать, когда прикажут?
Дедушка был безутешен, грозил, что повесится, уморит себя голодом.
– Если ты уйдешь из дому, – говорил он, – я вернусь в лес, и ноги моей не будет в этой деревне.
Хулия утешала его, объясняла, что надо спасти отца, – тогда они выиграют дело и выкупят ее из рабства.
Это был печальный вечер. За ужином ни дед, ни внучка не могли есть. Потом старик заупрямился, не захотел ложиться и всю ночь просидел в углу, не вымолвив ни слова, не шелохнувшись. Хулия пыталась заснуть, но сон бежал от ее глаз. Немного успокоенная за участь отца, она думала о себе и горько плакала, уткнувшись лицом в подушку, чтобы не слышал дед. Завтра она станет служанкой. Как раз в этот день Басилио обычно приезжал из Манилы и привозил ей подарки… Теперь уж им придется расстаться: Басилио скоро станет доктором, ему нельзя жениться на нищей… И воображение рисовало ей, как Басилио идет в храм с самой красивой и богатой девушкой их деревни, оба нарядные, счастливые, улыбающиеся, а она, Хулия, плетется за своей хозяйкой, неся молитвенник, буйо, плевательницу. Тут к ее горлу подкатывал ком, сердце сжималось, и она начинала молить Пресвятую Деву послать ей смерть.
– Но по крайней мере он будет знать, – шептала она, – что я согласилась пойти в рабство, лишь бы не продавать ларец, его подарок!
Эта мысль принесла некоторое облегчение, и Хулия размечталась. Как знать, а вдруг произойдет чудо! Вдруг она найдет двести пятьдесят песо под статуей Святой Девы – ей столько доводилось читать о подобных чудесах. Или солнце не взойдет и завтрашний день не наступит, пока дело не будет выиграно. А вдруг вернется отец, приедет Басилио или она найдет в саду кошелек с золотом; кошелек пришлют ей тулисаны, а вместе с тулисанами придет священник, отец Каморра, который всегда с ней шутит… Мысли путались все больше и больше; в конце концов, измученная усталостью и горем, девушка уснула. Ей приснилось, что она снова маленькая девочка и живет в густом лесу, купается вместе с братом и сестрой в ручье, там много-много разноцветных рыбок, которые сами плывут в руки, и она сердится: ей вовсе не интересно ловить таких глупых рыбешек; в воде она видела Басилио, но его лицо почему-то было похоже на лицо ее брата Тано. А с берега на них смотрела ее новая хозяйка.
V
Сочельник одного возницы
Басилио въезжал в Сан-Диего уже затемно, когда по улицам города шествовала праздничная процессия. В пути он задержался: его возницу, забывшего дома удостоверение, остановили гражданские гвардейцы и, ударив раз-другой прикладами, отвели ненадолго в часть.
Теперь двуколка снова остановилась, чтобы пропустить процессию; побитый возница, почтительно сняв шапку, шептал молитву перед первой статуей, которую несли на носилках, – видать, то был великий святой. Статуя изображала старца с длиннющей бородой; он сидел у могильной ямы под деревом, на котором красовались чучела разных птиц. Калан с горшком, ступка и каликут для растирания буйо составляли всю его утварь; скульптор словно хотел объяснить этим, что старец жил на краю могилы и там же варил себе пищу. Это был Мафусаил[28], как его представляют филиппинские мастера; его коллега и, возможно, современник, зовется в Европе Ноэль[29] – фигура более веселая и жизнерадостная.
«Во времена святых, – думал возница, – уж верно, не было гражданской гвардии и людей не избивали прикладами, потому и жили они долго».
За маститым старцем следовали три волхва[30] на резвых коньках, норовивших взвиться на дыбы; конь негра Мельхиора, казалось, вот-вот растопчет двух других коней.
«Нет, не было тогда гражданской гвардии, – окончательно решил возница, позавидовав тем, кто жил в столь блаженные времена. – Не то бы этого негра давно в тюрьму упекли. Ишь какие штучки проделывает над „испанцами”!» Под «испанцами» возница разумел Гаспара и Валтасара.
Заметив на голове негра такую же корону, как на королях-испанцах, возница, естественно, подумал о короле индейцев и вздохнул.
– Не знаете ли, сударь, – почтительно спросил он Басилио, – освободил он правую ногу или еще нет?
– Кто освободил ногу? – не понял Басилио.
– Король! – таинственным шепотом ответил извозчик.
– Какой король?
– Да наш король, индейский…
Басилио с улыбкой покачал головой.
Возница опять вздохнул. У филиппинских крестьян есть предание о том, что в давние времена король индейцев был закован в цепи и заточен в пещеру Сан-Матео. Но он жив и, придет время, вызволит всех крестьян. Каждые сто лет разрывает он одну цепь; обе руки и левая нога уже свободны, осталась закованной только правая нога. Стоит ему пошевельнуться или напрячь мускулы, начинаются землетрясения, бури. А силища у него такая, что даже камень и тот рассыпается в прах от его прикосновения. Филиппинцы, бог весть почему, называют его «король Бернардо», возможно, смешивая с Бернардо дель Карпио[31].
– Вот когда освободит он правую ногу, – пробормотал возница, подавляя вздох, – подарю я ему своих лошадок и стану ему служить, жизни за него не пожалею… Уж он-то избавит нас от «гражданских». – И возница меланхолически поглядел вслед трем волхвам.
За волхвами шли парами мальчики, насупленные, невеселые, словно их гнали насильно. Одни несли смоляные факелы, другие – свечи или бумажные фонарики на тростниковых прутьях; слова молитвы они не говорили, а выкрикивали с каким-то ожесточением. Дальше на скромных носилках несли святого Иосифа с покорным грустным лицом и посохом, увитым лилиями; по обе стороны носилок шагали два гражданских гвардейца, словно конвоиры при арестованном, – вот почему у святого такая унылая мина, догадался возница. Его самого оторопь взяла при виде гвардейцев, а может, святой, шествовавший в таком обществе, не возбудил в нем должного почтения – как бы то ни было, он даже «requiemeternam» не сказал. За святым Иосифом шли со свечами девочки в платочках, завязанных под подбородком; они тоже читали молитвы, но, пожалуй, не так сердито, как мальчики. В середине процессии несколько мальчишек волокли больших кроликов из плотной бумаги с задорно торчавшими бумажными хвостиками. Внутри кроликов горели красные свечки. Дети приносили эти игрушки, чтобы повеселей отпраздновать Рождество Христово. Толстенькие, круглые, как шарики, зверьки то и дело подпрыгивали на радостях, теряли равновесие, опрокидывались и вспыхивали; малыш хозяин пытался потушить пожар, дул изо всех сил, ударами сбивал пламя и, видя, что от кролика остались одни обгоревшие клочья, заливался слезами. Возница с грустью подумал, что среди этих бумажных зверьков каждый год бывает такой мор, словно на них нападает чума, как на живую скотину. Вспомнилось ему, побитому Синонгу, как он, желая уберечь от заразы пару отличных лошадок, повел их, по совету священника, под благословение, заплатив десять песо, – лучшего средства против падежа не придумали ни священники, ни правительство. А лошадки все-таки сдохли. Но возница не очень горевал: после того как их покропили святой водой, почитали над ними по-латыни и проделали другие церемонии, они так заважничали, такие стали норовистые, что не давались и запрягаться, а он, как добрый христианин, не осмеливался их бить – ведь монах-терциарий[32] объяснил, что лошадки стали «благословенные».
Замыкала процессию Пресвятая Дева, одетая Божественной Пастушкой, в широкополой пилигримской шляпе с пышными перьями, – в память о путешествии в Иерусалим. Для наглядности священник приказал сделать Пресвятой Деве чуть полней талию, засунув под юбку тряпье и вату, чтобы никто не мог усомниться в ее положении. Статуя была прелестная, но и ее лицо было печально, – таковы обычно статуи филиппинских резчиков, – а румянец на щечках, казалось, проступал от смущения, точно Дева стыдилась того, что сделал с нею преподобный отец. Перед носилками шли певчие, позади – музыканты и вездесущие гражданские гвардейцы. Сам священник не явился, как и следовало ожидать после такого святотатства. Он был в этом году сердит на своих прихожан: ему пришлось пустить в ход все свои дипломатические таланты и красноречие, чтобы уговорить их платить по тридцать песо за каждую рождественскую службу, вместо обычных двадцати.
– Набрались флибустьерского духу! – говорил он.
Как видно, мысли возницы были заняты процессией: пропустив ее, он погнал лошадей вперед и не заметил, что фонарь на двуколке погас. Басилио тоже не обратил на это внимания. Он разглядывал дома, освещенные внутри и снаружи бумажными фонариками всех форм и цветов, украшенные хвостатыми звездами, которые с тихим шелестом раскачивались на обручах, любовался рыбками, у которых в туловище горел огонек, а головы и хвосты шевелились; подвешенные к карнизам окон, эти рыбки придавали домам праздничный и уютный вид. Но Басилио заметил также, что год от году иллюминация становится все более скудной, звезды тускнеют, все меньше на них блесток и висюлек… На улицах почти не слышно музыки, веселый шум кухонной суеты доносится не из всех домов. Юноша объяснил это тем, что дела в стране уже давно идут из рук вон плохо, цены на сахар падают, последний урожай риса погиб, больше половины скота пало, а налоги почему-то все растут и растут, да еще гражданские гвардейцы своими придирками портят людям праздник.
Не успел Басилио об этом подумать, как раздался резкий окрик: «Стой!» Они проезжали мимо казармы, и один из гвардейцев углядел, что фонарь на двуколке не горит, – небрежность недопустимая! На бедного возницу градом посыпалась брань; в оправдание он забормотал что-то о процессии, слишком-де она растянулась. Так как за нарушение порядка его пригрозили арестовать да еще пропечатать об этом случае в газетах, миролюбивый, не любящий попадать в истории Басилио сошел с двуколки и отправился дальше пешком, таща чемодан.
Так встретил юношу Сан-Диего, его родной город, где у него не было ни единого родного человека…
Настоящим праздником повеяло на него только у дома капитана Басилио. С кухни доносились предсмертные вопли кур и цыплят под аккомпанемент дробного стука тяпок, которыми рубили на досках мясо, и шипящего на сковородах масла. Видно, пир там затеяли на славу, даже прохожих обдавало волнами дразнящих запахов жаркого и пирогов.
Заглянув в окно, Басилио увидел Синанг, все такую же коротышку, какой ее знали прежде наши читатели, только теперь она чуть округлилась – сказалось замужество. В глубине залы Басилио, к великому своему изумлению, разглядел – кого бы вы думали? – ювелира Симона в синих очках, непринужденно беседовавшего с хозяином дома, священником и альфересом[33] гражданской гвардии.