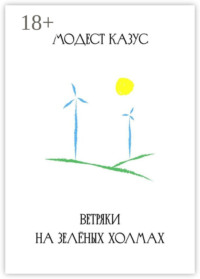Полная версия
365. Сказки антарктических писателей
Герасим Нарвал. Пёс и жмых. День шестьдесят пятый
Показали мне, друзья, одного рябого типа. Показали и говорят, дескать, человек сей ненадёжен, неблагонадёжен и пропащ.
– Куда ж он пропащ? – спросил я, разгрызая орех ёлочным щелкуном.
И порассказали мне тогда истории – одна другой хлеще.
Один раз сей тип устроил непотребную спектаклю на проспекте, вырядился павлином и вертелся под ногами добропорядочных граждан. Граждане шарахались, а ведь средь них cлучаются, знаете ли, грудные женщины и беременные дети!
Другой раз высыпал на голову килограмм жмыха, поправ известный добропорядочным гражданам закон, запрещающий маячить в присутственных местах лицом в пачкающей одежде.
– А вот скажите мне, пожалуйста, – остановил я рассказчиков. – Чем вообще занимается тип сей?
– О! Тип сей ввиду вопиющей необразованности прочищает канализационные трубы.
– А если бы не прочищал? Интересно, куда бы в противном случае делись ваши образованные говны? – спросил я каверзно и, не дождавшись ответов, заключил, – Что же касается рябого типа, так будь он хоть пёс, лишь бы яйца нёс.
Агнесса Апноэ. Кошель. День шестьдесят шестой
Когда-то я был весёлым и беззаботным мальчуганом, лепил в песочнице куличи и бегал босой за стрекозой. Так и бегал, пока не пришёл Умный и не сказал:
– Не к лицу Вам, мальчик, такое поведение. Вам следует исправляться и взрослеть, а то умрёте весёлым и беззаботным. А для взрослений требуются деньги. А для денег – кошель.
Послушался я Умного, вознамерился стать взрослым и купил кошель. В кошеле стали появляться разные деньги, а сам я превратился из весёлого и беззаботного мальчугана в хмурого мужчину с кошелём. С утра до ночи я только и думал об том, где и как приобрести столешницу, кастрюлю и кондиционер таким образом, чтобы хватило на гарнитур. Когда же клал в кошель ещё больше денег, то с гарнитура оставалась сдача, и нужно было думать, на что потратить её. Я думал, думал, думал. И мрачнел с каждым днём, подобно марлевому ситечку, сквозь которое процеживают черничный компот. А кошель обжигал карманы, разгоряченно шепча:
– Купи коврик! Купи тахту! Купи комод!
И тут я, раскрыв причину своей хандры, швырнул кошель в форточку.
И снова мне стало весело и беззаботно. Снова я запрыгал по лужам и затявкал собакой из-под лавок, пугая старушек. И ничто не могло усугубить мою экзистенцию, если бы опять не пришёл Умный и не сказал:
– Не к лицу Вам, гражданин, такое поведение. Вам следует…
– Не охай дядя, на чужие достатки глядя! – так ответил я Умному, отчего тот растаял снегами и потёк ручьями в дальние моря.
Корнилий Бумбараш. Арбитр. День шестьдесят седьмой
Футбольный арбитр Евстратий Витальевич Шип славился своей порядочностью. Порядочностью, что называется, хрестоматийной, как из рассказов, по которым детки учатся читать.
Явились как-то к нему в кабинет футболисты и предложили:
– Во втором тайме наш левый полузащитник снимет штаны и покажет филей, а ты ему – красную карточку. Мы тебе за это заплатим сто тысяч деньгами!
– Я честный судья! – гордо ответствовал им арбитр – Никогда я на такую сделку не пойду.
Во время матча левый полузащитник действительно снял штаны и показал арбитру филей. Арбитр стиснул зубы, но, памятуя о своей порядочности, карточку из кармана не вынул.
И снова явились к нему в кабинет футболисты и предложили:
– Когда во втором тайме к тебе подойдёт наш форвард и влепит шелобан, ты покажешь ему красную карточку. Мы тебе за это заплатим двести тысяч деньгами!
– Я честный судья! – заплакал арбитр, и сдержался, когда во время матча форвард подошёл к нему и нагло выписал звонкий шелобан. Стадион хохотал. Хохотали потом и газеты, обзывая арбитра слюнтяем, половиком и гомосексуалистом, а какие-то шутники подменили в его тумбочке флакон с гигиенической помадой на руж буржуа пари.
Решил арбитр проучить насмешников и придумал каверзный план. И когда явились к нему в раздевалку футболисты, он уже их поджидал:
– Во втором тайме наш голкипер снимет бутсу и швырнёт оной тебе в нос, – заявили футболисты, – а ты покажешь ему красную карточку! Мы за это заплатим тебе миллион денег!
– А давайте! – согласился арбитр и взял мешок с миллионом.
Когда от удара бутсой он потерял сознание и упал на газон. Когда затрещали от хохота стены стадиона, и хохот сей подхватили газеты, телевизоры, радиоприёмники, плакаты на фонарях… хитрый арбитр, подхихикивая, уполз с поля в раздевалку, собрал чемоданы и уехал на Таити к золотокожим нимфам.
Нонна Астролябия. Нерест. День шестьдесят восьмой
Мы сидели на песчаном речном бережке и нюхали стиральный порошок, когда вылез из воды водолаз с багром и объявил:
– Налим идёт на нерест!
Наши рты непослушно расползались по щекам, но сами мы промолчали.
– Налим! – повторил водолаз. – Налим идёт на нерест! На нерест! На нерест! Налим идёт на нерест! Налим! Налим! Налим!
Тут вылез из воды ещё один водолаз.
– Стерлядь! – объявил он и едва увернулся от страшного удара багром. – Стерлядь! – он выхватил из-за пояса кортик и набросился на первого водолаза.
Наши ноги растекались горячим вареньем по песку, и мы оставались на месте.
– Налим! – вопил первый водолаз, размахивая багром.
– Стерлядь! – возражал второй водолаз, поигрывая кортиком.
– Скумбрия! – раздалось вдруг из воды. Водолазы разом обернулись, совершив тем самым роковую ошибку. Две тяжёлые корабельные цепи со свистом обвили их шеи и опрокинули их туши.
Наши сердца стучали всё медленнее и медленнее, пока вовсе не остановились. И мы умерли, пожалев напоследок о том, что порошка оставалось достаточно для того, чтобы долететь до Магелланова облака.
Вольф Гольф. Вечные дети. День шестьдесят девятый
В детстве я боялся повзрослеть, потому что взрослые люди казались мне сошедшими с ума. Они ходили в скучные магазины, обсуждали тряпки, запирали ягоды в банки вместо того, чтобы эти ягоды класть в рот, заклеивали стены бумагой, дарили друг дружке кусты с шипами, завидовали соседям, пили мразотные жидкости, обсуждая при этом их вкусовой букет.
– Вот когда подрастёшь, тогда и поймёшь – назидательно увещевали взрослые.
Но с годами росло только моё непонимание.
– Ах, как же мы устали! – говорили взрослые люди, возвращаясь с работ и заламывая руки.
– Зачем же ходить на работу, от которой устаёшь? – смеялся я.
– Вот когда пойдёшь на работу – узнаешь! —запугивали меня взрослые люди.
Я вырос окончательно и стал работать. На работах делать было нечего, поэтому я стал писать книги, картины и симфонии.
– Вот если б тебе настоящую работу с настоящими деньгами, тогда б ты узнал, почём нынче фунт! – говорили мне взрослые люди.
– Но денег, коих мне выдают, вполне достаточно. Даже представить не могу, куда их потратить, ежели их станет больше! – смеялся я.
– Денег никогда не бывает много! – говорили взрослые люди, и даже самые богатые из них глотали при этом ибупрофен. Чем старше становились взрослые люди, тем сильнее их раздражала детская праздность. Они ругали детей за непослушание, неуважение и невоспитанность.
– Почему вы мстите и завидуете тем, кто ещё не утратил утраченное вами? – спрашивал я у взрослых людей.
– Когда состаришься, тогда узнаешь! – говорили взрослые люди и умирали один за другим.
Состарился и я. И умер прямо там, на краю пропасти, глядя на вечных детей, игравших в ржаном поле.
Оганез Постройка. Гамак. День семидесятый
В полуденном саду средь сонных вязов висел гамак, а в гамаке лежал господин и играл с облаками. Ватные хлопья шуршали по синеве, гонимые ветром на восток, плавно меняя свои очертания. И вот уже из бесформенных хлопьев вытягивал шею белый жираф, у ног которого застывал в порывистом прыжке кролик, за кроликом катилась карета с кучером – его плеть огибала небосвод до линии горизонта, где…
– Что за грязь! – заворчал кто-то рядом. Господин обернулся и увидел на крыльце дома женщину в фартуке, которая согнувшись подобно поросёнку, жующему комбикорм из корыта, вытирала линолеум половой тряпкой. Покончив с уборкой, она ушла в кухню звенеть сковородками и кастрюлями:
– Сколько же это будет продолжаться! – заплакала она, сняла фартук и пропала.
Господин снова направил взгляд в небо. Жирафа с зайцем след простыл – на их месте теперь возвышалась белая башня с флагами и колдуном, простиравшим руки к солнцу. Над башней кружил крылатый дракон, а где-то у линии горизонта…
– Как не стыдно тебе лежать и ничего не делать?! – заворчал кто-то над ухом.
Господин обернулся и увидел другую женщину, которая, будучи удостоенной вниманием, принялась колотить стеклянную посуду.
Один из осколков попал ей в ноздрю, и она заплакала.
– Больше ты меня никогда не увидишь! – топнула каблуком женщина и пропала.
Господин пожал плечами и собрался было продолжить игру в облака, которые перисто разбегались павлиньим хвостом, как окружающий мир резко качнуло и повело в стороны, потому что третья женщина, сладострастно воя, норовила залезть в гамак, но не удержала равновесия и брякнулась о булыжники. И санитары увезли её в жёлтый дом.
А мужчина так и остался лежать в гамаке, играя с облаками.
Ундина Жерех. Тараканы. День семьдесят первый
Третий день кряду город тонул в непрекращающемся ливне. Меж домов бурлили реки, а в квартирах текло по обоям. Когда миллиардная падающая с потолка капля пробила кухонный плинтус, образовав дыру, из той дыры выполз таракан-лазутчик. За ним – таракан-советчик. За советчиком – тараканы из отряда по зачистке территории, потом – тараканы-поселенцы, а уж после них тараканы-министры вынесли толстого императорского таракана
– Дай нам жильё! – попросил тараканий народ, молитвенно подгибая лапки.
Министры зашептались, императорский таракан кивнул, и принесли народу радиоприёмник.
– Дай нам еду! – заверещал тараканий народ, шевеля усами.
Министры зашептались, императорский таракан кивнул, и принесли народу мешок крупы.
– Дай нам гадить где ни попадя! – запрыгали тараканы.
Разозлился императорский таракан и повелел он своим солдатам проучить тараканий народ:
– Приказываю всех посадить в спичечные коробки, а коробки с особо буйными – поджечь!
Но тараканьего народу оказалось больше – солдаты императора позорно бежали под плинтус, а царственная особа была свергнута и предана казни путём смыва в ржавый рукомойник.
– Вы теперь свободный народ! – закричал тараканам новый вождь – Теперь вы можете гадить где попало и где ни попадя! Ура!
– А крупа? А жильё? – зароптал тараканий электорат, угрожающе щёлкая челюстями, однако вождь невозмутимо продолжал о добром, разумном и вечном.
В момент назревания бунта кухонный космос озарился ярким потусторонним светом. И явился над тараканьим полчищем помятый дядя Юра в трико, который случайно раздавил вождя резиновым тапком.
– О, великий! – воздел лапки к потолку тараканий электорат – В сей смутный час пришёл ты к нам, чтобы дать новый радиоприёмник и новый мешок с крупой!
Дядя Вася уныло осмотрелся, почесал пузо и потравил всю эту дрянь.
Макар Козлик. Волынщик и гусляр. День семьдесят второй
Бродили как-то по земле два друга-музыканта. Один играл на волынке, а другой – на гуслях. Днём они плутали по лесным чащобам, собирая грибы да ягоды, а к ночи, выйдя в поле, разводили костёр, доставали из мешков инструменты и начинали играть. О, как они играли! В тёмных лесах замолкали соловьи, тихо плакали невидимые ветры, резвившиеся на лугах, и даже звёзды подбирались ближе, становясь ярче и заливая поле белым светом, чтобы услышать, как два музыканта мычат свои бессловесные песни.
Но вот пришла зима. Грибы да ягоды ушли под землю, птицы улетели к южному океану, звёзды потускнели, лишь озлобившиеся от нахлынувшего одиночества ветры срывали с деревьев последнюю листву.
В лесу стало холодно, голодно и пусто. Запечалились музыканты, закручинились, пробовали было поиграть музыки – пустое; лишь мёртвое эхо вторило им. И пошли они тогда куда глаз глядит, а глядел их глаз в сторону зарева алого на горизонте – то был город-городок, в котором они никогда ещё не бывали.
Пришли музыканты на городскую площадь, уселись на бордюр, и давай играть. Час играют, другой. Тут уж толпа понабежала разномастная: ребятишки малые, гусары удалые, нищие с кружкой, бабы с кадушкой, попы с бородой, купцы с мошной, праздные зеваки и пьяные гуляки. На музыкантов глядят, а денег давать не хотят. Подходит к музыкантам местный бакалейщик и говорит:
– Господа трубадуры, сделаем так – вы мне пастурель про бублики, а я вам – алтын!
Смутился волынщик, не хочет про бублики играть, а гусляр, завидев алтын, кивает, за струны дёргает и кричит на всю площадь:
Коль есть тугрики,Будут бублики!А без тугриков —Дыры от бубликов.Отошёл волынщик в уголок, прислонился к стенке и, скрестив руки, стал наблюдать за гусляром. А тот всё распинается, что твоя гуттаперча. И поросём на потребу свинарю визжит, и грязью на потеху зевакам умывается, и голый зад газетчику кажет, и монетки в шапку собирает, и волынщику подмигивает:
– Смотри, дружище, талант мой люди уважают! Даже мой зад в газетке напечатали!
Плюнул волынщик и побрёл прочь. А гусляр – в кабак.
Проснулся на утро гусляр средь уличных мусоров – спина болит, голова трещит, в животе урчит, в кармане ветер свистит. Отправился он в кабак, где прошлым вечером гулял напропалую и попросил халдея налить ему опохмельную. Покрутил ус халдей и спрашивает:
– А кто ты такой, чтоб тебе опохмельную давать?
– Я гусляр! – стучит по прилавку гусляр и замечает гантельного молодчика.
– Слышь ты, композитор! Чапал бы отсель, пока твоему баяну мехи не поотрывали – говорит тот, хлопая музыканта по плечу.
– Какой же я боянщик? – плаксиво возмущается гусляр – Я гусляр! Про меня даже в газетке написали!
– Часом, не в той газетке, что в отхожем месте в рулон скатана? – хохочет молодчик, затем хватает гусляра за шкирку, волочит к дверям и пинком под зад выталкивает на улицу. Полетел горе-музыкант аки птах, ударился головой о мостовую и душа из него вон. Лежал он так недолго, потому что вскоре дворник вымел бренную тушку за городскую черту, где её обнаружил друг-волынщик.
Загрустил волынщик, поднял на музыканта на руки и отнёс в поле. Там и похоронил, а сам сел подле могилки, достал волынку и замычал безмолвную песнь. Песнь о том, как в тёмных лесах замолкали соловьи и тихо плакали невидимые ветра, ползущие средь трав, и о том, как звёзды подбирались поближе, становясь ярче и заливая поле белым светом, чтобы услышать, как два музыканта пели земле свои песни.
Отто Фрукт. Мухи. День семьдесят третий
Весёлый поэт стоял у окна, глядел, жмурясь, на белое солнце, и сочинял стихотворение о том, как хорошо на белом свете живётся поэту, как радует его солнушко, небушко, пташко и деревошко. Вдруг в форточку влетела муха, мелкая, вертлявая, надоедливая. Закружила по комнате и зажужжала так противно.
– Вжжж! – насмешливо сказала муха, спикировав на подоконник.
– Где плагиат? – возмутился поэт. —Может, мой поэтический дар и не ахти, но всяко явление радует меня, щекочет темечко и льётся ручейком весенним песнь по камушкам рифмованных слогов.
Тут в форточку влетела вторая муха и нагло устроилась у поэта на ладони
– Вжжж! – раздражительно сказала вторая муха, покрутив вспученными глазами.
– Кто невежа? – поэт соскочил с подоконника и зашагал по комнате, размахивая руками. – У меня образования имеются! Я книги умные читаю! И представьте себе, пишу! А вы? Вот вы, мухи, чем можете похвастать? Только жужжать и способны. Покажите хотя бы стишок, который сами написали! Али мыслишку какую, только чтобы свою? Нет и нет. Нет у вас ни стишков, ни мыслишек.
Третья муха влетела в форточку, подобралась к поэту и уселась прямо на его поэтический нос.
– Вжжж! – угрожающе сказала третья муха.
– Да как вы смеете обвинять меня в равнодушии, мухи?! – заплакал поэт. – Злые, гадкие мухи! Я вам сейчас покажу всю бесчувственность своей души!
С этими словами поэт снял с пояса ремень, скрутил оный в петлю, закинул на дверной косяк и повесился.
И мухи принялись за дело.
Аэлита Палитра. Suum Cuique. День семьдесят четвёртый
Жил да был человек, который боялся времени. Время пугало его тем, что постоянно куда-то уходило. Чтобы не упустить время, человек задумался об экономии. Год потратил на то, чтобы научиться быстро читать; ещё год на то, чтобы научиться быстро писать; ещё два года на то, чтобы быстро есть, и три года на то, чтобы быстро думать. Однажды к нему пришла молодая барышня:
– Я искала человека и теперь нашла его! – воскликнула барышня. – Помоги мне развести огонь в семейном очаге, чтобы наше будущее чадо пребывало в сытости и тепле.
– Поди прочь, женщина! – отмахнулся от неё человек. – Ты способна лишь пожирать моё время, убивать творческий потенциал крышкой от сковороды и заглушать зов моего подсознания ором грудника.
Ничего не ответила на это женщина и выпала из жизни человека навсегда, а сам человек стал думать о пользе потребляемой пищи. Год он потратил на то, чтобы вычислить оптимальное соотношение жиров, белков, углеводов, витаминов, микроэлементов; ещё год на то, чтобы определить необходимое количество калорий на собственную тушку; ещё два года на то, чтобы составить ежедневное меню согласно полученной диетической схеме, и ещё три года на то, чтобы к этому рациону привыкнуть.
И вот заглянул к нему сосед:
– Я решил разбить под окнами сад, – сказал сосед. – Помоги мне посадить деревья, тени которых принесут нам в старости отдохновения и услады.
– Поди прочь, глупец! – засмеялся человек. – Что мне твой сад, когда в душе моей прорастают семена высшей услады?!
Сосед покачал головой и ушёл копать ямы для деревьев, а человек стал думать о гармонии помещения, в котором обитал. Год он потратил на то, чтобы изучить положительные и отрицательные качества энергии Ци, которой обладало пространство, окружающее дом; ещё год на то, чтобы составить карту блуждающих звезд Саньюань; ещё два года на то, чтобы расставить тумбочки согласно сторонам света, и три года на то, чтобы научиться не разбивать лоб о книжный шкаф, стоявший поперёк ванной комнаты. Однажды к нему пришли строители:
– Мы строим дом, потому что этот уже прогнил, – сказали строители. – Помогите нам построить новый дом, в котором будет светлее и свободнее.
– Когда же вы, наконец, оставите меня в покое?! – рассердился человек. – Что вы, простые люди, знаете о свободе и просветлении?!
Сказал он так и уехал в Китай, где, взобравшись на китайскую стену, обрёл тишину грома и ринулся с головой в бездонные пропасти дзен-буддизма.
Прошло ещё несколько лет. Всё это время человек сидел на стене и ждал просветления. Но никакого просветления не наступало – только волосы побелели. Тогда человек слез со стены и вернулся в родной город.
Что же увидел он, вернувшись в город? В садах играли чужие дети и росли чужие деревья, а окна в домах горели тёплым, но чужим светом. Всё было пронизано звенящей радостью, такой далёкой и недоступной, что человек присел на лавочку и заплакал о бесцельно прожитой жизни.
А вокруг разносился детский смех, смешанный со вкусом спелых яблок и запахом горячей еды. Тут человек почувствовал, как что-то мягкое коснулось его ног. Он посмотрел под лавку и увидел маленького пушистого котёнка, который круглыми глазами-полушками смотрел на него.
– Эх, ты, котейка… – человек погладил котёнка за ушами, взял на руки, поднялся с лавки и направился к линии горизонта по дороге из жёлтого кирпича.
Зульфия Рвач. Духом и оком. День семьдесят пятый
Жил в роскошном особняке один богатей. А богатеем он сделался, потому что держал в сибирях алмазную трубку и нефтяную губку, и с оных имел доходы. На доходы покупал краски, кисти и холсты, ибо от скуки хотел художником стать. И стал бы, но жена всё твердила, мол, по миру пойдём с такими намерениями. Смурнел богатей, слыша такие пророчества, поднимался на веранду стеклянную и рисовал. Рисовал по три медведя, по три черепахи, по три банана.
И мечтал сбежать в Париж.
Возле роскошного особняка, в маленьком подвальчике обитал дворник-нищеброд, который каждое утро подметал хозяйские садовые дорожки, а в остальное время сиживал в подвале, малюя картины углём на дерюжках. То десять прекрасных дам нарисует, а то и и пятнадцать голых баб намалюет. Но скучно было жить ему дворником – хотел он богатеем стать. И стал бы, но жена твердила, мол, нечего менять дары природные на яхонты нечистотные.
Так и жили художники, завидуя друг дружке, но никогда в этом не признаваясь. Выйдет частенько богатей из дому, застанет дворника и давай его журить:
– Не далёк, братец, день, когда околеешь ты из-за принципов своих. Кто же тогда будет картины вместо тебя писать?
– Ой-ой-ой! Это кто мне такие слова говорит?! – подбоченясь, возражал дворник – Тебе, поди, за пузом своим холста не видать!
– А вот сквозь твоё пузо холст очень хорошо видать. Гляди-ка, всё просвечивает.
– Ты это брось, а то не погляжу, что ты барин, а я татарин. Вот огрею по спине метлою!
– А давай-ка устроим биеналю! – говорит примирительно богач – Позовём толмачей, а те уж растолкуют об том, насколько благотворно действуют атмосферы обитания на творчества наши.
Дворник согласился. Открыли, значит, во флигеле биеналю, картины развесили, а сами по углам расселись, друг на друга искоса поглядывают, хитровато улыбаются, дескать, сейчас кого-то под орех.
Явился на биеналю профессиональный критикан-кретиникан, плюгавый, уши врастопырку, нос торчком, а палец крючком. Всюду пальцем кривым тычет и гаденько так талдычит:
– Это что же за новоиспеченный Вангог, Гог и Магог? – спрашивает критикан у художников, указывая на полотна богатея – Копейки за душою у горемыки нет, а всё в рисовальщики метит. Лучше б шёл на заводы к печам мартеновским чугун во благо родины лить!
Затем принялся тыкать в полотна дворницкие:
– Ишь ты! А от этой мазни за километру чую подвохи негоцианта-пройдохи! По всему видно, что миллионщик с жиру бесится. Культурки захотелось, ага. Око, понимаешь, и дух заговорили, ага. Такие маляки любое чадо несмышлённое в детском саду напырскает из чернильницы.
Переглянулись художники да как набросятся на критикана. И давай того лупить по всем доступным и недоступным местам, приговаривая:
– На, хлыщ! Получи! Будет тебе и око! Будет тебе и дух!
Так бедолагу отмутузили, что из него и вправду чуть дух вон не вышел и око едва не выпало. Потом стряхнули пыль со штанов, пнули напоследок мешковатого критикана и, обнявшись, отправились в ресторацию глушить французский коньяк с воблой во славу высокого искусства.
Юстиниан Монета. Маниак. День семьдесят шестой
Жил у нас во дворе человек Арсений Филиппович Подвороткин. Арсений Филиппович был маньяком и ел людей. Спрячется в переулок, притаится и выжидает, пока какая-нибудь краля не процокает. Он её – хвать! – и в подворотню.
Соседи про привычки Арсения Филипповича знали, а дети, бывало, даже дразнились. Вот так:
Подвороткин-лопушок,Ну-ка, скушай мой кишок!Или так:
Подвороткин-дурачок,Ну-ка, скушай мой почок!И даже так:
Подвороткин-нетопыр,Ну-ка, скушай мой пузыр!Очень обижался на детей Арсений Филиппович, но ничего не мог поделать, потому что чуть начинало смеркаться, как детей звали в дома делать уроки, смотреть хрюшу и ложиться в люльку.
Приходил к Подвороткину пожарный инспектор. Приходил и говорил, что Арсений Филиппович представляет собой латентный источник возгорания, потому что своим поведением провоцирует народы на разжигание народных смут. И предлагал поставить Арсения Филипповича на учёт. Подвороткин же отвечал, что чихать хотел на все учёты, и однажды съел пожарного инспектора.
Приходил к Подвороткину милиционер. И бранил милиционер Подвороткина, и стыдил, дескать, есть людей поедом – неприлично и даже, в некоторой степени, негигиенично. Не послушался Подвороткин и слопал милиционера.
И дворника сожрал, который пожаловался управдому на то, что Арсений Филиппович третьего дня разбросал чей-то ливер по закоулкам.
А когда управдом решил выселить Арсения Филипповича из квартиры, употребил и управдома.
Возмущённая общественность в лице членов квартирного профсоюза устроила собрание, на котором постановили Арсения Филипповича линчевать, но Подвороткин съел всех членов квартирного профсоюза.