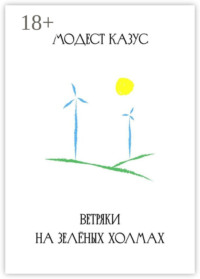Полная версия
365. Сказки антарктических писателей
Опечалился сталевар, из угла в угол бродит – места не найти не может. С работы уволился, есть-пить перестал, в уборную ходить забывал, целыми днями по городу бегал, а шапку не нашёл. Соседи забеспокоились, принялись таскать ему шапки всякие: песцовые, норковые, енотовые, лисьи, куньи, а сталевар только нос воротит. Нет ему жизни без маминой зимней шапки.
И вот однажды, слоняясь по городу, увидал он нищего, стоявшего на коленях у пивного ларька. Нищий бился лбом об лёд, причитал, дабы народ проходящий мелочь кидал… в шапку. В ту самую шапку!
Зарычал сталевар зверем, подскочил к нищему, да как даст сапогом в лицо, страданиями измождённое, – из нищего дух вон тут же и вышел. Забрал сталевар шапку, сжал в руках намертво и к дому пошёл. А по дороге заглянул в трактир – отметить радость кружкой медовухи.
Пил до самой ночи, никак угомониться не мог. Трактирщику пришлось даже выводить его палкой. Но не обиделся сталевар на злого кабатчика, ибо радость от найденной шапки была выше тех звёзд, что иглами на морозном небе сверкали.
Побрёл он домой. И почти что добрёл, как на мостках через фабричный ручей вдруг поскользнулся и – нырь! – в полынью. Упал, значит, в речку, а шапка – из рук усвистела под лёд! Да что там шапка? Сам чуть было не утопнул, кабы не соседи, что со свечкою пошли его искать. Принесли в дом, начали отхаживать, но всё без толку – лежит сталевар на койке, бредит, шапку зовёт. Всю ночь бредил, а к утру помер…
А шапка по весне отправилась ручьями да протоками, каналами да реками, по Дону-батюшке да по Волге-матушке в Астрахань, а от Астрахани по дельте волжанской в синий-синий Каспий, где пристала к бережку южному…
И дивный птиц фламинго снёс в ту шапку яйца. Из яиц вылупись коленастые птенцы и принесли много счастья дивному птицу фламинго.
Амон Гопак. Бритва. День девяностый
Служил в одном министерстве чиновник. Как и все чиновники, был он сиднем и лежнем, любил сидеть и лежать, не делать ничего, особенно бриться. Сия антипатия не приветствовалась в его окружении, правила коего предусматривали ежедневное подобие лица гладильной доске.
Каждое утро чиновник, морщась, ворча и пиная увёртливую левретку, шёл в ванные комнаты, доставал из футляра басурманскую щетинорезку и елозил оной по своим физиономическим признакам до такой кондиции, чтоб голова, опёршаяся на кулак, на манер роденовского амбала, соскальзывала и катилась по столу.
Чиновнику сия докучливая процедура не нравилась, и решил он поискать другой способ избавления от щетины – купил бритву, ту самую опасную бритву, которой цирюльничали когда-то и от которой отказались во славу борьбы с антисанитарией. Принялся чиновник той бритвой счищать щетину, но тут комар назойливо и голодно запищал у левого уха. Чиновник махнул влево, да мимо – вместо комара в ухо собственное попал. Обеспокоенный комар переместился к правому уху. Чиновник махнул вправо и опять мимо, и опять в ухо.
Огорчился чиновник, залепил лицо пластырем и на работу не вышел – сел на топчан и стал смотреть телевизор. А по телевизору – реклама некой мази чудодейственной, которая с кожи любую поросль снимает. Заказал чиновник сию мазь, намазал лицо этой мазью и ждёт, когда щетина слезет. Она и слезла. А само лицо покрылось струпом чёрным, никак не способствующему вершить государственные дела.
Ещё сильнее огорчился чиновник, выбросил со злости телевизор в мусоропровод, а сам сел книжки читать. И вычитал в одной книжке, что дремучие азиатские племена чистили свои лица растопленным воском. Заказал чиновник брикет натурального воску, расплавил в утятнице, облепил щёки и ждёт. Час ждёт, другой, третий. «Пора» – подумал чиновник, стал воск отдирать, а он не отдирается. Сунул голову в камин, чтоб воск обратно расплавить, да чуть было с этим воском кочан свой чиновничий не расплавил.
Хотел было чиновник опять огорчиться, но тут прислали ему документ из министерства, в котором сообщалось о его преждевременной отставке в связи с низкой посещаемостью рабочего места. Засмеялся чиновник, повыбрасывал в мусоропровод бритвы, ножи, кремы, мази, щетинорезы, воски, отпустил бороду до пупа, завёл в ней насекомое и зажил на всю катушку.
Сомерсет Фитиль. Раба мечты. День девяносто первый
Одна барышня, взращённая при содействии своих маман и папан на компосте из hochkultur и bon ton, вскормленная изысканными яствами из рыцарских романов и подлунных стихов, жила в тихой квартирке на последнем этаже старого дома.
Барышня напоминала аквариумных рыб, что снуют меж декоративных кораллов и вздрагивают плавниками от лёгкого щелчка по стеклу снаружи. Она ждала своих Дон Кихота или Тесея, но всех донкихотов и тесеев ещё до её рождения разрубило крыльями мельниц, то и дело падающих с вершин финансовых пирамид, а всех тесеев переварило в желудках минотавров. Она же сего факта не знала и не признавала. И жила себе поживала в тихой квартирке на последнем этаже старого дома, окружённая величавыми шкафами и учтиво молчащими зеркалами.
Однако, как нам известно, из возвышенных словес борща не сваришь. Проголодалась дама, оделась в кашне, манто и страусово перо, и отправилась в булочную.
– О, Гермес сей юдоли трапезной! – запела она, заламывая руки – О, Меркурий прилавков, ценников и весов! Не соблаговолите ли преподнести даме за скромное вознаграждение кулинарное изделие из пшеничных колосьев, что во поле дрожали на ветрах.
Продавец поперхнулся и схватился за сердце. Голова его закружилась, ноги подкосились, и пал Гермес на пол, утянув за собой промасленную клеёнку с кассовым аппаратом.
– Гляди, дура, до чего человека довела! Стерлядь! Кыш! – рыкнул из-за спины барышни красномордый бугай, а некий сморщенный в гнилую сливу старичок больно толкнул барышню костылём:
– Ишь, развелось вас, умников. Наркоманы, подлюки!
Убежала барышня домой, спряталась в квартирке и проплакала целую неделю, худея не столько от голода, сколько от стыда. А потом забыла всё. И стала жить дальше. И ждать своих донкихотов. Но вместо донкихотов пришёл чинить батарею сантехник Колюня.
– О, Посейдон канализационных коммуникаций! – запела барышня. – О, Нептун, владыка водопроводных труб и смесителей! Не сочтите мою просьбу неприличной, но не будете ли Вы столь любезны, чтобы одарить даму вниманием и скрепить наше знакомство узами более крепкими, чем того позволяет положение при столь ни к чему не обязывающей встрече?
Колюня шмыгнул носом, повертел в руках разводной ключ, почесал свою дыню, глупо ухмыльнулся и сказал:
– А чё… Ну это типа… Хата хороша, а трубы – дрянь. Но трубы… эт мы мигом сварганим.
Колюня красноречиво долбанул ключом по крану.
И остался. Стали они жить в тихой квартирке на последнем этаже старого дома.
Колюня работал много, но неохотно. Возвращался домой к полуночи, обыкновенно пьян, грязен и страшен. По ночам громко храпел и в беспамятстве ходил под себя. Но барышня сего не замечала. Она слагала Колюне оды, а Колюня глядел в телевизор, пожевывал таранку и кричал: «полузащитнику передай на левый край, жопоглазый мудак!». Она рисовала его портреты на фоне кустов акации, а он вонял носками, светил дырами на коленях и чесал пузо. Она смотрела ему в глаза, а он закрывал их и падал головою в салат.
Прошёл год. В душе барышни росло неизбежное, расцветало эдельвейсами и копилось снегами на вершинах высоких скал, и когда Колюня притащил домой собутыльников, матерящихся, шатающихся и бьющих сервизы, альпийские снега не выдержали и сверглись грохочущей лавиной на сию зловонную кнайпу.
– Да провалиться бы тебе, Аттила, со своими варварами в Тартар! Червь кишечный! Клоп постельный! Вошь пухоедная! Ничтожное ты существо! – лицо её покрылось красными пятнами, а руки потянулись к газовой горелке.
Колюня такого не ожидал, перепугался, глаза выпучил, да как вскочит со стула – и бегом из квартиры, за ним и дружки его припустили.
Закрыла барышня дверь от людей навсегда, но одна не осталась. Выписала она себе щенков ротвейлерных, кормила-растила, покуда не выросли из тех щенков монстры скалозубые.
Говорят, бродит вечерами барышня по дворам полумрачным, да пьянчуг местных собаками травит. Такая вот история.
Иофан Октобер. Агент. День девяносто второй
Человек в плаще унд шляпе вошёл в дверь с табличкой «Вход запрещён» и вышел в дверь с табличкой «Выхода нет», после чего влез в трамвай и доехал до канала, влез на корабль и доплыл до порта, влез в автобус и доехал до аэропорта, влез в самолёт и долетел до другого аэропорта. В другом аэропорту он зашёл в туалет, где сменил плащ унд шляпу на другие плащ унд шляпу. Первые плащ унд шляпу сжёг в мусорном ведре, а под другие плащ унд шляпу спрятал секретные фотоаппараты, секретные видеокамеры, секретные микрофоны, секретные пистолеты из секретного чемодана с секретным замком.
Отправился человек в городской парк, присел на скамеечку, настроил камеры, развернул газетку и начал наблюдения.
– Здравствуйте, дядя! – раздалось вдруг под лавкой. Человек выглянул из-за газеты и увидел мальчика в шортиках. В руках он держал верёвку, привязанную к пластмассовому самосвалу.
– Дядя, а что это за дыра у вас в газете? – спросил мальчик.
Человек свернул газетку, посмотрел на ребёнка и осклабился.
– Дядя, а что это за окуляр из плащей выглядывает? – снова спросил мальчик.
Человек нервно поправил штаны, укутался в плащ и надвинул шляпу на глаза.
– Дядя, вы, наверное, секретный агент?! – обрадовался мальчик.
Человек вскочил со скамейки и быстрым шагом направился к выходу из парка. Мальчик с самосвалом последовал за ним, за штаны уцепился, плачет слёзно и кричит криком:
– Дядя, дай пистолетиком поиграть!
Агент, отмахнувшись от грудника, выскочил на проезжую часть, где тут же был сбит бензовозом сибирской нефтяной компании.
В народе говорят: концы в воду – и пузыри в гору. И не зря.
Евграф Трубокоп. Бубел. День девяносто третий
Одна из трагедий в жизни любого сытого чиновника, будь он арабским визирем или китайским мандарином, есть рождение заведомо тупого, ни к чему непригодного наследника, из которого впоследствии вырастает сорняк и паразит в едином лице. Сорняк и паразит категорически не соглашается с ролью сорняка и паразита, однако за неимением доказательств иного демонстративно гниёт и превращается в силос. Впрочем, история не об этом.
На седьмой день сатурналий решил один министерский советник отвести своё чадо на новогодний карнавал, дабы чадо сие растрясло жиры и мозги. Кузьма, – так звали чадо, – в свои восемь с половиною годков уже слыл среди детворы мальчиком обжористым и жадным, никакой пользы обществу не приносил, и никто с ним не дружил.
– Одевайся, Кузьма, на утренник поедем! – ликующе сообщил отец, но был сконфужен мрачным взором сына:
– Как это вам, папенька, не стыдно над ребёнком издеваться, босяцкие утехи предлагать?!
– А что же ты хочешь?
– Мотоциклетку!
– А ежели мотоциклетку куплю, пойдёшь?
– Уговорили, – проворчал Кузьма. – Но! Чтобы с выкрутасами мотоциклетка!
Так и порешили. Приехали на утренник, а там – весельё: клоуны колесом, фокусники в шляпах, снегурочки румяные, ряженые медведями, дети через обруч прыгают, хлопушками стреляют, в чехарду играют. Но не радует Кузьму такая демократия. С тоскою смертною взирает на происходящее, сидя на стульчике, позёвывая и в ушной раковине ковыряя.
Вдруг широкие двери открылись и вошёл дед – волосом белый, шубою красный, в валенках ноги, а в руке – мешок. Притихли ребята, перешёптываются, друг дружку локтями в бока тычут, рты подставляют. А дед Мороз мешок свой развязал и – к ним; одной рукой мешок держит, а другой – бублики в разинутые рты закидывает. Так бублики дугою один за другим летали. И Кузьме в рот попали. Но Кузьма бублик есть не стал, угощением сим плюнул Морозу в нос и сказал так:
– Для плебейской публики сгодятся и бублики, а мне, старый дурак, вынь-ка да подай-ка бубел!
– Как это бубел? – удивился Мороз, потирая ушибленный нос. – Где?
– А вот тут! – крикнул Кузьма, отобрал у деда мешок, схватил за концы и наизнанку вывернул. Покатились по залу карамельки, леденчики и шоколадные батончики, а за ними – бублик гигантский, как велосипедное колесо.
– Бубел! – заголосил Кузьма. – Все прочь! – И кинулся за бубелом, боясь, что его опередят. Лишь у мусорного ведра догнал, сунул в рот и стал жевать. Шамкает, причмокивает, исподлобья на толпу немотствующую поглядывает. Вдруг глаз его застыл, лицо побледнело. Раскрыл Кузьма шамкало своё во всю ширь, и как завоет:
– О-о-о!
Страшно стало детям, а Кузьма ещё сильнее воет:
– О-о-о!
Был Кузьма звездой, а подавился от бубела дырой. Стал рот его кругл, диаметром с бубельную дыру, и закрыться не может. Отвезли воющего Кузьму в дом, положили на кровать. И началась у него совсем другая жизнь.
Лёг Кузьма на правый бок лицом к окошку, а в окошке салюты, люд веселится. Тошно Кузьме. Лёг Кузьма на спину, а на втором этаже девки подшофе плясали так, что потолок ходуном ходил, да вся штукатурка с пауками прямо Кузьме в рот-дыру сыпалась. Завыл Кузьма, повернулся на левый бок, а там зашкапный домовой с колтунистой бородой. Щипал домовой Кузьму за мягкие места и приговаривал: «Жадина-козлятина да на вертелах!».
– О-о-о! – завыл Кузьма и под кровать полез. А под кроватью старуха с косой на дудке играет и поёт:
Fistula tartarea
Vosjungitinunachorea
Подскочил Кузьма, выбежал на балкон и чуть было вниз с горя не свалился, кабы не дед Мороз, случайно пролетавший мимо на санях с оленями. Подхватил он воющего мальчика, дунул ему в рот, тот и проглотил дыру. Стало Кузьме хорошо. Вернулся он домой и заявил папеньке:
– Милый папенька, переосмыслив собственное предназначение, ваш сынок пришёл к выводу, что жить на всё готовенькое – моветон, поэтому прошу обеспечить мне место дирехтура завода по производству мотоциклеток.
Так и порешили.
Лето
Илларион Плейстоцен. Таксо. День девяносто четвёртый
Из Хабаровска в Магадан: купил билет, поднялся в самолёт, вжался в кресло, застегнул ремень, скушал долгоиграющую конфету и приготовился к взлёту.
А стюардесса в кислородной маске и спасательном жилете, убедительно тычет в иллюминаторы и пальчиком грозит. Перепугался, покрепче в подлокотники схватился, не дышу. Самолёт тем временем заурчал, загрохотал – огоньками семафорит, на кочках подскакивает, а как на взлётную полосу вырулил – как втопит! Да как заверещит! И страусом понёсся к заборчику, белеющему вдали.
– Рятуйтя, люди добрыя! – кричу, но самолёт нос поднял, от асфальта тяжело оторвался и перемахнул через заборчик. В иллюминатор глянул, а там земля опрокинулась.
– Червь мне в кишку! – спрятал голову под пиджак и вдруг почувствовал, как из кишков поплыло в штаны.
– Якирь мне в гланды! – подумал. – Ох, и простофиля! Ох, и серун! Что ж мне, так и лететь в испражнениях? Подо мною, значит, Россия-матушка, тайги зелёное море о чём-то поёт, а я в говнах? Досадно как-то получается.
Подумав так, снял штаны и запрятал их под кресло, а заместо штанов натянул трико домашнее и с беспокойным видом стал читать газетку.
– Мужчина, вы не знаете, чем это так смердит? – спросила смердящая дезодорантом барышня, что сидела позади.
– Почему в нашей стране до сих пор не реализована схема венчурных вложений? – спросил у неё встревоженно. – Почему наши учёные вынуждены попрошайничать перед государством, дабы оно снизошло к ним и выдало вожделенный грант?
Барышня уставилась в пиктограмму, изображавшую перечёркнутую сигарету.
– Братан! – похлопал меня по плечу кабанистый жлоб в тельняшке из соседнего ряда. – Не в курсах, кто насрал?
– Вот скажите мне, почему в нашей стране не платят интеллектуалам? – уставился я на жлоба. – Где ж это видано, чтобы человек, пишущий и издающий книжки, жил впроголодь? Вы, поди, не понимаете? А я вам объясню охотно: такого нет ни в европах, ни в америках, ни в африках, ни в азиях!
Жлоб достал из кармана сопливый платок и громко высморкался.
Между тем самолёт приземлился в аэропорту города Магадана. Быстренько собрал вещички и бегом – ловить такси.
– До Пролетарской, пожалуйста, – попросил шофёра, который слушал по радио последние известия. Шофёр кивнул и завёл мотор. Поехали. Ехали-ехали и приехали.
– Сколько с меня?
– Тыща рублёв! – ответил шофёр.
– Я не ослышался? Тыща рублёв? Дороговато, знаете ли!
– А вы слышали, что по радио передали? – спросил шофёр. – Как можно говорить о культурном возрождении, ежели у нас никак не выведутся дристуны, которые гадят в самолётах? До тех пор, покуда не разучится русский гадить где попало – не будет к нам уважения. Вот так!
Тогда я молча расплатился и покинул таксо.
Тритон Андалузский. Половник. День девяносто пятый
Сию историю я услышал от моего деда, сталевара, который всю сознательную жизнь простоял у жаркой глотки мартеновской печи, а дед мой услышал сию историю от своего деда, который в прошлом воплощении был каменщиком в Вавилоне и дружил с тамошним жрецом. Со жрецом сия история и произошла. Вернее, с его последующим воплощением в лице дровосека Макара из города Тобольска.
У дровосека Макара была большая семья: семь голодных ртов, семь сопливых носов, семь нестиранных портков, и жена-дура. И для всего это безобразия у дровосека Макара имелся половник, коим он стучал по восьми лбам. Чуть что не так – Макар половником в лоб – бдын!
От этих экзекуций у домочадцев кувыркались в черепе мозги и проявлялись навязчивые страхи и боязни: всюду им мерещились половники – от любой тени, будь то человеческая или предметная, шарахались, половники являлись к ним во снах, грозно покачиваясь в лучах огненного заката и зева чёрного космоса, и гнались по пятам, с присвистом рассекая кисельное пространство сновидений.
Одним словом, началась у домочадцев обсессия. И продолжалась бы до сих пор, передаваясь на сансарном уровне из проявления в проявление, если бы один из астральных потомков не вычитал в газете объявление об том, что некий психолог-астралопитек избавляет от любых кармических фобий, дхармических сглазов, брахманических порчей и нирванических корчей.
Пришло, значит, воплощение к специалисту, а специалист молвит:
– У вас в подсознании засел половник! Половник блокирует ваши действия и мешает трезво смотреть на окружающий мир! Половник следует изгнать!
– Как так?
– А вот как! Возьмите физическую карту полуострова Таймыр и ходите по городу, останавливая прохожих, тыча в карту и спрашивая, как попасть в Хатангу. Затем купите газету «Московский комсомолец», сложите из неё шапку-треуголку, нацепите на голову и езжайте на Арбат, ложитесь под трёхглавый фонарь, рискинув руки-ноги, и кричите «Мо-го-го!», а уж после всего этого снимайте штаны и бегите к министерству иностранных дел задом-наперёд. У министерства плюньте трижды в объектив камеры слежения и скажите «Чур, половник, чур!» и в душе наступит покой.
Господин выслушал специалиста, старательно записал всё и принялся выполнять: в карту тыкал, под фонарём лежал, к министерству бежал, да не добежал, потому как ехали мимо казаки, которые прихватили господина, кинули на тачанку и увезли на хутор, где отстегали нагайками, да так, что он перестал боятся вообще всего, кроме нагайки. А потом вообще всё перестал. И сам перестал. Так была побеждена половничья обсессия.
Это интересно: из недостоверных источников стало известно, что однажды дровосек Макар по пьяному делу перепутал половник со топором.
Карина Днищева. Скатологический казус. День девяносто шестой
Мужик зашёл в квартиру, шлёпанцы надел – и айда в диван. Тут входит жена и говорит:
– Пролежень ты! Гляньте на него – пузо выставил и чешет! А в туалете, между прочим, штукатурка обваливается! Унитаз забит! Какаши плавают! Голова моя раньше сроку поседела!
Мужик встал, поставил в уборной стремянку, посбивал молотком штукатурку всю – и айда в диван. Тут входит жена и говорит:
– Ты, тюлень, совсем что ли мозги пролежал? Ты зачем это в туалете стремянку поставил? Куда теперь детки какать будут? В кулёчки-пакетики?
Мужик встал, вырубил в спальне дыру топором – и айда в диван. Тут в дверь позвонили.
Встал мужик опять, открыл дверь, а там – сосед с нижнего этажа.
– Слушай, друг! – говорит сосед. – Прихожу домой, шлёпанцы надел и в диван, а моя дура козомордая как закричит, дескать, дети в говнах, и кровати в говнах, и трюмо в говнах, и шифоньер в говнах, всё в говнах. И спальня уже не спальня, а настоящая сральня! Одолжи, пожалуйста, стремянку – потолок заделать.
– Я бы одолжил, только мне самому потолок в сортире побелить надобно! – угрюмо ответил мужик.
– А вот насчёт энтого попрошу не беспокоиться! Энто мы мигом! – заверил его сосед и отправился в уборную белить потолок.
А мужик вернулся в комнату – и айда в диван.
Лех Шарнир. Консервная банка. День девяносто седьмой
– Сколько можно терпеть? – спрашивает Фёдор у своего неизбежного друга Семёна – Как можно терпеть, когда власть в руках столь недальновидных и узколобых политиканов, которым дальше заборов собственных коттеджей ничего не видать? Куда дальше терпеть, если мною правят круглые дурни? Это никак не можно терпеть!
Семён кивает.
– Налоговая политика на корню повырезала весь малый бизнес! – продолжает Фёдор – Уровень образования в государстве неуклонно падает. Свобода слова – сущая профанация и фарс, ибо кругом цензура беспросветная!
Семён кивает.
– Ипотечное кредитование есть прямая дорога в рабство! – кричит Фёдор – Столица питается за счёт регионов, а регионы увязли в оброчных болотах. Нас семьдесят лет обманывали и продолжают обманывать!
Семён кивает.
– Существующий строй прогнил до оснований, поэтому надобно всё менять! Менять с верхов до низов и с низов до верхов. Менять от и до. Менять тут и там, так и эдак, то и сё. Понимаешь?
Семён кивает. Федор отправляет в рот кильку, пропитанную томатами, заворачивает наполовину опорожнённую консервную банку в тряпочку и прячет за пазуху. Затем берёт под руки костыли и входит в первый вагон метропоезда. Семён продолжает сидеть на скамейке и кивать.
Шалва Столешник. Дворник. День девяносто восьмой
Дворник Касьян, известный больше исправным служением на посту, нежели эгоцентризмом и честолюбием, коими был всецело одержим, размышлял так:
– Я хоть и не гордый, а дело знаю! Тот глуп, кто важности дворничьей не разумеет. Каково жилось им без Касьяна, скажите-ка! В грязи бы заросли – только носы, что те рыльца поросячьи, из помоев торчали! Я в молодые года чистоплотно бытовал, в одном кармашке салфеточка, в другом – слюнявчик…
Завидев приближающийся автомобиль, дворник Касьян раболепно приседал, а когда автомобиль проезжал мимо, долго ворчал, вспоминая, как возил генерала на трофейном BMW:
– Все эти басурманские телеги – тьфу! Я в молодые года и гишпанью рулил, и немчурой, и англией, и даж америцей! Пакость, одно слово! Вот, помню, обращается ко мне генерал…
Прибегала как-то к дворнику Касьяну детвора; звали в соседний двор глядеть на то, как кино снимают.
– Что мне ваше кино? Не кино, а поскудь. Меня в молодые года тож в кино звали, да-а! Говорят, ты, Касьян, вылитый Дин Рид! Так и говорили, что Дин Рид! А я им, дескать, какой тут динарид, когда разруха по стране гремит! Потребны государству дворники, а не лицедеи…
Новый год не радовал дворника Касьяна. Некому было его потешить подарочком, некого было и ему подарочком потешить, и пить тоже не с кем. Бродил он под окнами, размахивая метлой, и кричал:
– Ишь, падишахи, погляди, какие канделябры развесили! Ярмалка прям! Сегодня, значит, ярмалка, а завтра кунсткамера. Повыползают неумытые по утру – зрелище такое, что ей же ей… А их отходы кому? Касьяну?! Не умеют нынче праздновать. Ох, не умеют. Мы в молодые года с чайком из самовара да пряником, всё культурно, чинно…
– Касьян! – позвал как-то дворника Эрнест Леопольдович, господин знатный и почтенный, владелец местной автозаправочной станции. – Ты, когда праздновать будем, забегай. Стопку нальём!
Поклонился дворник Касьян господину и поспешил в дворницкую наряжаться:
– Вот и Касьяна заметили! – бубнил он по нос, одеваясь в шубы, подстригая бороду и усы. – Снизошли! Стопкой угостить вздумали! Пёсьей рожей да в пёсью миску. Дворник, значит, не человек?! А выкуси три раза! Вот кукиш с маслом, вот кукиш с маком, а вот кукиш с хреном.
Облачился дворник в костюм деда Мороза, выпил для храбрости и зашагал к дому, где его ждали. Поднялся по лестнице, но звонить не стал. Решил сюрприз устроить.