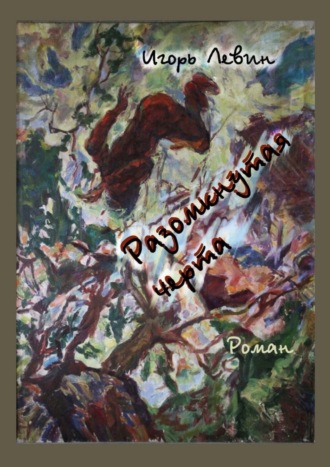
Полная версия
Разомкнутая черта. Роман
Аллегория прозрачна: стены темницы – грани судьбы, кольцо – символ безысходности однообразного течения жизни. Окна-бойницы – щели, через которые смерть тоскливо глядит на жизнь. А жизнь – в вечном движении: чередуются света и тени, пульсируют оттенки цветов, изменяются повороты тел. Но не выйти за границы узкой площадки между стенами темницы-крепости, не прервать однообразного и монотонного хода. Неба не видно, совсем не видно. Нет свободы – есть только заданная траектория, по которой движутся безликие люди-призраки, люди-тени, люди-узники, люди-рабы. У каждого – строго определённое ему место. Но «что может скрываться в сердце человека, не имеющего места в жизни?» «Печаль будет длиться вечно», – произнёс, глядя в глаза смерти, великий художник, который как никто упивался искрящейся солнечной энергией жизни, но сам не нашёл в ней места.
«Вороны над полем пшеницы» – последняя картина Ван Гога. Такие будоражащие чувства контрасты насыщенных жёлтых, золотистых и глубоких сине-голубых цветов, закопчённых примесями мазков чёрной краски, могли возникнуть только в период убийственного отчаяния. Крайне сомнительна для меня версия, что Винсент был случайно подстрелен играющими подростками. Нет, «Вороны над полем» – это реквием в цвете. Тропа, идущая вглубь, словно яростным взрывом разрывается на части – узкие тропинки, утопающие в бурных волнах пшеничного поля. Холодный ветер гонит к горизонту два маленьких облачка. Тёмное кольцо туч беспрерывно сдавливает небесные сполохи. Вороны каркают, в хищном порыве склёвывая пшеничные злаки – яркие плоды жизни.
Конфликт неба и земли – в тонах, цветах, в стиле и настроении – звучит угрожающе. Гармония нарушена! Неожиданно можно обнаружить в линейных очертаниях простого пейзажа схему мрачной физиономии с глазами из двух облачков и носом – дорожкой, утопающей вдали. Давящий мрак чёрных туч всё больше и больше овладевает пространством.
Нет, не могу больше описывать это произведение в прозе. Я ведь видел сон, связанный с этой картиной, и нутром смутно ощущал боль ревущей в комке взвинченных нервов его души и измученного недугами тела, улавливал его страстное стремление разорвать жизненный круг. Поутру я наскоро набросал стих, посвящённый памяти Ван Гога, где отразил испепеляющие ужасом событий впечатления сна.
Боже! Боже! Боже!Больно! Больно! Больно!В ветряном простореВороны над полем.Вороны теснятсяВ воздухе упругом.Под свинцовым кровомКаркают и кружат.Сколько ни взлетаютС гиканьем свирепым —Им, на падаль падким,Не уступит небо.Золото колосьевКлювом разрывая,Змейкой вьётся, тая,Стая вороная.Боль вонзилась в уши,Боль пронзает тело!Почему так, брат мой,Тео, Тео, Тео?!Путниками жизниШли с мечтой прозрачнойВ призрачные дали,В край долины сочной.Но сгустились тучи,И в холодной смолиЛишь одни осталисьВороны над полем.Заблудился в тропах,Словно в топи брошен.Что же, что же, что же,Боже, Боже, Боже?!Выстрел в вымя выси,Поражённой воплем…Высохшие травы,Вороны над полем…____Просыпаюсь. УтроВ окна смотрит строго,Осветило тумбу,Где альбом Ван Гога.Книги спят на полках,Зайчик солнца скачет —У двери хохочет,А в простенках плачет.Отчего же толькоВспомнилось невольно:Синь, бурьян, тропинка…«Вороны над полем»?III
На другой день после встречи с Димой и Павлом Сапрыкиным я отправился оглядеть, что же творится в парке «Аркадия», как там идут работы по организации этого злосчастного комплекса аттракционов ООО «Гильотина». Немного не выспался. Блуждал по закоулкам как варёный, направляясь в сторону парка. День был ветреный, хоть погода и не испортилась. Солнце светило ярко, небрежно кидая снопы света на ершистый тротуар, на павлиньи оперения растений, на сочную, с юным рвением вздымающуюся кверху травку, всколыхнув шаловливым огоньком городские кварталы, пятнами глубоких теней расслаивая в пространстве плоскости стен. Я оделся как назло очень легко. Бирюзовая футболка фирмы «Адидас», стильная чёрная бандана с орнаментом в виде хаотично трафареченных белых букв, мятые, как конфетная обёртка, мутно-синие джинсы «Джек-Джонс» – всё, что спешно натянул на себя, должно было замаскировать мой профессиональный журналистский интерес к этой компании и крупным планом обнаружить вид любопытного зеваки – понурого меланхолика или хлыща (в зависимости от обстоятельств).
Выходя к проспекту дворами, я встретил знакомого старика. Да не то чтобы знакомого в полном смысле этого слова (его имени я до сих пор не знаю, да и о нём ничего не слышал). Но я вижу его каждодневно (а иногда и по нескольку раз в день), проходя этим путём к продуктовому магазину, где продаётся мой любимый свежеиспечённый хлеб с семечками – приятный на вкус, мягкий и очень аппетитный, пропитанный солодовым экстрактом и оттого имеющий благородный сосновый отлив. Встречаю старика на этом месте, направляясь на работу, второпях обегая небрежно припаркованные, настырно заслоняющие проход к улице и напоказ демонстрирующие глянцевую поверхность обтекаемых форм автомобили. Приветствую его во время утренней прогулки по окрестностям соседних двориков. Летом он расхаживает по крыльцу с деревянной тросточкой в карминово-красной футболке и грязно-синем трико, а иногда появляется в голубом халате с узором в виде спиралек – нелепых обрезков меандра. Я вижу его весной и осенью в спортивных штанах с лампасами и тёмно-синей олимпийке с косыми белыми полосками, цифрой 90 в виде круглой эмблемы на плече. На голове его красуется дребезжащая бисерными нитями серая кепка. А мягкой зимой он стоит в пепельной вязаной шапке, растопырив в стороны ноги, на которые наспех напялены полусапожки с расстёгнутой молнией. Спину греет ему медно-коричневое, местами потёртое до ржаво-пшеничного цвета пальто с овчинной выделкой воротника, его шею овивает сапфировый шарф.
Часто он стоит в задумчивости, горделиво подняв голову вверх и рассматривая верхушки лип и осин, вдыхая во всю мочь широкими ноздрями свежий воздух. В его облике явно есть что-то карикатурное, хитроватое, задорное, шутовское. Густые седые брови словно выгравированы штихелем. На скуластом смугловатом лице крупной лепёшкой набухает волевой, по-вольтеровски выступающий и гладко выбритый подбородок. Добродушная полуулыбка подтягивает края тонких губ к рельефным, со спело-фруктовой округлостью щекам. Нос, торчащий сапожком, как отполированный, блестит на солнце. Наблюдательный взгляд небольших, напоминающих очертания кильки, серо-голубых глаз шустро реагирует на любое шевеление во дворе: танец ветвей на ветру, веерное движение кроны деревьев, развеску белья торопливой хозяйкой, чудаковатую пингвинью походку местного лысого толстяка, одетого во всё чёрное, резвый и эксцентрически лёгкий бег играющих в футбол пацанов.
Мы с ним постоянно здороваемся за руку. Он всегда задорно играет, импровизирует, потешается. Иногда он, лукаво насмехаясь, выпрямляется по стойке «смирно» и, манерно отдавая честь, расплющив толстые пальцы у виска, громогласно объявляет: «Смирно! Здравия желаю, товарищ полковник!» То, завидев меня, схватив кепку, понарошку, бочком, изображая бег, слегка отходит и как бы испуганно голосит: «Пацаны! Сюда! Наших бьют!». То, прежде чем поздороваться, взмахнёт в шутку палкой: «Стой! Кто идёт?! Не подходи… У-у-ух… я тебя!». Заметив, что иду с сумками, набитыми продуктами, весело подмигивает: «В огород ходил грядки копать?» Чаще он стоит на крыльце подъезда ветхого пятиэтажного дома цвета сухой жёлтой листвы, как часовой на вышке. Цоколь подъезда с короткой навесной плитой торжественно обрамляет толстая кишка трубы теплоснабжения, выкрашенная сильно пожухшей со временем лиловой краской. И это придаёт его гордому стоянию на крыльце оттенок церемониально важного действия. Его фигура поразительно гармонирует с облупившейся баклажановой штукатуркой в нижней части здания, будто редкий антикварный товар, приметно выставленный на прилавке специализированного магазина. Увидев меня, не из интереса, а ради поверхностного общения, внимательно рассматривая, во что я одет и что у меня в руках, старик лаконично спрашивает: «В магазин?», «По хозяйству?», «На работу?», «С товаром?»… И, нежно кряхтя, с умудрённым видом добавляет: «Надо…». Он слился с этой средой старых двориков провинциального города, словно Пан или леший – с лесной чащей. Он не только живёт этой средой – он сам стал жизнью это среды, войдя в неё, пропитавшись ею, как суховатый хлеб пропитывается маслом.
Я пошёл дальше, оглядев эту знаковую фигуру как достопримечательность тихих уютных кварталов, в сторону шумного проспекта, окаймлённого широкими газонами. А затем, проходя знакомой тропинкой в парк, я чуть вздрагивал, отворачиваясь от обдувающего лицо ветра, оглядывал взбудораженную волнами и шевелящуюся упорядоченными складками мехов гармони поверхность травы, хорошо подкормленной весенними дождями. Приятно радовала глаз пестрота луговых цветов, слышно было перешёптывание листьев кустарников и отдалённое щебетание птиц. Вот небольшой пригорок. Дальше – ровная асфальтированная дорожка, отделённая бордюром от задымлённого и пыльного проспекта. Прошёл мимо парковой чугунной ограды, сплетённой выспренним растительным узором между жёлтыми квадратными каменными столбами, строго выстроенными массивными объёмами и украшенными белыми классическими навершиями. Не сворачивая, я проделал путь, равный примерно одной автобусной остановке.
Вдали стал заметен портик с колоннами – вход. Ну вот: замелькали, всполошились вихреобразным движением линий мощные подпорки, цилиндрические вышки, мачты осветителей; замельтешили вздутыми мускулами монументальных форм аляповато выкрашенные фигуры механизмов для аттракционов. Нет, это уже не просто комплекс спортивно-игровых площадок – обширная сеть моделированных крестообразными металлическими рамками и рейками гигантских жёстких стоек, многоярусных широких платформ, складчатых перекрытий… Установки для аттракционов казались подобиями сказочных динозавров, которые оживали на глазах, неуклюже передвигаясь по прихоти художника—фантаста. За ограду пока не пускали. Видно было, что идут последние подготовительные работы. Работники группировались по пять-семь человек, что-то оживлённо обсуждая. Спецодежда на них смотрелась коллажем, выложенным синими и оранжевыми плоскостями, расчленёнными широкими серебристыми полосками. Чётко читались на ярко освещённом фоне синими клювами-козырьками лёгкие бейсболки, сверкали в калейдоскопе весенних оттенков защитные очки. Послышались крики: «Запускай!», через минуту: «Стоп! Трудно вверх идёт, надо бы разработать. Отключи второй двигатель! Попробуем ещё раз. Чуть назад разверни!» Из шатровых палаток выходили люди, меченные чёрным дресс-кодом, чем-то озадаченные, расхаживающие взад-вперёд по дорожкам комплекса – видимо, администраторы, наблюдающие за ходом работ (а, может, психологи?). Попробуй тут разбери…
Один из них, увидевший, что я приближаюсь к ограде, окликнул меня: – Вам кого тут надо, уважаемый? Сюда нельзя.
На меня смотрел представительно одетый, как лондонский денди, в элегантный тёмно-серый кардиган и чёрные брюки с заметной стрелкой высокий и худой темноволосый мужчина, примерно около тридцати лет. Волосы его были тщательно приглажены и зачёсаны назад; лицо квадратное, покрыто местами угревой сыпью; густые брови немного насуплены; нос толстый, короткий, слегка вздёрнутый; взгляд безучастный. Мимика вялая, но чем-то выдававшая скрытое недовольство.
– Да я просто интересуюсь: такие гигантские карусели – круто же! Впечатляет размах, однако. А что тут планируете – просто современные игровые площадки, да? – кося под неосведомлённого и удивлённого простачка, слегка щурясь от солнца, но настырно глядя собеседнику в глаза, проговорил я.
– Здесь планируется комплекс экстремальных аттракционов на базе реабилитационного центра психологической помощи потенциальным самоубийцам, – произнёс он – как отшлифовал.
– Ого! Это уже такая развлекаловка задумана для тех, кто устал от жизни! А вот тем, кто хочет жить ещё интереснее, как быть? Ну просто желающему замутить кровь адреналином, нервишки себе пощипать – к этим аттракционам подойти можно будет?
Я продолжал испытывать его ироничным взглядом.
– Можно, но это заранее обговаривается с администрацией центра. И стоить будет больших денег.
– Это каких?
– Если только возможность участия во всех аттракционах, а кроме того, посещение музеев – «Известные самоубийцы», «Музей казней» – примерно семь тысяч рублей. Точная цена ещё обсуждается. Скажу только, что для простого посещения будут определённые дни и часы. А вот тем, кто замыслил самоубийство, оплачивать надо будет ещё беседу с психологами. Это примерно тридцать – сорок тысяч. Точнее пока не могу сказать.
– Надо же! Экстремальные развлечения так дорого стоят? А зачем с самоубийц такие деньги драть?
– Потенциальных самоубийц. Им в принципе деньги уже не важны. Важнее решить вопрос: жить или не жить? А тут и к жизни тебя вернут, и новые ощущения на аттракционах будешь испытывать, и современные музеи посмотришь. Разве плохо? Работа хороших психологов, механиков, смотрителей, охранников и администраторов (он перебирал все категории, загибая пальцы левой руки, а затем их резко разжал) должна достойно оплачиваться.
– А вы здесь главный?
– Нет, я один из администраторов центра.
– А главный где?
– Зачем он вам?
– Да так, интересно побольше узнать о ваших фантастических машинах.
– Директор занят. Приходите к открытию – первого июня, тогда и узнаете. Подготовительные работы ещё не закончены.
– Просто глянуть на эти любопытные машины не пропустите?
– Не пропустим! Сказал же: приходите к открытию. Что непонятно?!
Администратор начинал нервничать, фразы произносил отрывисто, рявкающим тоном.
– Да всё вроде понятно. Ухожу, ухожу – не волнуйтесь так, добавил я с иронической усмешкой.
– Я не волнуюсь. Я вам объясняю. Приходите к открытию. До свидания!
– До свидания! Постараюсь прийти. Спасибо за приглашение!
А сам подумал: «Чёрт бы тебя побрал! Только бестолку припёрся. Делитова я сегодня, значит, не увижу».
Вот и отправился я расстроенный назад, домой, обдуваемый тем же бодрым весенним ветром, который пару раз срывал с моей головы эту несуразную пиратскую бандану, озорно катая её по упругой траве, а затем перебрасывая к тонким щупальцам кустарника. Небо уже нахохлилось пышно-кучерявыми облаками, которые всё больше принимали угрожающий вид обиженных туч. Клинья света растерянно уползали с холмов и пригорков. Ветер, шипя и брезгливо ругаясь с рядами деревьев и кустарников, в левой стороне сливавшимися в густую кущу, стал бесцеремонно хлестать мою спину. Я даже не шёл – почти бежал торопливым шагом к проспекту – понурый, помятый и выпоротый розгами воздушных струй. Чуть замедлил шаг, проходя защитный барьер тихих двориков, пытаясь как-то систематизировать бессодержательное месиво свежих впечатлений, и постоянно спотыкался – то о фактурные плиты мостовой, то о щербатый бордюр, то о перепады шершавых асфальтовых покрытий.
Ну наконец-то мой смешной пятиэтажный дом – наполовину жёлто-розовый с потемневшей пятнами и осыпавшейся штукатуркой, наполовину краснокирпичный. А вот мой подъезд, с торца которого какой-то креативный шкет намалевал с контурной обводкой на жёлтом фоне сердитую белую кошку, один её глаз обозначен синим, другой – зелёным цветом. А белокаменный забор напротив подъезда украсило ещё одно граффити – крылатое сердце над городом (очень симпатично!). Открываю домофонным ключом широкую серую металлическую дверь и вбегаю через ступеньку по глубоко уснувшей в бархатном полумраке лестнице на четвёртый этаж. Привычным движением открываю грубо выкрашенную красной охрой дверь и, категорично щёлкнув засовом, вмиг пролетая коридор, скинув кроссовки, распластываюсь на кушетке, замкнув руки за головой и повернув её вправо. Ещё не засыпаю, но растворяюсь в этой плюшевой обстановке, повторяя какую-то странную фразу: «Она прошла, меня не замечая…» Что за чепуха? Откуда я это взял? Сумеречное состояние сознания… Я где-то об этом читал. В этом состоянии предельно обостряется интуиция. Чушь… Всё это – чушь… Мелькают переливами рыбьей чешуи обрывки воспоминаний: лица заведённых пьяным угаром бывших одноклассников с недавней вечеринки, их непотрёпанные годами, оживлённые детские фантомы, рабочий стол и кипа бумаг, нудно бубнящие и шуршащие чем-то коллеги, пёстрый карнавал уличных гирлянд… Я засыпаю, немного жмурясь и притискивая губы, ход мыслей замедляется, только образы-картинки неторопливо чередуются, то проявляясь, то угасая, я засыпаю, расслабив руки-верёвки, я засыпаю…
Сон. Она прошла, меня не замечая…
Она прошла, меня не замечая, как во сне. Я хорошо помню этот сон. Освещённый солнцем тротуар; около нас, сигналя, проезжают на большой скорости автомобили. Вдали – зигзагообразная развязка дорог, извилистая полоска реки, бетонный мост со слононогими опорами, тающие силуэты невысоких холмов с очертанием грациозно танцующих по их поверхности берёзок. Она идёт, спускаясь вдоль обочины узкой улицы. Я иду ей навстречу и зову её: «Наташа! Наташенька! Ната!». Она проходит совсем рядом, близко, очень близко, и не смотрит на меня: безразличное лицо-маска – ни один мускул не дрогнул! Меня как будто для неё нет (я для неё уже труп – и как в воду глядела!). Встань я поперёк пути, она бы так могла пройти ледоколом сквозь меня. Её голову обрамляет светлая элегантная летняя шляпка; она одета в эффектное розовато-красное платье с дробящимися растром белыми узорами. Свободно дефилирующие бёдра легко очерчены тонкими складками, а обута она в бледно-розовые голливудские туфли, у которых сквозь обрезанный носочек нежно выступают пальчики ног с перламутрово-розовыми ноготками. Её стройная фигура топ-модели контрастно выделяется на фоне пышной зелени, отбрасывающей интенсивные тени. Она проходит мимо меня. Я вежливо и настойчиво пытаюсь остановить её. Но она прошла, меня не замечая (или сделала вид, что не заметила?).
Когда я рассказал ей об этом сне, она лишь иронично и как-то неестественно кокетливо улыбнулась, убеждая, что это всё мои страхи, такого не может произойти в жизни. Но ведь произошло, уже произошло! Сон обернулся явью. Не знаю, чего больше в этом акте наигранного, показного безразличия – ненависти, равнодушия или презрения…
Я давно был влюблён в неё, но сблизились мы только, когда её муж изменил ей и похвастался этим. Мы – люди одного высокого социального ранга. Я – директор строительной фирмы, она – директор модельного агентства. Мне – сорок восемь, ей – тридцать два. Околдовала меня эта прекрасная блондинка с гармонично выстроенным овалом лица, серо-голубыми глазами (в их взгляде можно было легко прочесть все оттенки настроений – от горделивой и злобной спеси до лёгкой насмешки, иронии и добродушной снисходительности), тонко очерченным носиком, романтически-энергичным разлётом бровей, капризно изломанным контуром губ, розовой родинкой у левого края верхней губы и плавно заострённым книзу подбородком. Сохранившая красоту молодости цветущая женщина-менеджер как бы появилась на свет из глянцевых журналов.
У каждого из нас были своя семья, свои дети, свой круг знакомых. Я выстроил для себя стройную, со всех сторон поддержанную жёсткими крепёжными конструкциями систему, где дом и семья – мощная несокрушимая крепость, где работа движется в указанном мной направлении, принося солидный доход, где всё построено на моральных принципах, принятых мною, на позициях, удобных для меня. Даже любовницы появлялись у меня по распорядку. Одна из них умудрилась как-то забеременеть от меня (жена простила).
Но она, моя Ната, неожиданно появившаяся в моей жизни, вдруг нарушила этот привычный мир; невольно и не напрягаясь, взломала его изнутри. И неприступная крепость вмиг рухнула и разлетелась на кирпичики, распалась, разрушилась, как рушатся старые дамбы в буйное весеннее половодье. Я привык всё непосредственно контролировать в своей жизни. На работе не доверял заместителям: один – безответственный разгильдяй и пьяница, другой – себе на уме (кажется, мошенник или плут). Она по-свойски журила меня: нельзя замыкать на себя всю деятельность фирмы, надо уметь распределять работу между замами и сотрудниками, разыгрывая рабочий процесс как по нотам, чтобы чувствовать себя уверенно и вольготно, как в свободном плавании, в этом проекто-документо-человековороте: наладил механизм, подкрутил гаечки – и отпускай на время ситуацию.
А я не могу не быть абсолютным хозяином всего в своей жизни и на работе: мне надо думать за всех, во всё вникать целиком, самому проверять и просчитывать всё, подчинённым давать служебные указания непосредственно, лично следить за каждым, настоять, чтобы все решения принимали только с моего ведома. Мне надо было всех удержать на мобильной связи, все мосты мыслей, идей и действий работников фирмы состыковать с извилинами своего мозга; всех до единого, обвивая матрицей корпоративных команд, втянуть в производственный процесс. Но что-то пошло не так, где-то закралась ошибка… Я ещё сам не понял, где… И огромная ноша, к которой я привязал всех и себя стальными канатами, вдруг резко накренилась и сдавила мне горло, протащив меня по корявым склонам обрыва и опрокинув в глухую прорву.
И это уже не сон. Она прошла, меня не замечая, будто я – ноль, будто я – никто, выпяченный шиш, будто никогда не было меня в её жизни!
Вспоминаю, как мы отдыхали вместе на море. Мы прониклись друг другом, как сплетаются ветви и корни близких деревьев. Лазурные пряди волн; песочные лунки, как серебристо-лимонные кратеры Луны, отполированные солёной водой и телами с шоколадным загаром; пряный аромат русской баньки, шашлыки и фрукты; прогулки вдоль кипарисовых аллей… Боже! Как же мы были счастливы, как нам хорошо было вместе!
Бывало, её раздражало моё чрезмерно собственническое чувство к ней. Она пыталась ускользнуть, вырваться из-под моей опеки. Но я строго следил, чтобы она занимала заранее отведённую ей нишу в наших отношениях: не захотела бы скрыться и не могла бы нарушить мои семейные устои. Как-то я подарил ей навороченный сотовый телефон и просил никогда его не выключать. Её муж случайно обнаружил его и ударил Наташу по лицу наотмашь этим телефоном. Со своим мужем – пьяницей, драчуном и гулёной моя возлюбленная быстро развелась. Я приглашал её в лучшие сауны города, снимал номера в гостинице, водил в лучшие рестораны, оплачивал работу лучших фотографов для её агентства. Я использовал однокомнатную квартиру, оформленную в качестве делового офиса фирмы, для встреч с ней.
Она брезгливо ворчала: «Всё здесь чужое! Кто я для тебя?! Нам нужна своя квартира, а не задрипанный офис. У тебя для этого достаточно средств» (так она полагала – неблагодарная женщина!). Я досадовал: «Ты же знаешь, я не могу развестись: дети не поймут, жена не переживёт…». Что бы я ни делал, ей всегда было мало. Она иногда говорила мне, ерепенясь, с раздражённой миной, сквозь зубы: «Всё у вас с женой чинно-блинно: «Котик мой!», «Лапочка моя…». Вместе ходите в театр, нравоучительные беседы с детьми, приёмы друзей и родственников, вечерний променад… Какая милая парочка – просто на зависть всем! Сплошное лицемерие, ложь, фальшь – фу, как противно!!!». Я пытался убедить её, говоря как на духу, что в отношении к ней у меня нет ничего распутного, срамного, циничного, ничего грязного, скабрезного, низкого, бл […] дского (в конце концов!), что я её по-настоящему люблю… Бесполезно! Только одни упрёки. Я неловко искал компромисс, пытался юлить, хотел выкрутиться из неприятной ситуации, бесконечно обещая познакомить с некоторыми своими родственниками и близкими друзьями, каждый раз находя какие-то наивные отговорки и стыдливо объясняя, почему не могли происходить встречи с этими людьми. Она же истерично, озлобленно, с негодованием, даже с бешенством, постоянно обвиняла меня во лжи, в подлом предательстве. Её растущим запросам и требованиям трудно было угодить.
И вот я, цепенея от ужаса, обнаружил, что дела в моей фирме резко идут на убыль, что конкуренты активно перехватывают выгодные заказы, что я уже не в состоянии расплатиться с кредиторами, что долги на мне всё больше повисают, как летучие мыши на ветвях фруктовых деревьев в жаркую южную ночь. Я стал особенно мрачен, рассеян и угрюм. Я хоть и называл её колдуньей за умение прогнозировать события, предсказывать наперёд, что, с кем и как произойдёт, за сильную волю и интуицию; но сквозь шоры собственного эгоизма она совсем не замечала, что я нахожусь в катастрофической ситуации, постоянно обижаясь, что я недостаточно уделяю ей внимание, что не удовлетворяю многие её запросы. Она явно была убеждена в том, что я больше страдаю от своего лицемерия и скупости.
Но однажды я решился порвать с ней, не только с ней – со всей своей жизнью, утопив груз неразрешимых проблем вместе с собой (но об этом пока молчок!). И объявив ей о разрыве связи, я в сердцах высказал всё, что думаю о её неблагодарности, о том, что она ничего не ценит, а только оценивает, что ей капризы важнее любви, что она жуткая эгоистка… – словом, много всего; даже ощутил какое-то облегчение при этом. Спустя несколько недель, я намеренно не поздравил её с Днём рождения (а она ждала хотя бы моего звонка, очень ждала – и злилась на своего зама, который подолгу занимал служебный телефон).




