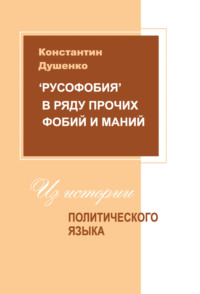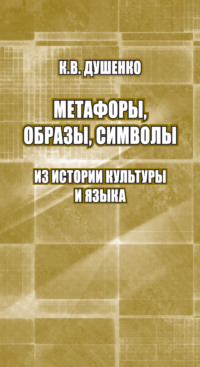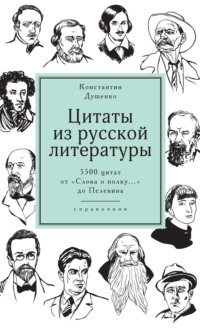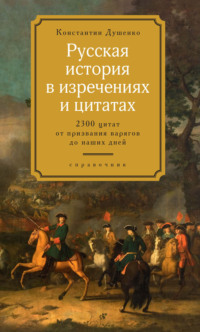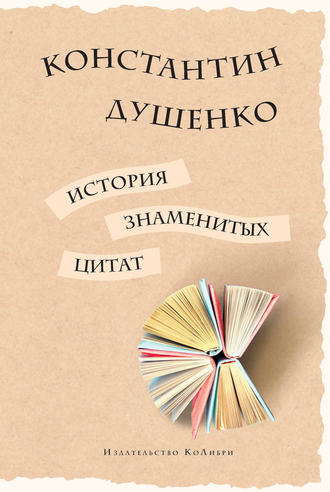
Полная версия
История знаменитых цитат
Далеко не каждый советский читатель знал происхождение этой фразы. В повести Виктора Конецкого «Начало конца комедии» (1978) читаем:
«На каютной переборке в ногах койки у Сережи – как крест у ожидающего воскресения православного покойника – изображено красным фломастером изречение: “Вставайте, граф! Вас ждут великие дела! С. Экзюпери”».
Сережа не ошибался только в одном: фраза действительно французская. Считается, что она принадлежит графу Анри де Сен-Симону, знаменитому социалисту-утописту. Сен-симонист Гюстав д’Эйхталь в очерке «О жизни и характере Сен-Симона» (1830) сообщает:
«Вставайте, граф, вас ждут великие дела!» – такими словами он, в возрасте семнадцати лет, велел будить себя каждое утро.
Позднее нередко утверждалось, что этими словами Сен-Симон велел будить себя не в 17, а уже в 15 лет.
В энциклопедическом издании «Универсальное обозрение» («Revue universelle», 1832, т. 4, статья «Сен-симонизм») об этом рассказано чуть иначе:
Его слуги и домочадцы начали видеть в нем нового Мессию и настояли, чтобы каждое утро он, вставая с постели и беря чашку кофе или шоколада, повторял: «Вставайте, граф, вас ждут великие дела!»
Французский историк Максим Леруа, автор «Истинной жизни графа Анри де Сен-Симона» (1925), считал эту историю легендой. Анатолий Левандовский, автор советской биографии Сен-Симона (1973), с Леруа не согласен: «Вряд ли нужен подобный скепсис». Однако единственное его возражение сводится к тому, что эта фраза «вполне в духе Анри Сен-Симона». Возражение крайне слабое.
Историческая фраза Сен-Симона – была она сказана или нет – восходит к античности. В трактате Плутарха «К непросвещенному властителю» рассказывалось:
У персидского царя был слуга, обязанностью которого было по утрам входить к нему и обращаться с такими словами: «Вставай, царь, и позаботься о делах, о которых велел тебе заботиться великий Оромазд!»
(Перевод А. Аверинцева)Оромазд – греческая форма имени «Ахурамазда»; так именовали верховного бога зороастрийского пантеона.
Гений – это 1 процент вдохновения и 99 процентов пота
Эта формула приписывается великому американскому изобретателю Томасу Эдисону (1847–1931).
Однако ее ранняя версия, без точного соотношения ингредиентов, связывалась с именем не Эдисона, а Кейт Санборн (1839–1917). Санборн объездила всю Америку, читая лекции на различные, прежде всего литературные темы. 4 декабря 1892 года газета «Springfield Republican» (штат Массачусетс) писала:
Считается, что именно Кейт Санборн сказала, что «талант – это пот». Эта мысль высказывалась очень часто, и почти в тех же самых словах. Обычно говорят, что «гений это скорее пот, чем вдохновение» (букв. «…скорее потение, чем вдохновение» – «perspiration more than inspiration»).
21 апреля 1893 года калифорнийская «Riverside Daily Press» цитировала слова Санборн: «Гений – это вдохновение, талант и пот».
Формула с процентами появилась в апрельском номере журнала «The Ladies’ Home Journal» за 1898 год:
Однажды, когда его попросили дать определение гения, мистер Эдисон ответил: «Два процента гения и девяносто восемь процентов тяжелого труда». В другой раз, в ответ на замечание, что гений – это вдохновение, он сказал: «Ба! гений – не вдохновение. Гений – это пот».
Насколько это сообщение достоверно, судить трудно; однако настораживает, что появилось оно в журнале для домохозяек.
В самом начале XX века приписанная Эдисону формула гения была исправлена: теперь соотношение вдохновения и пота составляло 1 к 99.
В 1910 году, еще при жизни Эдисона, вышла его двухтомная биография написанная Ф. Л. Дайером и Т. К. Мартином. Здесь говорилось:
Объяснение своих великих успехов «гением» Эдисон всегда отвергал, что видно из его исторического замечания, что «Гений – это 1 процент вдохновения и 99 процентов пота». Кроме того, много лет назад, когда Эдисон в своей лаборатории беседовал с [Ч. У.] Батчелором и Э. Х. Джонсоном, этот последний упомянул о гении Эдисона, заметном в некоторых его достижениях; Эдисон возразил: «Вздор! Я говорю вам, что гений – это тяжелый труд, настойчивость и здравый смысл».
Всего вероятнее, «историческое замечание» было лишь приписано Эдисону журналистами, а биографы узаконили его задним числом. Гораздо достовернее выглядит формула «тяжелый труд, настойчивость и здравый смысл». Именно таков был метод работы Эдисона.
Никола Тесла, другой великий изобретатель, начинавший как ассистент Эдисона, заметил не без иронии: «Чуть-чуть теории и расчетов сэкономило бы ему 90 процентов труда» (интервью в «Нью-Йорк таймс», 1931).
Во Франции определение гения дал естествоиспытатель Жорж Луи Бюффон: «Гений всего только бо́льшая способность к терпению» (согласно очерку Эро де Сешеля «Визит к Бюффону», 1785). В переводе Н. М. Карамзина (1798): «Гений, или творческая сила, есть не что иное, как терпение в превосходной степени. В самом деле, надобно иметь терпение, чтобы долго смотреть на предмет со всех сторон; смотрев долго, наконец понимаем его».
Обычно это изречение цитируется в форме «Гений – это долгое терпение» («Le génie est une long patience»).
Обратную формулу предложил Поль Валери в стихотворении «Контур змея» (1922):
Гений! О долгое нетерпение!
Согласно английскому историку Томасу Карлейлю, «гений» – это «прежде всего необыкновенная способность переносить тяготы» («История Фридриха II Пруского», кн. IV (1864), гл. 3). Это определение, широко известное в странах английского языка, можно считать вариацией формулы Бюффона.
Бюффоновская «бо́льшая способность к терпению» приводит на мысль слова пушкинского Сальери:
Усильным, напряженным постоянством,Я наконец в искусстве безграничномДостигнул степени высокой.И его же недоуменный вопрос, обращенный к небесам:
Где ж правота, когда священный дар,Когда бессмертный гений – не в наградуЛюбви горящей, самоотверженья,Трудов, усердия, молений послан —А озаряет голову безумца,Гуляки праздного?.. О Моцарт, Моцарт!Комментарий к этим строкам дал Варлам Шаламов:
«Труд – это потребность таланта. Моцарт потому и стал Моцартом, что работал гораздо больше, чем Сальери. Эта работа доставляла Моцарту удовольствие» («Из записных книжек», 1963).
Германия превыше всего
В августе 1841 года 43-летний немецкий филолог Август Генрих Гофман фон Фаллерслебен отправился на остров Гельголанд, который как раз тогда обрел славу морского курорта. Сейчас остров входит в состав Германии, а тогда принадлежал Британии. На отдыхе Фаллерслебен беседовал с друзьями о германских делах. Они разделяли его либеральные взгляды и мечтали об объединении немецких земель в единое свободное государство.
Фаллерслебен интересовался песенным фольклором и сам был автором множества песен. 26 августа, незадолго до отъезда в Германию, он сочинил три строфы стихотворения, которое назвал «Песнью немцев». «Песнь» была написана на мелодию Йозефа Гайдна для австрийского гимна «Gott erhalte Franz der Kaiser» («Боже, храни императора Франца»). Начиналась она словами:
Германия, Германия превыше всего,Превыше всего на свете.Первую строку – «Deutschland, Deutschland über alles…» – знают все, но мало кому известно, что Фаллерслебену она, в сущности, не принадлежит.
В 1684 году в Вене был опубликован трактат «Австрия превыше всего, если только захочет». Автор, немецкий экономист Филипп Вильгельм фон Хёрник, доказывал, что Австрийская империя может стать преобладающей силой в Европе при условии правильной экономической политики. Книга имела немалый успех; столетие спустя вышло ее 15-е издание.
В 1809 году, в разгар наполеоновских войн, появилась военная песня, начинавшаяся со слов:
Если только она захочет,Австрия всегда превыше всего.В 1813 году песня была опубликована в Гамбурге и Майнце с новой мелодией и начиналась уже со слов:
Если только она захочет,Германия всегда превыше всего.У Фаллерслебена формула «Германия превыше всего» отнюдь не содержала в себе идеи о державном превосходстве не существовавшего еще государства. Она означала лишь, что национальное единство должно быть выше интересов отдельных немецких государств.
«Песнь немцев» стала одним из символов революции 1848 года, а сам Фаллерслебен принял в ней деятельное участие. За это он поплатился должностью профессора германистики в Бреславльском (ныне Вроцлавском) университете.
Власти созданной в 1871 году Германской империи относились к песне Фаллерслебена настороженно, поскольку в ее третьей строфе дважды повторен либерально-демократический лозунг «Единство, и право, и свобода».
В 1919 году Германия подписала унизительный для нее Версальский договор, а два года спустя, в 1921 году, мюнхенский литератор Альберт Маттеи сочинил «четвертую строфу» «Песни немцев», начинавшуюся словами:
Германия, Германия превыше всего,Особенно в беде.(Что опять же показывает, что первая строка понималась отнюдь не в великодержавном смысле.)
В 1922 году стоявшие у власти социал-демократы утвердили «Песнь немцев» гимном Германской республики.
Нацисты не стали менять государственный гимн, однако сократили его до первой строфы, после которой в обязательном порядке исполнялся гимн нацистской партии «Хорст Вессель». С этого времени первая строфа «Песни немцев» стала ассоциироваться с нацистским режимом, и после 1945 года оккупационные власти запретили ее исполнение.
В 1952 году усилиями рейхсканцлера Конрада Аденауэра гимн был частично восстановлен в правах: отныне исполняется только его третья строфа. Строка гимна «Единство, и право, и свобода» стала неофициальным девизом Федеративной Республики Германия.
Отчасти похожая история случилась с гимном ГДР «Возрожденная из руин». Гимн был написан в 1949 году композитором Гансом Эйслером на стихи Йоганнеса Бехера (причем тем же размером, что и «Песнь немцев», так что его можно было петь и на мелодию Гайдна). Однако с 1970 года гимн исполнялся без слов. Дело в том, что в первой строфе имелась строка «Германия, единое отечество»; между тем к тому времени власти ГДР окончательно приняли доктрину «Два государства – одна нация».
Строки, сомнительные с позднейшей точки зрения, нетрудно найти и в других государственных гимнах. Во Франции издавна идут дебаты о приемлемости строк «Марсельезы» «Пусть нечистая кровь / Оросит наши нивы!», которые в годы якобинского террора служили лозунгом расправы с «врагами народа». Однако исключать их из текста гимна французы пока не спешат.
Гимнастика ума
Лозунг «Шахматы – гимнастика ума» появился у нас в 1950-е годы. Сперва он был анонимным, но лет 10–15 спустя стал приписываться – ради вящей убедительности – Ленину.
В конце концов, по-видимому, потребовалось подтверждение достоверности лозунга. И оно появилось в статье Якова Рохлина «Гимнастика ума» («Шахматы в СССР», 1980, № 4). Согласно Рохлину, в сентябре 1920 года начальник Всеобуча Н. Подвойский решил провести в Москве шахматную олимпиаду.
– Что ж, предложение интересное, – заметил Ленин, – ведь шахматы – гимнастика ума.
Эту историю Рохлин будто бы услышал от А. Ф. Ильина-Женевского, видного большевика и деятеля советского шахматного движения. Ильин-Женевский умер в 1941 году, так что оставалось лишь верить Рохлину, неожиданно вспомнившему столь важный для шахмат эпизод из жизни вождя.
Как заметил другой шахматный журналист, Виктор Хенкин, «это вранье на протяжении многих советских лет приносило шахматам заметную пользу» (главка «Гимнастика вранья», включенная в книгу Виктора Корчного «Шахматы без пощады», 2006).
Выражение «Шахматы – гимнастика ума» широко известно только в СССР. Мне известен лишь один случай его более раннего употребления – зато за целый век до появления советского лозунга.
6 мая 1853 года в Манчестере состоялся учредительный съезд Шахматной ассоциации Северной и Центральной Англии. Торжественный ужин по случаю съезда открыл Чарлз Аллен Дювал, художник-портретист и председатель Манчестерского шахматного клуба. В этом спиче Дювал назвал шахматы «не только гимнастикой ума, но и гимнастикой духа (not merely mental, but also moral gymnastics)».
Надо полагать, что для него, как истинного британца, «гимнастика духа» была едва ли не важнее «гимнастики ума». Изложение его речи перепечатали основные шахматные журналы Британии и США, однако формула «Шахматы – гимнастика ума» в англоязычных странах не привилась, так что в Стране Советов ее пришлось придумывать заново.
В Германии «гимнастикой ума» с конца XVIII века именовали логику, математику и древние языки, т. е. основу классического гимназического образования. Неудивительно, что у нас этот оборот стал синонимом гимназической зубрежки. «В моду вошла не совсем удобопонятная фраза: гимнастика ума, – сокрушался писатель Е. А. Салиас-де-Турнемир в 1878 году. (…) Как следствие такой фразы, является решение заставить и девушек зубрить латинскую и греческую грамматики, учить алгебру и высшую математику, – и это в ущерб всему прочему…» («Теперь и прежде», «Вестник Европы», 1877, кн. 5).
Так же смотрел на гимназическую «гимнастику ума» Дмитрий Мережковский. В его поэме «Старинные октавы» (1910) читаем:
Потратили мы чуть не целый год,Чтобы понять отличье quin и quod;А говорить по-русски не умели. (…)Гимнастика ума – полезный труд,Направленный к одной великой цели:Нам выправку казенную дадутДля русского чиновничьего строя,Бумаг, служебных дел и геморроя.В советское время лозунг «Математика – это гимнастика ума» цитировался со ссылкой на «всесоюзного старосту» М. И. Калинина, который употребил это выражение в беседе со школьниками.
И именно это значение «гимнастики ума» – наиболее древнее. Сама эта формула принадлежит знаменитому афинскому оратору Исократу, назвавшему математику «гимнастикой ума и приготовлением к философии» (речь «Об обмене имуществом», 353 г. до н. э.).
Тут можно вспомнить еще одно изречение, памятное тем, кто учился в советской школе:
А математику уже затем учить следует, что она ум в порядок приводит.
На школьных плакатах эти слова по сей день снабжаются подписью «Ломоносов». Однако перед нами такой же апокриф, как и «ленинское» определение шахмат. В «Истории арифметики» (1959) советского педагога И. Депмана это изречение приведено как цитата из объяснительной записки Ломоносова к программе Сухопутного шляхетского кадетского корпуса. Эту записку Депман будто бы отыскал в архиве, однако точной архивной ссылки не привел.
И по сей день о такой записке великого ученого ничего не известно.
Главное – не победа, а участие
На зимней Олимпиаде в Ванкувере Россия заняла 11-е место в общекомандном зачете. К таким результатам мы не привыкли. 5 марта 2010 года премьер Владимир Путин провел совещание по итогам Олимпиады.
– На соревнования подобного рода, – сказал он, – выходят не для того, чтобы пропотеть, а для того, чтобы победить.
Еще определеннее Путин высказался шестью годами раньше: «Я никогда не понимал лозунга о том, что главное не победа, а участие. Этот лозунг придуман людьми, для которых самое главное – удовольствие. Для меня важным является только результат» (интервью газете «Пари-матч» 11 марта 2004 г.).
С Путиным, конечно, согласились бы древние греки. Для античных атлетов победа в Олимпии была единственной целью. Призы за вторые и третьи места не присуждались, а проигравшие старались понезаметнее скрыться.
Когда же и кем был предложен немилый нашему лидеру лозунг?
В приветствии барона Пьера де Кубертена устроителям Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 1932 года говорилось: «В Олимпийских играх главное не победить, но принять участие». На церемонии открытия Игр, состоявшейся 30 июля, эти слова были помещены на табло стадиона.
Четыре года спустя, открывая Олимпийские игры в Берлине, Кубертен заявил:
– В Олимпийских играх важна не победа, а участие.
Хозяева Берлинской Олимпиады 1936 года так не думали. Безоговорочная победа Германии по общему количеству медалей и по золотым медалям стала подарком для нацистской пропаганды.
Но история лозунга «Главное – не победа, а участие» гораздо старше.
За 28 лет до Берлинской Олимпиады, на банкете в честь официального открытия Олимпийских игр в Лондоне 24 июля 1908 года, Кубертен говорил:
– В жизни важна не победа, но борьба; главное – не выиграть, но достойно бороться.
При этом он сослался на проповедь американского католического епископа Энгелберта Толбота в соборе Св. Петра, прочитанную несколькими днями раньше, 19 июля. (Поэтому, кстати сказать, лозунг «Главное – не победа, а участие» нередко приписывается Толботу.)
О чем же проповедовал Толбот? «Эти Игры сами по себе лучше, чем состязание и приз. Св. Павел говорит нам, насколько маловажен сам приз. Наш приз не подвержен тлению – он нетленен, и хотя лишь один будет увенчан лаврами, все должны получить равное удовольствие от соревнования».
Было бы странно думать, что епископ нетвердо знал Писание, но факт остается фактом: у Павла и речи нет ни об «удовольствии», ни о маловажности приза. Апостол говорил нечто совершенно иное:
Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить.
Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца тленного, а мы – нетленного.
И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух (…).
(1-е послание Коринфянам, 24–26)Эти слова следует пояснить. «Венцом тленным» озабочены атлеты-олимпийцы, для которых «воздержание от всего» есть часть спортивной подготовки; о «венце нетленном» (т. е. о спасении души и Царстве Небесном) думают христиане и, подобно атлетам, напрягают усилия, чтобы его получить. В последнем фрагменте речь идет о кулачных боях, включавшихся в программу античных Олимпийских игр.
Но и это еще не всё. В 1894 году Кубертен приехал в Афины, чтобы убедить греков принять у себя первые Олимпийские игры Нового времени. Греки сомневались – отчасти по финансовым причинам, отчасти опасаясь оказаться в положении мальчиков для битья на олимпийских аренах. 18 ноября, выступая в Парнасском литературном обществе в Афинах, Кубертен сказал:
– Здесь приносит стыд не поражение, но отказ от борьбы.
А это, как заметил американский профессор Дэвид Юнг в статье «Об источнике олимпийского кредо» (1994), – не что иное, как вариант строки из поэмы Овидия «Метаморфозы», IX, 6:
Меньше в моем пораженье стыда, чем в боренье – почета.
(Перевод С. Шервинского)У Овидия эти слова произносит речной бог Ахелой, который сватался к царевне Деянире одновременно с Гераклом. В схватке с Гераклом он принял образ быка, однако Геракл победил его, обломав противнику один рог.
Кубертен, напоминает Д. Юнг, учился в иезуитской школе, где древние языки были главными дисциплинами, а Овидий – обязательной частью изучения латыни.
Лучшей иллюстрацией мысли о том, что борьба важнее победы, служит знаменитая история с марафонцем, случившаяся на Олимпиаде в Мехико 20 октября 1968 года. В семь часов вечера на стадионе финишировал победитель марафона, эфиоп Мамо Волде. К восьми часам медали были уже вручены, трибуны почти опустели, начинало темнеть. И тут на беговой дорожке появился танзаниец Джон Стивен Аквари. Он бежал прихрамывая, кривясь от боли на каждом шагу, сквозь марлевую повязку на ноге сочилась кровь. Оказалось, что Аквари упал в самом начале забега, серьезно поранив колени и бедра, и все же добрался до финиша под овацию оставшихся на стадионе зрителей. Когда журналисты спросили его, почему он не прекратил бег после падения, танзаниец ответил:
– Моя страна послала меня за 7 тысяч миль не для того, чтобы я стартовал, а для того, чтобы я финишировал.
Свою версию лозунга Кубертена предложил уже не атлет, а врач и писатель-афорист Геннадий Малкин: «В браке главное не победа, а участие».
Гомо советикус, он же совок
В 1985 году в Лондоне вышла книга историка-диссидента Михаила Геллера «Машина и винтики: История формирования советского человека». Здесь утверждалось, что студенты-медики в СССР занятия по-латыни начинают с фразы: «Homo sovieticus sum» – «Я советский человек», т. е. «с первых же шагов в медицине узнают, что есть два вида человека: гомо сапиенс и гомо советикус». Достоверность этого сообщения сомнительна; во всяком случае, в советских учебниках латыни для медиков я этой фразы не отыскал.
Далее Геллер цитировал обширные выдержки из книги «Советский человек» (1974), где встречается термин «Хомо Советикус». На самом деле книга называлась «Образ жизни – советский!». Ее первое издание вышло в 1973 году в Политиздате невообразимым ныне тиражом 75 000 экз., а второе – год спустя тиражом 50 000 экз.
Эту насквозь пропагандистскую книгу написали авторитетные журналисты-«известинцы» (напомню: «Известия» были тогда лучшей советской газетой). Один из них, Леонид Корнилов, – сын писателя Виктора Драгунского. Другой – Александр Васинский, очеркист и автор сценария фильма «Влюблен по собственному желанию» (1982). В 1990-е годы он первым рассказал нашим читателям о том, что такое хоспис, а в 2003 году сам умер в московском хосписе.
Авторы задавались вопросом, «что это за человек – Homo soveticus». Далее следовал привычный набор качеств советского человека: «коммунистическая идейность», «относится к труду как к главному в жизни», «человек коллектива», «беспредельно предан своей социалистической многонациональной отчизне», «ему до всего есть дело, будь то явление масштаба глобального или жизнь соседей по лестничной площадке».
В тогдашней советской печати термин Homo soveticus был новинкой и в пропаганде не прижился. Причина проста: на Западе он встречался (обычно в форме Homo sovieticus) с середины 1930-х годов, а в годы «холодной войны» приобрел негативный оттенок.
В русской эмигрантской печати латынь обрусили: «Гомо (или Хомо) советикус». В книге Бориса Башилова «Унтерменши, морлоки или русские» (Буэнос-Айрес, 1953) заявлялось: «“Хомо советикус”, слава Богу и к чести нашего народа, не существует».
Однако широкую известность выражение обрело благодаря памфлету Александра Зиновьева «Гомо советикус» (1982). «На Западе, – писал Зиновьев, – умные и образованные люди называют нас гомо советикусами. (…) Я введу более удобное сокращение для этого длинного выражения – гомосос». Согласно Зиновьеву, гомосос «всецело поддерживает свое руководство, ибо он обладает стандартным идеологизированным сознанием, чувством ответственности за страну как за целое, готовностью к жертвам и готовностью других обрекать на жертвы. (…) Гомосос не является существом нравственным – это верно. Но неверно, будто он безнравствен. Он есть существо идеологическое в первую очередь. И на этой основе он может быть нравственным или безнравственным, смотря по обстоятельствам».
Где-то с конца 1980-х годов в речь вошло слово «совок». Сначала оно означало Советский Союз, а затем – и советского человека вместе с его стилем мышления, т. е. то же, что и «Гомо советикус».
Есть несколько претендентов на авторство этого словечка. Прежде всего это музыкант Александр Градский. Он многократно рассказывал историю о том, как где-то в 1968 году, после очередной «халтуры», они с друзьями взяли портвейна, а так как пить было негде, портвейн распили в песочнице (совсем по Высоцкому). Вместо стаканов использовали формочки; сам же Градский пил из детского совка, на котором было написано: «совок, 23 коп.». Градский сказал друзьям: «Вот наша жизнь», а потом сочинил песню с этим словом.
Даже если так оно и было, трудно представить, чтобы отсюда в народ пошло словечко «совок» в значении «Советский Союз». Да и про старую песенку Градского с этим словом ничего не известно.
Эссеисты Александр Генис и Петр Вайль утверждали, что придумали слово «совок» для обозначения советских туристов, выезжающих в социалистические страны, однако и тут надежных свидетельств нет.
Наконец, писатель и философ Михаил Эпштейн утверждает, что слово «совок» он придумал в 1984 году, когда начал писать книгу «Великая Совь». Совь (по типу «Русь») – это страна сов, а среди населяющих ее племен упоминаются «совки». В 1989 году автор читал свою книгу по Би-би-си, откуда слово будто и попало в молодежный жаргон. Но и в этом можно усомниться – хотя бы потому, что поначалу «совок» в молодежном жаргоне означал страну, а не ее население.
Так что достоверно известен лишь автор «гомососа».
Государство – это я
В 1653 году во Франции закончилась Фронда – пятилетняя гражданская война, в которой знать, провинции и города боролись против правительства кардинала Мазарини. К Фронде примкнули лучшие французские полководцы, ее вожди получили поддержку у Испании и Англии, тем не менее королевская власть победила. Победа обошлась дорого: считается, что население Франции за эти годы уменьшилось на десять процентов.