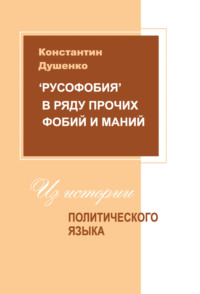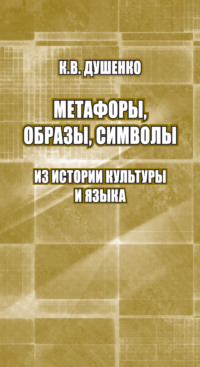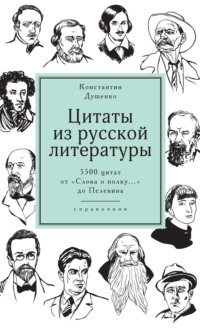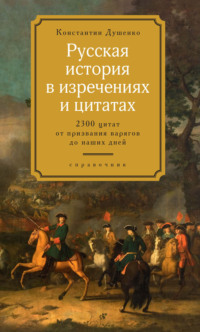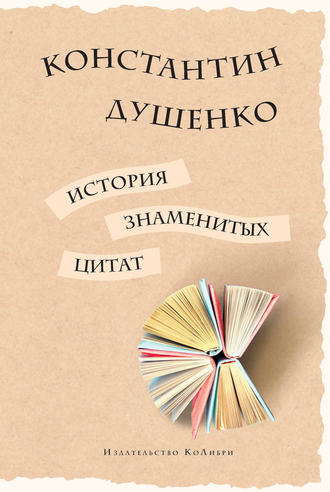
Полная версия
История знаменитых цитат
Один из героев повести Дэвида Сэлинджера «Выше стропила, плотники» (1955) замечает:
– Должно быть, я параноик наоборот. Я подозреваю, что другие сговариваются, чтобы меня осчастливить.
Есть еще и такое изречение неизвестного американского автора:
Если вам кажется, что вы сошли с ума, вы здоровы; а если вам кажется, что все посходили с ума, вы не в своем уме.
Дай мне мужество изменить то, что я могу изменить…
Есть молитва, которую считают своей не только приверженцы самых разных конфессий, но даже неверующие. По-английски ее именуют Serenity Prayer – «Молитва о спокойствии духа». Вот один из ее вариантов:
– Господи, дай мне спокойствие духа, чтобы принять то, чего я не могу изменить, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить, и дай мне мудрость отличить одно от другого.
Кому ее только не приписывали – и Франциску Ассизскому, и оптинским старцам, и хасидическому рабби Аврааму-Малаху, но чаще всего Курту Воннегуту. Почему Воннегуту – как раз понятно.
В 1970 году в «Новом мире» появился перевод его романа «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» (1968). Здесь упоминалась молитва, висевшая в оптометрическом кабинете Билли Пилигрима, главного героя романа. «Многие пациенты, видевшие молитву на стенке у Билли, потом говорили ему, что она и их очень поддержала. Звучала молитва так:
ГОСПОДИ, ДАЙ МНЕ ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ, ЧТОБЫ ПРИНИМАТЬ ТО, ЧЕГО Я НЕ МОГУ ИЗМЕНИТЬ, МУЖЕСТВО – ИЗМЕНЯТЬ ТО, ЧТО МОГУ, И МУДРОСТЬ – ВСЕГДА ОТЛИЧАТЬ ОДНО ОТ ДРУГОГО.
К тому, чего Билли изменить не мог, относилось прошлое, настоящее и будущее» (перевод Риты Райт-Ковалевой).
С этого времени «Молитва о спокойствии духа» стала и нашей молитвой.
А впервые она появилась в печати 12 июля 1942 года, когда «Нью Йорк таймс» поместила письмо читателя с вопросом, откуда эта молитва взялась. Только ее начало выглядело несколько иначе; вместо «дай мне спокойствие духа (serenity of mind) – «дай мне терпение». 1 августа другой читатель «Нью-Йорк таймс» сообщил, что молитву составил американский проповедник-протестант Рейнхольд Нибур (1892–1971). Эту версию ныне можно считать доказанной.
В устном виде молитва Нибура появилась, по-видимому, в конце 1930-х годов, но широкое распространение получила в годы Второй мировой войны. Тогда же ее взяли на вооружение «Анонимные алкоголики».
В Германии молитва Нибура долго приписывалась немецкому богослову Карлу Фридриху Этингеру (K. F. Oetinger, 1702–1782); тот же автор указан в I издании моего «Словаря современных цитат» (1997). Дело в том, что перевод молитвы на немецкий был опубликован в 1951 году под псевдонимом «Фридрих Этингер». Этот псевдоним принадлежал пастору Теодору Вильгельму; сам он получил текст молитвы от канадских друзей в 1946 году.
Насколько оригинальна «Молитва о спокойствии духа»? До Нибура она нигде не встречалась. Исключение составляет лишь ее начало. В 1934 году в одном из американских журналов появилась статья Джуны Пёрселл Гилд «Зачем нужно ехать на Юг?». Здесь говорилось:
«Многие южане, по-видимому, очень мало делают для того, чтобы стереть страшную память о Гражданской войне. И на Севере, и на Юге не у всех хватает спокойствия духа, чтобы принять то, чего нельзя изменить» (курсив мой. – К.Д.).
Почти двумя тысячелетиями раньше Гораций писал:
Тяжко! Но легче снести терпеливоТо, чего изменить нельзя.(«Оды», I, 24)Неслыханная популярность «Молитвы о спокойствии духа» привела к появлению ее пародийных переделок. Наиболее известна из них «Молитва офисного работника» («The Office Prayer»):
– Господи, дай мне спокойствие духа, чтобы принять то, чего я не могу изменить; дай мне мужество изменить то, что мне не по нраву; и дай мне мудрость спрятать тела тех, кого я убью сегодня, ибо они достали меня.
А еще помоги мне, Господи, быть осторожным и не наступать на чужие ноги, ибо над ними могут быть задницы, которые мне придется целовать завтра.
Двунадесять языков, четырнадцать держав
В словаре Даля читаем: «Нашествие двунадесяти языков, Отечественная война, наступление Наполеона на Русь, в 1812 году». Откуда взялись эти «двунадесять языков» и почему именно «двунадесять», т. е. двенадцать?
Выражение это появилось уже после изгнания Великой Армии из России, причем в несколько иной форме. 25 декабря 1812 года был обнародован Высочайший манифест «О принесении Господу Богу благодарения за освобождение России от нашествия неприятельского». Здесь говорилось:
Да представят себе собрание с двадцати царств и народов, под единое знамя соединенные, с какими властолюбивый, надменный победами, свирепый неприятель вошел в Нашу землю [курсив здесь и далее мой. – К.Д.].
Указом Александра I от 30 августа 1814 года предписывалось ежегодно, в день Рождества Христова (т. е. 25 января), праздновать «избавление Церкви и державы Российския от нашествия галлов и с ними двудесяти язык». Этот Указ, как и Манифест 25 декабря 1812 года, был составлен, как сказали бы теперь, спичрайтером государя – статс-секретарем А. С. Шишковым.
С тех пор в церковных рождественских проповедях неизменно упоминалось о нашествии «двудесяти язык».
Наконец, 1 января 1816 года вышел Манифест (написанный все тем же Шишковым) «О благополучном окончании войны с французами», где говорилось об «ужасном, из двадцати царств составленном ополчении».
Итак, в указах и манифестах говорилось сначала о «царствах и народах», потом о «языках» (народах), потом только о «царствах» (государствах). Число вражеских то ли царств, то ли языков составляет двадцать. Разумеется, это не точная цифра, а числовая метафора, означающая «очень много».
В 1812 году России объявила войну Франция, а также ее союзники и вассальные государства: Австрия, Пруссия, Швейцария, Герцогство Варшавское, Испания, Королевство Италия, Неаполитанское королевство и Рейнский союз, включавший 37 немецких государств. Таким образом, «царств» (государств, хотя бы и зависимых) было 8+37, итого 45; если же считать Рейнский союз за одно «царство», то «царств» оказывается девять. Собственно же языков (т. е. народов, говорящих на одном языке) насчитывалась дюжина с лишним, так как в одной Австрийской империи их было не менее десятка.
Очень скоро наряду с «двудесятью языками» появились «двунадесять язык» или «языков». Вероятно, сказалось влияние широко распространенных оборотов «двунадесятые праздники», «двунадесять апостолов» и т. д. К тому же цифра 12 лучше подходит для роли символического числа.
В пушкинской «Истории села Горюхино» (1830) повествователь пишет: «По изгнании двухнадесяти языков, хотели меня снова везти в Москву…»
В 1827–1834 годах в Москве была сооружена Триумфальная арка в честь победы в Отечественной войне. Один из двух ее горельефов изображал «Побиение двунадесяти языков» (согласно пояснительной надписи на особой бронзовой доске). Тем самым формула «двунадесять языков» была узаконена официально наряду с прежней.
В XX веке старая формула возродилась в новом обличье. 30 августа 1919 года в «Известиях» появилось сообщение о том, что Черчилль заявил о плане «концентрированного наступления армий 14 государств против Москвы». Это сообщение было взято из шведской «Фолькетс дагблат политикен» от 25 августа. Сотрудник «Известий» Ю. М. Стеклов счел все же нужным уточнить: «Мы не знаем, действительно ли произносил Черчилль ту речь, о которой сообщает скандинавская газета, или же этот спич принадлежит к разряду апокрифов».
Согласно Ленину, «Черчилль потом опровергал это известие. (…) Но если бы даже (…) источник оказался неправильным, мы прекрасно знаем, что дела Черчилля и английских империалистов были именно таковы» (доклад ВЦИК и Совнаркома 5 декабря 1919 г.).
Цифра 14 применительно к Гражданской войне получила то же значение числового символа, что и цифра 12 по отношению к войне 1812 года. В речи на открытии IX съезда РКП(б) 29 марта 1920 года Ленин заявил:
– …Несмотря на двукратный, трехкратный и четырнадцатикратный поход империалистов Антанты, (…) мы оказались в состоянии победить.
Мифический «поход четырнадцати держав», он же «Второй поход Антанты», прочно вошел в советские учебники как обозначение плана военной интервенции, якобы разработанного летом 1919 года. В действительности – к великому сожалению Черчилля – никакого общего плана у держав Антанты не было.
В 1949 году появилась пьеса Всеволода Вишневского «Незабываемый 1919-й». Она была удостоена Сталинской премии и в 1951 году экранизирована. В одном из первых эпизодов фильма показан первомайский субботник в Кремле. Цитирую сценарий:
Ленин и пожилой рабочий с трудом несут на плечах тяжелое бревно. У пьедестала Царь-колокола свалили его на груду таких же бревен; с трудом переводят дыхание. (…)
– Я уверен, что этой весной Антанта опять начнет натиск. Уж распространяются слухи о походе четырнадцати держав.
– Это каких же четырнадцати, Владимир Ильич?
– Четырнадцати? Гм… подсчитаем. Англия – раз, США, Франция, Италия, Япония, Греция, Югославия, Польша, Чехословакия, Финляндия, Эстония, Латвия и прибавьте Колчака и Деникина. Да, подсчет точный.
Рабочий даже привстает от волнения.
В прологе пьесы «Незабываемый 1919-й» Ленин говорил о походе 14 держав не рабочему, а Сталину, и тоже в мае 1919-го. Таким образом, он предвосхищает план Антанты, который даже по советским учебникам появился не раньше июля. Однако о Югославии Ильич говорить не мог; это наименование появилось через пять лет после его смерти.
Дети, кухня, церковь
Выражение «дети, кухня, церковь» цитировалось у нас как «старая немецкая поговорка» или (в советское время) как «старый реакционный лозунг». Максим Горький в статье «О женщине» (1930) указывал и конкретного автора: «Вильгельм Второй должен был напомнить с высоты своего трона, что у немецкой женщины только три обязанности пред ее страной: дети, кухня, церковь». Напомним, что Вильгельм II, император Германской империи, правил с 1888 по 1918 год.
Этот оборот хорошо известен и в других странах, причем чаще всего он приводится по-немецки: «Kinder, Küche, Kirche». В «Оксфордский словарь английского языка» эта немецкая формула попала уже в 1901 году. Обычно она приписывалась Вильгельму II или его жене Августе Виктории. Однако – странное дело – это выражение отсутствовало в немецких словарях крылатых слов вплоть до конца XX века.
Первое известное мне упоминание о нем появилось в заметке «Германская императрица», опубликованной осенью 1894 года в английской печати, а затем перепечатанной в ряде американских газет под заглавием «Патрон трех “К”». Согласно этой заметке, император Вильгельм II будто бы говорил:
– Все немецкие девушки должны последовать примеру императрицы и, как она, посвятить свою жизнь «трем “К”» – Kirche, Kinder и Küche.
Пять лет спустя, 17 августа 1899 года, в английской «Westminster Gazette» появилась заметка «Американские леди и император. Четыре “К” императрицы». Здесь рассказывалось, как Вильгельм II встречался на своей яхте с американками – сторонницами гражданского равноправия женщин. Выслушав их, кайзер сказал:
– Я согласен со своей женой. И знаете, что она говорит? Что не женское дело заниматься чем-либо, кроме четырех «К» (…). Эти четыре «К» – Kinder, Kirche, Küche, Kleider [дети, церковь, кухня, платье].
Согласно немецкой исследовательнице Сильвии Палечек, раннее упоминание о «трех “К”» в германской печати появилось в 1899 году, в сообщении немецкой феминистки Кэт Ширмахер о международном женском конгрессе в Лондоне. При этом Ширмахер ссылалась на английские источники (S. Paletschek, «Kinder – Küche – Kirche», в сб. «Deutsche Erinnerungsorte», 2001, т. 2). Вскоре появились иронические перефразировки этой формулы, например, «Konversation, Kleider, Küche, Kaiser» («разговоры, платье, кухня, кайзер»).
История, рассказанная в «Westminster Gazette» не более чем исторический анекдот, хотя императрица Августа Виктория действительно придерживалась крайне консервативных взглядов на женский вопрос. Вильгельм II разделял эти взгляды; главной задачей женщины он считал «незаметный домашний труд в кругу семьи».
Еще раньше в том же духе высказывались немецкие христианские моралисты:
«Воспитанная в христианском духе жена (…) работает по дому, шьет одежду для мужа и детей, трудится на кухне, чтобы доставлять радость мужу» (Г. Ульхорн, «Христианское милосердие», 1882).
У нас этот идеал назвали бы домостроевским.
Тем не менее краткая формула «Kinder, Küche, Kirche» возникла не в Германии, а, по-видимому, в английской печати. Тем самым патриархальные представления о роли женщины связывались с немецкой национальной ограниченностью, хотя немецкие женщины в конце XIX века были не более патриархальны, чем в других западноевропейских странах.
В 1930-е годы «три “К”» – как на Западе, так и в Советской России, – стали цитироваться как лозунг национал-социализма в женском вопросе. Нацизм действительно ликвидировал независимое женское движение и в женском вопросе официально придерживался патриархально-почвеннической ориентации. Однако лозунг «дети, кухня, церковь» в Третьем рейхе никогда не использовался. Он не мог быть принят хотя бы ввиду не слишком дружественного отношения нацизма к церкви.
Новая жизнь «трех “К”» началась в 1960-е годы, вместе с появлением радикального феминизма на Западе. «Три “К”» стали символом социального угнетения женщины в западном обществе, при этом сам лозунг часто приписывался Гитлеру.
В самой Германии выражение «Kinder, Küche, Kirche» стало общеупотребительным лишь в последние десятилетия XX века. В немецкой печати возникли новые перефразировки старой формулы: «Karriere, Kinder, Kompetenz» («карьера, дети, компетентность»), «Kinder, Kapital, Karriere» («дети, капитал, карьера»).
И наконец, тогда же появились мужские «три “К”»: «Konkurrenz, Karriere, Kollaps» – «конкуренция, карьера, крах».
Для торжества зла достаточно лишь…
Согласно опросу, проведенному в начале этого века редакцией «Оксфордского словаря цитат», в англоязычном мире самой популярной современной цитатой оказалась следующая:
«Для торжества зла достаточно лишь, чтобы хорошие люди ничего не делали».
Так пишет Ралф Кейз в книге «Верификатор цитат» («The Quote Verifier», 2006).
Эта мудрость, как и множество других, разошлась по всему свету с легкой руки Джона Кеннеди. 17 мая 1961 года в Оттаве он обратился к канадским парламентариям со словами:
– Дело, за которое борется свободный мир, крепнет за столом переговоров и в умах людей, потому что это правое дело. Но еще больше его упрочают целенаправленные усилия свободных людей и свободных наций. Как сказал великий парламентарий Эдмунд Бёрк, «для торжества зла достаточно лишь, чтобы хорошие люди ничего не делали».
Эдмунд Бёрк (1729–1797), английский политический публицист и философ, считается одним из отцов современного консерватизма. Цитаты, которую привел Кеннеди, у него нет. Правда, отдаленно похожая мысль встречается в речи Бёрка, произнесенной в Палате общин 23 апреля 1770 года:
– Когда дурные люди сговариваются, хорошие должны объединяться, иначе они погибнут поодиночке.
Гораздо ближе к приведенному Кеннеди изречению высказывание Джона Стюарта Милля (1806–1873), одного из идейных отцов либерализма:
– Чтобы добиться своего, дурным людям нужно лишь, чтобы хорошие люди наблюдали со стороны и ничего не делали. («Об образовании», речь в Университете Сент-Андрус (Шотландия) 1 февраля 1867 г.)
А самый ранний пример цитирования «бёрковского» изречения обнаружил американский исследователь Барри Попик. В начале июля 1920 года британский предприниматель Марри Хизлоп обратился с посланием к Международному конгрегационалистскому совету, IV съезд которого состоялся в Бостоне. В послании речь шла о сухом законе:
Бёрк однажды сказал: «Для торжества зла достаточно лишь, чтобы хорошие люди ничего не делали». Оставьте в покое торговлю спиртным, и она задушит все хорошее, что есть в жизни страны. Оставьте ее в покое – это все, что ей нужно. Для ее торжества достаточно нашей трусости. Для ее сокрушения достаточно нашего мужества.
К высказыванию Бёрка в речи 1770 года очень близки слова Пьера Безухова в эпилоге «Войны и мира»:
– …Вся моя мысль в том, что ежели люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое.
Насколько сам Толстой разделял эту мысль? Слова Пьера предваряются замечанием автора романа: «Это было продолжение его самодовольных рассуждений об его успехе в Петербурге. Ему казалось в эту минуту, что он был призван дать новое направление всему русскому обществу и всему миру». Дистанция между героем и автором очевидна.
Натан Эйдельман в повести «Первый декабрист» писал:
«Толстой (…) верил не столько в объединение хороших людей, сколько во внутреннее, духовное освобождение каждого отдельного человека (в старости, например, смеялся над обществами трезвости: не пить следует в одиночку, а если уж собираться – то лучше выпить…). Поэтому (повторим) неверно считать главнейшей мыслью романа “Война и мир” слова Пьера – “что ежели люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое”.
Тем более что “честные люди” куда хуже умеют объединяться – чем разъединяться…»
Однако Толстой, вероятно, согласился бы с высказыванием Сенеки:
«Постоянному и плодовитому злу должен противостоять медленный и упорный труд: не для того, чтобы уничтожить его, но для того, чтобы оно нас не одолело» («О гневе», II, 10; перевод Т. Бородай).
Добрым словом и револьвером
У нас изречение о добром слове и револьвере появилось в начале «лихих девяностых», когда револьвер стал обычным инструментом бизнеса. В 1992 году публицист Сергей Митрофанов писал:
«А “начальный капитал”, как известно из той же мировой литературы, всегда рождался из преступления. “Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним только добрым словом”, – говаривал американский гангстер Аль Капоне в переходный период становления американского капитализма…» («Какую Россию мы ожидали?», «Столица», 1992, № 31).
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.