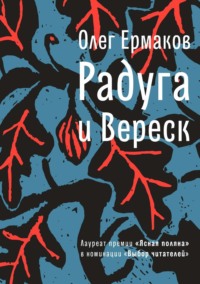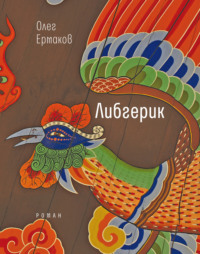Полная версия
С той стороны дерева
Я раздумывал, не оседлать ли Умного вечером? Но погода была все такая же ненастная, того и гляди посыплется дождь; тайга гудела. И мы коротали вечер в нашей кельне, курили, я пытался найти музыку, Валерка все правил свой нож, хотя тот уже и остр был. Дочь Германа мы сегодня так и не видели. И не говорили о ней. Но думали, каждый думал, воображал встречу один на один в тайге, на покосах или у Литоминского зимовья. И вдруг нашего слуха коснулся какой-то посторонний шум. Да, в шуме ветра, шипении и биении волн послышались какие-то прерывистые звуки… Мы быстро переглянулись.
– Моторка?.. – озадаченно проговорил Валерка.
– Не может быть.
Мы вышли на улицу. Оглядели колышущееся, свинцово-взбеленное море, озаренное каким-то странным светом, неизвестно откуда идущим, – и Валерка первый заметил, вытянул руку: «Вон!» Тут и я увидел пляшущую на волне щепку. Она двигалась. Иногда исчезала вовсе. Но снова возникала и неуклонно приближалась к нашему берегу.
Это была моторка. У берега сидевший в ней человек в темном блестящем плаще заглушил мотор и резко дернул его на себя, задирая хвост с винтом, чтобы не поломать его о камни, – волны и инерция гнали лодку на берег; мы поспешили навстречу, человек уже спрыгнул в воду, я схватился за скобу на носу, Валерка тоже, вдвоем мы потащили лодку на песок… Да, мы сами помогли этому человеку причалить к нашему берегу. Он оскалил белые зубы в улыбке, сверкнул синими глазами.
– Спасибо, ребята!.. Как у вас тут дела?
С его плаща стекала вода, на русых волнистых волосах дрожали капли. Он был высок, бодр. Голос звучал чуть надтреснуто. Ясно было, кто это. И Валерке ясно. Мы без особого энтузиазма отвечали, что все хорошо.
Да, лучше некуда.
Глава шестая
В царстве пресвитера Иоанна (о котором грезили средневековые путешественники) было дерево Сиф. Попавших к нему путешественников Иоанн предостерегал обходить дерево «с другой стороны». Но один из них был уже стар и решил обойти именно «с другой стороны». Путники замерли. А он в восхищении позвал их за собой, но те предпочли уйти побыстрее прочь. Они вернулись на родину. А старик там, за деревом Сиф, исчез навсегда.
Что же это значит – с другой стороны? Вдруг выйдешь к дереву Сиф? Как его узнаешь…
А кто такой этот Сиф, думал я, лежа воскресным туманным утром на склоне горы. Рядом смирно дышал Умный, привязанный к тонкому кедру. Это что-то библейское, подозревал я. А где вычитал про Сиф, не помнил. В каком-нибудь альманахе про путешественников. Много их читано. По валуну рядом со мной ползали муравьи, как солдаты по голове поверженного монстра. Голова была покрыта лишайниками. Может быть, Сиф был каким-нибудь великаном…
В небе появился буроватый орлан с белым хвостом, он мощно плыл на своих парусах, зорко рассматривая всё. Увидел нас с Умным, меня в анораке, коня под рыжим седлом, качнул крыльями и взял вправо, к морю, я следил за ним лежа. Орлан уходил в туманную синь. Он легко мог достичь того берега. И я подумал, что и дерево Сиф связано с ним. Не с орланом, а с тем берегом. На том берегу оно, наверное, и растет.
Я встал, взял коня под уздцы, направился вниз, осыпая камешки, на тропе вскочил в седло, поехал. Тропа вилась среди стволов по кромке берега. Заглянуть на ту сторону дерева, повторял я про себя, как будто боялся забыть. Как будто нашел какой-то выход, некую формулу. В ней сходилось всё: и тот берег, и смутные надежды, какие-то сны. Мне казалось, что именно это я искал все время.
Что?..
Когда я подъезжал к кордону, то уже не мог понять, чему так радовался. Какая формула? Заглянуть на ту сторону дерева?.. Хм, что за галиматья. О чем это?
…Осень уже в последних числах августа давала о себе знать, желтила один-два листка на березе, прихватывала хвоинки, заносила серебристой пылью крупные ягоды голубики и сквозила в воздухе, необычайно чистом, прохладном. В небо было больно смотреть. Такой насыщенной бирюзы больше нигде не увидишь. А гольцы на востоке уже бестрепетно белели. Умываться в море с каждым утром было все холодней. Исчезли комары, проклятая мошкара пропала.
И наступило первое сентября. Утро солнечное, зеленое и синее, с огневеющими кустами шиповника на берегу, у полоски песка и камней.
– Мы не проспали торжественную линейку? – спросил Валерка.
Да, впервые за всю сознательную жизнь мы не спешили в школу, перед которой пестреет цветами, бантами и рубашками толпа учеников и родителей., Именно в этот день мы ощутили себя взрослыми и свободными. Ну, почти свободными. Все-таки настоящая свобода мерещилась где-то… не здесь…
В честь этого дня Валерка принял стахановское соцобязательство: испечь сто блинов. И вечером я раскочегарил печь, Валерка засучил рукава, заболтал муку, и на раскаленную черную сковородку упала первая порция теста, запузырилась, затрещала. Конечно, вскоре пришел Толик Д. Пришел бы и Толик И., но он уехал в Иркутск за аккордеоном. С этим же рейсом теплохода отбыла и дочка Германа, никому из нас не удалось даже поздороваться с ней. Мы еще видели ее издалека несколько раз, слышали, как она смеялась с братом и о чем-то говорила с охотоведом, приплывавшим сюда через день. И позже, читая восточных авторов, истории любви батрака и хозяйской дочки, я хорошо представлял все трудности этой любви. Дочка хозяина кордона была для нас абсолютно недоступна. И нам оставалось только смириться.
Смирились мы и с тем, что в этом году не попадем на тот берег. Сапоги с высокими голенищами мы купили, но о покупке ружья не могло быть и речи, дорого. Да и не находился продавец. Нужно было почаще бывать на центральной усадьбе. Лучше всего там готовиться к броску через море.
И поэтому мы обрадовались даже, когда узнали о переводе в поселок. Хотя это было приближение к ненавистной цивилизации. Но можно было и отступить по-кутузовски, чтобы потом верней взять лавровый венок победы.
Перед отправкой в поселок мы еще успели осуществить одну авантюру, давно замышляемую. В субботу вечером ушли на Литоминское зимовье, испросив разрешение у Германа, с топорами и двуручной пилой, а также несколькими ржавыми скобами, найденными в ящике с железным хламом. Утром натаскали сухих бревен и сколотили плот. Сплавляться решили в следующее воскресенье. Но не утерпели, надо же было проверить, как плот держится на воде; спихнули его в речку, сами заскочили. Сооружение наше оказалось вполне плавучим. Не «Кон-Тики», не «Семь сестричек», но все-таки. Мы проплыли метров тридцать и подумали, что пора зачалиться. Не тут-то было. Течение влекло нас дальше. Я спрыгнул в воду, Валерка тоже, здесь была отмель. Мы попытались удержать плот, но его мощно тащило дальше, он был слишком тяжел, а течение – быстро. И я снова вспрыгнул на бревна. Валерка побежал берегом. Я работал шестом, но уже понял, что плот неуправляем.
– Стой! – заорал Валерка, ломясь, как лось, сквозь заросли и треща валежником.
Как будто это было возможно, остановиться. Я увидел приближающийся пень, он нависал над потоком, и, бросив шест, схватился за него, силясь изо всех сил задержать плот, но его развернуло и – выдернуло из-под моих ног, как помост из-под ног флибустьера, приговоренного королевским судом к повешению, и я ухнулся в ледяную воду по плечи, задохнулся от холода. Выбираясь на берег, успел увидеть убегающего Валерку и уплывающий плот. Больше я его не видел. Плот. Так и оставшийся безымянным. А Валерка пришел, чертыхаясь и потирая ушибы. И мы побрели через завалы назад, к зимовью. Ничего, рассуждал Валерка с ожесточением, сделаем другой плот, более легкий, а значит, управляемый!.. Я стучал зубами и соглашался.
Но во вторник мы погрузили свои батрацкие шмотки в лодку, и Герман повез нас на центральную усадьбу. Я уже издали смотрел на берег, кельню, костерки голубики, камни, песок и думал: все, абзац, завершилось.
И осенние лиственницы над песком в синеве золотились прощальным росчерком.
Глава седьмая
«Я это или не я? Я… или не… я?.. – вопрошал тот, кто взбирался по грубо сколоченной, шаткой, скрипучей лестнице между толстых бревен, сбитых скобами и образующих некую лесную кедровую башню. – Я… или…»
И мне до сих пор не верится, что это был я.
Гора и пожарная вышка на ней часто становились объектами съемки, а еще чаще – виды, открывающиеся сверху. И тот, кто карабкался по многосоставной, довольно длинной и опасной лестнице, уже краем глаза захватывал странно знакомые пейзажи. И, видимо, это действовало на него оглушающе. Ну, всем известен психологический эффект дважды виденного.
Говорят, с некоторыми путешественниками случаются обмороки в Риме, когда они созерцают фрески Микеланджело, Боттичелли и Леонардо да Винчи, о которых столько слышали, читали и которые не раз видели на фотографиях. Наверное, тот же эффект. Конечно, фотографии Байкала из альбомов, неплохо изданных в ГДР, фотографии каких-то неизвестных мастеров… ну, в общем, что говорить, понятно. Никто и не сравнивает. А вот оригиналы – оригиналы я сравнил бы… если бы побывал в Риме. Мне кажется, что гора с лесопожарной вышкой, вознесшаяся над морем, тайгой, и фрески, которыми расписано всё внутри этого невиданного собора, несравненно величественнее собора Святого Петра, Сикстинской капеллы и всех творений художников Рима прошлого, настоящего и будущего. Им никогда не напитать свои полотна и фрески такой голубизной, зеленью, не тронуть вершины тайги, сбегающей к морю и сверху напоминающей курчавые поляны, такой мягкой, воздушной желтизной и не убрать каменные торсы столь ослепительно-белыми одеждами.
И я стоял на почерневших неровных досках под корявой двускатной крышей, смотрел хищно, охмеленно на тайгу, небольшой залив, и на все море, синее, пустынное, и на близкие гольцы, в упор освещенные вечерним солнцем, различая глубокие черные трещины, осыпи, складки, серые лбы. Смотрел и как будто отсутствовал. Весь превратился в зрение.
Тайга в лучах солнца выглядела почти летней. Снегом были выбелены только гольцы. А здесь, внизу, цокали белки в вечнозеленых кронах и пересвистывались птицы.
…Порывы ветра заставили меня покинуть этот пост созерцания и спуститься с вышки, с вершины – в бревенчатый темный домик, зимовье.
Быстро вечерело.
Я набрал охапку дров в поленнице, прикрытой корьем, внес их в зимовье, нащепал лучины, сложил ее в железной печке, поджег. Скоро огонь гудел в трубе, шипел закопченный чайник. С собой я почти ничего не взял, только немного заварки, сахар и ком теста. Тесто замешал Валерка для воскресных лепешек – и уделил часть мне. На вышку он почему-то не захотел идти, может быть, в клубе показывали новый фильм. Да, в поселке культурная жизнь кипела, привозили кино с каждым рейсом «кукурузника»; а если нового фильма не было, стулья сдвигались в сторону и на середину вытаскивался теннисный стол; в этом же доме, за стенкой, находилась библиотека, по-моему, весьма неплохая: там были фолианты всемирной истории, хорошо иллюстрированные, много поэтических сборников, собрания сочинений Лондона, Пришвина, Льва Толстого и кипы журналов «Природа», «Наука и жизнь», «Вокруг света». Я взял там Еврипида. Почему Еврипида, не знаю, рука как-то сама потянула за корешок. Но на вышку его не потащил, конечно. Пришел налегке. Даже не прихватил спальник. А это уже из стратегических соображений. Мне не хотелось привлекать внимание. Сразу возникли бы вопросы, куда и зачем. Режим заповедной территории здесь соблюдался строже, чем на кордоне, по пустякам в тайгу не ходили. В общем, я вышел будто бы на небольшую прогулку – и по береговой тропе дошагал до горы, преодолел довольно крутой подъем, и вот я здесь. Завариваю чай прямо в чайнике. Лепешки выпекаю без масла и сковороды, на раскаленном железе печки. И лесная хижина наполняется ароматом. Тепло и уютно. Перед оконцем сижу с кружкой, прихлебываю, отламываю куски от горячей лепешки, грызу сахар. В тайге уже сумеречно, хотя на гольцах еще тлеет солнечный свет, я этого не вижу, но знаю, что так и бывает здесь. Перед оконцем стволы пихт, кроны, уходящие сразу вниз, и никакого обзора – напротив гребень, еще одно возвышение этой же горы. В зимовье становится еще темнее. Только щели и дырки печки пропускают немного красного света. Зажигаю керосиновую лампу. Зачем-то. Читать нечего.
Может, это символический жест. Зажечь лампу, чтобы она всегда там мерцала, в этом углу амбара, во все мои ночи на Востоке, на Западе, при разговорах, чтении книг – «Моби Дика», например, этой истории, полыхающей китовым жиром, как маяк, путеводный знак для странников, – даже во сне. Иногда сквозь морок сна я его вижу, огонек на горе лесопожарной вышки. Вспыхивает он и на страницах самого лучшего лесопожарного сторожа всех эпох: на страницах книг Джека Керуака. «Бродяги Дхармы» стали моей любимой книгой, так часто я перечитываю лишь стихи: «Как-то в полдень, в конце сентября 1955 года, вскочив на товарняк в Лос-Анджелесе, я забрался в “гондолу” – открытый полувагон – и лег, подложив под голову рюкзак и закинув ногу на ногу, созерцать облака, а поезд катился на север, в сторону Санта-Барбары». В общем, там нет никакого сюжета, одно биение ритма, пульс красок и вкус цвета: некие бездельники рассуждают обо всем на свете, слушают музыку, читают стихи, попивают винцо, а потом совершают восхождение на гору. Эта гора – через океан. Там тоже лесопожарный пост, бревенчатое жилище называется по-другому: дом, хибара, – но это такое же зимовье с железной печкой, земляным полом, нарами, оконцем. Впрочем, у лежака на пике Заброшенности, где работал Керуак, был только каркас деревянный, а вместо досок – веревочный матрас. Американцы любят комфорт, а? Но его гора раза в два выше, 5000 футов, то есть почти двухтысячник, ну, если точно 1800 метров. А пики Баргузинского хребта – 2100, 2300, правда, есть и вершины более 2800. Но я-то сидел не там, в гольцах белых, а на горе у моря. На сколько она возвышалась? Ну, метров на шестьсот. Одной тысячи двухсот метров не хватает до пика Заброшенности, где покуривал у окна Джек Керуак, сочинял свои хокку:
Что есть радуга, Господи?ОбручДля бедных.Мне слабо было вот так напрямую обратиться к вышним силам, к тому, что вызывает у загнанного или восхищенного животного поток священных слов. То есть знать-то знал, но для меня это ничего не значило. Много знаний. А лишь крупицы становятся живыми глазами. Керуак был на своем пике как Аргус. Ну а я довольствовался тем, что имел, – парой глаз.
Зимовье было натоплено, на голые доски я постелил пихтовых веток, загасил лампу, укрылся курткой, меня окружала теплая тьма. А проснулся среди ночи – и было светло. Да, светло как-то странно. Глянул в оконце: на земле и ветках бледнели пятна. Открыл низкую дверь, вышел на улицу. Всюду лежал снег. Небо было затянуто тучами. И вся гора укрыта плотной тишиной. Я стоял и дышал тихо. И если бы в мире что-то происходило, то непременно услышал бы. Но в эти мгновения Парки перестали сучить нити, и даже сны замерли. Хотя земля продолжала двигать крутыми бедрами, пронося море и горные пики во мгле, гору с лесопожарной вышкой и пихтами, запорошенными первым снегом, темное зимовье, но происходило это в полной тишине. Такой я уже больше никогда не услышу.
Зимовье выстыло, пришлось затапливать печку. И воздух быстро согрелся. Я растянулся на пихтовых ветках, выкурил сигарету и заснул.
Утро было серое, холодное, густо темнела зелень, снег еще не таял. Напившись горячего чая, я снова полез на вышку, посмотрел сверху на море, оно казалось свинцовым, глянул на поселок вдали: и там уже лежал снег. А я думал, что снег здесь выпадает по ярусам: сперва гольцы, альпийские луга с озерами, где до холодов гнездятся лебеди и журавли, потом горы вроде моей, а уже в последнюю очередь – на побережье.
Я быстро спустился с вышки, растирая озябшие руки, еще раз заглянул в зимовье, выбросил пихтовые ветки и бодро пошел вниз, вниз по вьющейся среди стволов и корней тропе. В тайге оживали белки, цокали, пересвистывались птицы, но очень настороженно. Да, надвигалась зима. Хотя еще была середина сентября, 16-е, для меня это число с тех пор магическое. Это был один из лучших дней моей жизни. День полноты, равновесия и приобщения к тайному братству лесопожарных сторожей на горе Бедного Света.
Глава восьмая
Центральная усадьба заповедника после кордона казалась нам людной столицей. Здесь было две улицы, одна шла параллельно берегу, а другая перпендикулярно. В добротных домах, которые нам, жителям средней полосы, казались какими-то кулацкими, обитали лесники, трактористы, рабочие, ученые с семьями. Странными выглядели дворы: пустые, ну, может, кое-где и зеленел кедр, и всё. Здесь не было садов. На огородах выращивали неизвестно что, петрушку. Хотя кое-кто в теплицах и возился с помидорами, огурцами; теплицы приходилось отапливать. Первый снег здесь лег в сентябре, а последний мог выпасть в мае и даже в начале июня. Лето было холодное. Картошку, капусту, яблоки завозили по осени с Большой земли. Мы как раз попали на разгрузку катера с овощами.
Штормило, и катер у пирса, – коробки, сбитой из лиственниц и засыпанной камнями, – подбрасывало и било тракторными покрышками на борту о бревна, трап скрипел под нашими ногами. Мы выносили из трюма мешки, штанины и рукава на нас обледенели. Трюм небольшого катера казался бездонным. Наши лица покраснели от натуги и холода. Продавщица Алина расплатилась с нами натурой: мешком картошки на всех, палкой китовой колбасы и несколькими бутылками вина и водки. Нас было четверо работников: мы с Валеркой и еще двое бичей, Роман и Павел. Мы жили ближе к магазину, в доме-общаге, и решили пойти к нам. До нас здесь жил Дима из Грозного со своей якутской красавицей, сейчас они переселились в другую половину, там было лучше. Еще в этом доме обитали метеорологи, две женщины.
Мы начистили картошки, промыли ее и сварили, порезали колбасу, хлеб – тут был хлеб, его выпекали в пекарне, – и приступили к трапезе. Мы с Валеркой пили «Кубань», хорошее вино, Роман с Павлом водку. Чернявый сероглазый Роман был старый бич, по опыту, не по годам, лет ему было двадцать пять. Он путешествовал по великой стране, перебираясь из заповедника в заповедник, бывал на Урале, на Алтае, на Кавказе. Всюду ему что-то не нравилось: климат, порядки, начальники. Он хотел бы жить на кордоне. Но один, без старшего лесника и помощников. И чтобы кордон не был турбазой для толстозадых туристов из прокуратуры, из райкома, Главохоты, как здешние кордоны. Ириада Германа – повариха, официантка, банщица в одном лице. Сейчас построят гостиницу, и отбоя не будет от всякой пионерии пузатой, мордастой. Роман думал вообще бросить лесниковское дело и податься в профессиональные охотники, добытчики. Над таежником нет хозяина. «Кроме – хозяина», – с улыбкой заметил Павел.
Павел был тише, спокойнее, нос картошкой, длинные волосы, масленые глаза, толстые губы. Он приехал из Минска. «Так… Надоело одно и то же. Решил посмотреть…» В Минске, а точнее, где-то под Минском, он работал на звероферме, там разводили чернобурку, песцов. А тут, он слышал, разводят соболя. Ну и поехал. Только не успел, питомник соболиный в заповеднике ликвидировали. Это Павла опечалило. Он чувствовал себя обманутым. И собирался уезжать назад. Или дальше – на север, где настоящих песцов разводят. Мы так и не поняли, на север он двинет или назад, на запад, в Минск. У него была привычка бубнить себе под нос, думая, что все понимают и слышат. «Бульбнила», – посмеивался над ним Роман.
– А зимой вы здесь взвоете, – со злым азартом предупредил Роман, уходя. – Это не дом, бичарня. Провал.
Мы не поверили. Выглядел дом добротно, крепкие бревна, хорошо подогнанные полы, огромная печь. Разве сравнишь с кельней? Большие окна. И в одно видно море и далекий хребет Святого Носа.
По вечерам Валерка уходил в клуб резаться в теннис, я тоже иногда играл, но чаще предпочитал остаться дома, послушать «Альпинист-305», заварить покрепче чайку, придвинуть пустую консервную банку, закурить и раскрыть книгу.
О, для чего крылатую ладьюЛазурные, сшибаяся, утесыВ Колхиду пропускали, ель зачемТа падала на Пелий, что вельможам,Их веслами вооружив, далаВ высокий Иолк в злаченых завиткахРуно царю Фессалии доставить? —зачем-то читал я…
Впрочем, плавание аргонавтов здесь легко было представить. И утренняя синь небес, бирюза Байкала оборачивались живыми красками Средиземноморья. А гольцы над тайгой высились Парфеноном. И ладьи лежали на песчаном берегу, черно-смоленые, с острыми носами. Вообще чтение грека придавало этой жизни некоторую глубину. И так всегда, во всех уголках амбара, пространство его объемно благодаря древним песням. А местные песни здесь были не слышны.
Вместе с Романом и Павлом мы составили команду бичей, нас так и называли. И наша команда занималась заготовкой дров на долгую сибирскую зиму для всего поселка. Нам с Валеркой, недорослям, не могли доверить бензопил, и мы были на подхвате у Романа и Павла; те пилили толстенные бревна, а мы стояли рядом с ломами и железными трубами, приподнимали бревно, чтобы полотно с цепью не зажимало; ну, когда рядом никого не было, давали и нам попилить, погазовать. Простая работа, но к вечеру спины не разогнешь. А еще надо готовить ужин, если твоя очередь. Питались мы опять рожками да китовыми ножками. На рыбную речку далековато было ходить. Валерка заигрывал с продавщицей Алиной, не очень-то симпатичной, но молодой, яркогубой, черноглазой и незамужней. И она давала Валерке из-под полы вино «Кубань», тогда как на полках его не было, все быстро разметали, оставалась одна краска, портвейн «Рубин» и бурятский спирт. Но Валерка добивался не этого. Не «Кубани» и сгущенки, не яблок и не свежей селедки. Алина все понимала, ей-то было уже двадцать семь, но не спешила отвечать на заигрывания кудрявого юноши. Валерке, как и мне, не исполнилось еще восемнадцати, и хотя угол здесь был медвежий, да и ближайший милиционер – за двести верст, а законов советских никто не отменял. И соглядатайство, сплетни здесь были в ходу, в соку, в собственном соку. В этом поселок мог дать фору любой другой деревне. Ведь мирок его был замкнут. Что-то вроде большой полярной станции. Вот где бурлило народное творчество, вот где созидался эпос. Валерка кое-что пересказывал, вернувшись из магазина – куда он так часто ходил не за покупками, ясно, надеюсь. Да, вздыхали мы, цивилизация…
Пекарня, свет до одиннадцати, аэродром, почта, контора. Даже музей. В нем замерли глухари, соболи, медведица со стеклянными глазами. Бутафория! Вот на кордоне живой медведь порвал бок корове и утащил теленка. Переселение сюда все-таки было отступлением. Мы жалели теперь, что сразу не воспротивились. Вдруг нас оставили бы на кордоне? Особенно раздражала обязанность каждое утро являться в контору, толпиться там со всеми, здороваться с бухгалтершами, лесничими, завхозом, замами, ждать директора. Ясно было, что и сегодня мы возьмем трубы и ломы, бензопилы и пойдем на дровяной склад. Нет, надо было получить распоряжение: «Берите трубы и ломы, бензопилы, идите на дровяной склад». Лесники занимались какими-то другими делами, чистили тропы, готовили зимовья к зиме; впрочем, это все они уже сделали летом, а теперь неизвестно чем занимались, скорее всего, к предстоящему сезону готовились, каждый из них имел охотничий участок в буферной зоне заповедника, свое зимовье, свои тропы, свои горы, свой лес. Вот кому мы завидовали зеленой завистью – лесникам. И не могли дождаться, когда же и нас примут на эту службу. Кстати, не так давно лесниковская работа приравнивалась именно к службе, и лесников не забирали в армию. Лесникам полагалась экипировка: форменные плащ, шерстяной костюм, сапоги, зимнее пальто, ботинки, фуражка и зимняя шапка. Некоторые лесники приходили в пиджаках поверх свитеров, с дубовыми золотыми листьями на рукавах и в петлицах. А дубами-то в Подлеморье и не пахло. Уроженцы этих мест и не знают, как дубы выглядят.
Легкая тоска иногда проскальзывала, когда мы вспоминали Днепр, наш лес, да и город. Хотя мы продолжали считать себя окончательными и непримиримыми партизанами, и «назад дороги нет, товарищ!».
Коренных жителей в заповеднике было совсем мало. И одна только бурятка – а это место называлось Бурятской АССР – работала в библиотеке, симпатичная молодая женщина, но уже многодетная. Над ее столом висела фотография, где она запечатлена под руку с космонавтом Гречко на берегу перед пирсом. Остальные жители и дети толпятся чуть поодаль.
Здесь мы слышали всякие рассказы об иных краях. Рассказывали об Алтае, о Телецком озере, таком же чистом и живописном, как Байкал; о тенистых лесах Кавказа; об уральском озере Зюраткуль; о Туве; о Забайкалье, речке Чаре. Особенно меня заинтересовала эта речка… Ясно, чем в первую очередь, – названием. Хотя название, скорее всего, эвенкийское, что оно означает, не знаю, но звучит заманчиво. По наледям этой реки бродят олени. Там живут в основном оленеводы.
И мне рисовалась жизнь на Чаре: сидит патриарх на нартах, смолит трубку, вокруг ни души, только олени.