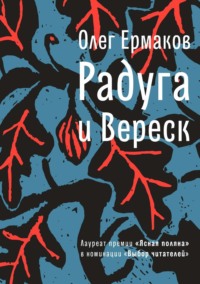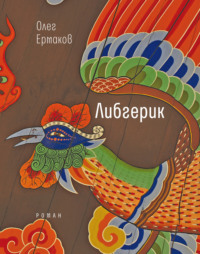Полная версия
С той стороны дерева
– А ту медведицу…
– А как же! Попробовала человечинки – не остановится. Это как бенгальские людоеды, – вдруг перескочил Толик Д., – в «Вокруг света» писали. Ну, там аут полный: по десять человек сжирали деревенских. Прямо в деревню ходили, как в магазин за хлебом.
– Кто? – не понял Валерка.
– Бенгальские тигры, – ответил Толик Д.
И тут за оконцем нашей кельни, освещенной керосиновой лампой, сверкнуло бенгальским белым огнем. Мы все онемели на мгновение, но уже поняли: над шумящим морем покатился гром. Только что море тихо плескалось и вот разом зашумело. Заскрипели лиственницы, что-то захлопало на крыше, как будто птица-мутант опустилась. И снова резанули саблезубые огни тьму. Приближалась гроза. Но дождя еще не было. Он начался минут через двадцать, Толик Д. еще успел рассказать одну историю про медведей.
Наши гости ушли до дождя. Ушли, и ударил дождь. Замолотил по крыше, в оконце. Молнии заплясали над кордоном.
– Я на месте Германа Толиков здесь не оставлял бы, когда полевые работы в тайге или в поселок надо, – сказал я.
– Отдавал бы жену на съедение?
– С медведем она и сама справится.
– Ну и с Толиками тем более, – сказал Валерка.
Мы полежали молча. Я начал задремывать. Уже была глубокая ночь.
– Я об этом тоже подумал, – признался Валерка.
Море набрасывалось на берег, доски под нашими головами сотрясались. У меня уже не было сил отвечать. Сколько можно рассказов, дыма, чая…
Глава пятая
Главохота дала добро на отстрел зарвавшегося медведя, и на следующий день на кордон приплыли охотовед, лесничий (тот, патлатый) и еще два мужика, с ружьями. Вечером они уже знали, где припрятана добыча медведя. Теперь оставалось ждать. И они устроили засаду. Ну а мы снова потащились на покосы. Как арестанты: Герман нес на плече карабин. Валерка с завистью на него поглядывал. Хотя еще больше он завидовал тем, сидевшим в засаде. Он просился с ними, но его не взяли. И вот – снова в руках осточертевшая литовка, а не винтовка. «Какой-то рабский труд», – ворчал Валерка, размазывая мошкару с потом по щеке. Да, молчаливо соглашался я и думал о Гренландии, прохладной, чистой, древней, без коров и лошадей. Где-то там пролегала дорога в никуда. Все-таки собираясь сюда, мы надеялись… На что мы надеялись? На какую-то другую жизнь. Вольную, дикую, полную приключений. А нам, кроме литовок, ничего здесь не доверяют. Даже в питье ущемляют.
Мы ворошили подсохшее сено, складывали его в копны, докашивали последнюю поляну и прислушивались. Но в августовском теплом воздухе только птицы пели и цокали бурундуки. Однажды мы услышали крики журавлей. Толик И. сказал, что это на Верхних озерах. «Там зимовье стоит, прямо из окна можно смотреть. Уже рядом гольцы. Высота. Зеленые склоны, осыпи».
И мы думали, что никогда туда не доберемся. Так и будем рабсилой, рабочими лесного отдела, то есть – всегда на подхвате. А настоящую жизнь ведут охотники. Мы слышали рассказы о приморских горах, где нет никаких заповедников и ничего вообще нет, кроме тайги, гор и зверья. Там рай для охотников. Удивительно, но когда об этом говорил сам Герман Васильевич, по его крупному загорелому лицу блуждала не обычная усмешка, а какая-то затаенная улыбка. «Там только соль нужна, ну еще куль муки, а главное – порох, свинец». А ведь он был тертый калач и всем тут распоряжался. Но что-то и его не устраивало, что-то и его манило – дальше. И, возвращаясь на кордон, мы с тоской смотрели на таинственные кручи противоположного западного берега, то растворяющегося в синеве, то вдруг проступающего с невероятной отчетливостью всеми своими складками. И уже раздумывали, как бы нам туда попасть. На тот берег… Ученые мужи говорят о вечных сюжетах, встроенных в наше сознание. И, кажется, мы нашли один из таких сюжетов – миф о том береге. Мы его прямо увидели на кордоне, увидели его отсветы на лицах лесников и сами попали в его силовое поле.
Утром, днем, вечером и ночью я созерцал тот берег. Выходил отлить и видел темные глыбы под звездами. Чистил зубы и, сплевывая, замечал белое облачко, висящее ниже синих вершин того берега. Вечером следил, как хребты меняют цвет в сиянии заходящего солнца: от розового, кипрейного до сиреневого, фиолетового. И вот какую особенность обнаружил: тот берег иногда мне казался не западным, а восточным. Если еще было рано, то солнце я ожидал увидеть восходящим из-за моря. И когда оно вставало все-таки позади кордона, из-за тайги и крутых высоких гор Баргузинского хребта, небо моего сознания кружилось, как сфера планетария. Так было, когда мы с Германом Васильевичем вытаскивали сети. Мне казалось, что утреннее солнце тонет в облаках над Приморским хребтом, а оно вдруг пробилось в небе напротив, над Баргузинским хребтом. И лучи его были в несколько раз короче вечерних, льющихся из-за моря. Баргузинские горы выше приморских, они стоят неровной стеной на востоке, укорачивая лучи. Восточное солнце было меньше и беднее западного, что противоречит еще одной извечной скрижали – мифу о сильном, восстающем из смертной мглы солнце. И эта скрижаль постоянно скрещивалась в моем сознании с мечом действительности. Сыпались искры. Мне иногда мерещилось, что я останавливаю солнце, встающее на востоке, и перекатываю его по куполу небес на запад.
Но факт остается фактом: тот берег был западным, а не восточным.
А казался – восточным.
Голова кругом…
Медведя застрелили на вторую ночь; мы ничего так и не услышали, и не видели ни его туши, ни шкуры; с ним управились сами охотники, с помощью, конечно, коняги Умного. Днем медведя вывозили, грузили на лодку, а мы в это время навивали первый стог. С косьбой было кончено, как с медведем. Но еще надо было все сено просушить и убрать. И мы убирались, орудовали граблями и вилами.
В один из дней пошел дождь. Потом еще два или три раза случался ливень с грозой. Но все-таки пересушило нам солнце, встающее, как и положено, на востоке, травы, и на скошенных полянах выстроились высокие папахи стогов. Баста.
На кордоне нас ждала протопленная Ириадой баня. Ее не так давно выстроили на самом берегу, и внутри все бревна сверкали красноватой смолой. Смолистый горячий дух был так густ, что горчил на губах и хмелил. «Ну-ка, чё-о, паря? Поддай!» – приказывал Герман с багровым лицом. И Толик Д. плескал на раскаленные камни. Волна обжигающего воздуха накидывалась на нас огненным ангелом или демоном, мы отворачивались, прикрывали глаза. А Герман хлестал себя по крутым волосатым плечам веником, рычал от удовольствия. Мы отстранялись от его веника, гнавшего самый огонь, как крылья какого-то солярного махаона. Толик Д. тоже бил себя веником. А мы трое остерегались. И так пронимало до костей и перехватывало дыхание, соленые ручьи бежали по нашим спинам, животам, щипали глаза, разъеденные гнусом места, саднили. «А теперь – в море!» – скомандовал Герман, и мы один за другим вышли из бани. По камням к воде вели мостки. И Толик Д. первым сорвался и побежал, с воплем плюхнулся в волны. Байкал слегка волновался, был синевато-серым, угрюмым. За Толиком последовали остальные. Волна окатила напитанное жаром тело резкой прохладой, я мгновенно запьянел. И на берег, поддаваемый волной, еле выбрался, так меня качал этот хмель. И уже такого вина я никогда больше не попробую. Подобный перепад температур можно выдержать только в семнадцать лет. Или надо полжизни тренироваться, как Герман. Ну и много еще чего надо…
После бани мы с Валеркой пили брусничную, остальные – белую. Это была последняя совместная трапеза. Больше мы никогда не пробовали Ириадиных булок. Сидели на галетах до самого отплытия. Правда, уже рыба была у нас всегда. Увидев, как легко ловить хариуса в Куркавке, мы по вечерам брали авоську и шли по тропе через кедровник на речку, как в магазин. Однажды наловили столько, что не смогли сразу осилить и решили оставшуюся рыбу засолить; все сделали как надо, три дня выдерживали в растворе под камнем, потом на берегу развесили между двумя кольями и сверху прикрыли даже марлей, одолженной нам Ириадой, от мух. Ждали, когда высохнет, не терпелось попробовать таранки, завяленной на ветру и солнце Байкала. Ждали, ходили вокруг да около… и почувствовали: как-то попахивает. Заглянули под марлю – а в глазах рыбы шевелятся черви… Как будто кадр из сна. Видимо, пожалели соли, хотя соль была. Всю рыбу мы закопали и решили еще раз попытаться. Смекнули, что рыба нам впрок нужна. Мы собирались на тот берег. А Герман Васильевич брался перевезти нас на моторке через море. Мы должны были только оплатить бензин туда и обратно. Но ружьецо он нам отказался продать. Поискать на центральной усадьбе посоветовал. Охотничьих билетов у нас не было. Еще нам необходимы были бродни. Телогрейки можно было взять и старые, в мастерской. Спальники у нас были. На том берегу мы думали построить хижину. Но путались в расчетах. Денег, денег не хватало! Катастрофически. А значит, и времени. Говорили, что осенью начнутся туманы и шторма. Некоторые призывники из-за этого в армию не попадали. Не только по морю, но и по воздуху никуда не доберешься, вертолеты и самолеты прекращали свои рейсы. Мы не знали, как успеть собрать все необходимое до осенних штормов. И тем не менее готовились. Такова ослепляющая сила этого извечного сюжета. Тот берег. На тот берег. На том берегу. Звучали в сознании тамтамы. И не заметили, как впали в этот транс.
Вторую партию рыбы мы щедро засыпали солью. Ни одна муха не посмела приблизиться к ней. Правда, и есть ее было невозможно: все во рту горело и саднило, чистая соль, ни вкуса, ни запаха рыбьего.
– Ничего, с голодухи пойдет, – решил Валерка.
И мы припрятали рыбу. Но это так, на всякий случай. Мы-то знали, что будем кататься сырами в масле на том берегу, вялить мясо изюбра, есть оленьи языки, варить суп из глухарей и рябчиков, собирать всяку-разну ягоду (тоже одна из языковых особенностей Подлеморья – сглатывание окончаний). Конечно, кто-то мог нас спросить: а почему бы вам ее здесь уже не собирать, ягоду? Черники было полно в двух шагах от кордона. Ну, мы ее ели при случае, идя за хариусом на Куркавку. А собирать… да, не до этого пока. Есть дела поважнее. Изучать тайгу, ковать ножи…
Валерка привез с собой из Смоленска кусок рессоры, один знакомый дал ему, сказав, что из такого металла получаются самые лучшие ножи на свете, – что тебе дамасский клинок. Тащить кусок рессоры за тридевять земель, чтоб его выбросить там? Я не понимал Валерку. А он был упорен. И вот решил: пора. Раскочегарил печку, надел телогрейку, рваные зимние рукавицы, примотал к ручкам плоскогубцев две палки и сунул в самое пеклище рессору. И когда она раскалилась докрасна, а потом добела, вынул ее плоскогубцами на палках-ручках, донес до наковальни и крикнул: «Бей!» Я обрушил на огневеющее железо кувалду. Еще несколько раз ударил и увидел, что металл-то размягчился, начал плющиться…
Ну и что? Я все-таки не верил в эту затею. Ладно, расплющить можно, что угодно, ломать не строить. Но Валерка не унывал. Мы поменялись ролями. Теперь я вынимал металл из печки, а Валерка бил. Палки тлели и вспыхнули, пришлось искать железные держатели, одну трубку и железный прут. На стук заглянул сначала один Толик, потом и второй. Они тоже вынесли нам вотум недоверия, посмеивались, как Герман. А Валерка гнул свою линию, припечатывал жаркую пластину кувалдой. Когда она достаточно утончилась, Толик Д. посоветовал взять молоток. И в конце концов сам взял его.
– Дай-ка мне…
И начал стучать. В мастерской стояла жарища. На искры, летевшие из трубы, обратил внимание старший лесник, прислал сына узнать, что тут у нас за паровозные дела. Потом пришел сам, подсмеиваясь. Посмотрел и удивленно протянул:
– А чё, вытягиватца ножик-то.
Да, на наших глазах безобразный кус металла приобретал форму. Зрелище, достойное кисти настоящего художника, певца каких-то новых рун.
Валерка выковал нож. Обточил его, убрал лишнее, навел лоск. И, глядя на это блестящее хищное полотно, нельзя было поверить, что вышло оно из обычной печки, вот как лук или корова кузнеца Ильмаринена. Приблизив его к лицу, можно было увидеть отражение своих глаз. Рукоять Валерка вырезал из березы, временную. Позже нож должна была украсить рукоять из рога. Ну, маральего или лосиного, кого мы первого добудем – там, на синих горах того берега. Валерка выглядел пафосно. Да любой бы на его месте так выглядел. И с ножом он уже не расставался, сшил из голенища от кирзового сапога ножны и носил нож на поясе.
Старший лесник разрешил нам по вечерам ездить на Умном, показал, как его седлать, взнуздывать. Валерка разок прокатился и охладел. Еще бы, первый выезд едва не превратил его в инвалида. Умный на выходе из загона взял слишком близко к правому столбу, и поперечная жердина, довольно толстая, концом уперлась в стопу. Валерка натянул поводья, крикнул, но Умный вместо того, чтобы остановиться, рванул вперед, нога в стремени загнулась назад, до упора, на длину стремени, жердина тоже выгнулась чудовищным луком, и в следующее мгновение либо стопа должна была отлететь, либо Умный остановиться. Не произошло ни того ни другого: жердь с оглушительным треском лопнула, Умный понесся дальше неуправляемый, Валерка упал ему на шею, вцепился в гриву, зажмурившись от дикой боли. Потом ему удалось осадить коня и сползти на землю, разуться и узреть лиловый кровоподтек. «Скотина!» – орал Валерка и размахивал кулаком. Умный лишь косился. В рыбацком колхозе он и не такого наслушался.
Дня три Валерка хромал после этого, а мы с Умным поладили, и по вечерам я выезжал в тайгу. Самой дальней точкой моих выездов было Литоминское зимовье. Там я впервые и увидел, что же это такое, зимовье. Ну, небольшой простой домик из ошкуренных бревен, с потолком из плах, крытый корьем; никаких сеней, внутри вдоль двух стен нары, одно оконце, стол перед ним, полки, в углу железная печка, обложенная камнем, всё.
Я привязывал Умного к березе, растапливал печку, спускался к быстрой шумящей широкой реке, набирал воды, ставил котелок на огонь, садился у окна, глядел на речку, камни, кедры и светлоствольные пихты; заваривал чай, пил с сахаром и галетами, закуривал… о чем-то мечтал. Одиночество юности какое-то скудное, в нем тоска, почти скука. Маета. Томление неизвестно о чем. Вопросы: да зачем мы сюда забрались? что мы здесь делаем?..
Повесив кружку на гвоздь, убрав сахар, заварку в мешочек, смахнув крошки со стола, я выходил, отвязывал Умного, садился в седло и пускал его вскачь, прочь от тщеты одиночества, от неуверенности, и, завидев крыши кордона, шеренгу лиственниц, море, расстилающееся за ними, нашу кельню, облегченно вздыхал.
Но на следующий день снова седлал Умного. Время казалось замершим. Эпицентр его был где-то не здесь, в другом месте. Сидя на склоне горы, я всматривался в синеву над морем, следил за парящим полетом орланов-белохвостов.
И тем не менее время текло там, на кордоне, под лиственницами Подлеморья.
Мы помогали строить дом, нам уже доверили остругивать полы, и мы ползали на коленках с рубанками, с головы до ног осыпанные стружками, конечно, не переставая обсуждать детали переправы на тот берег и предстоящей робинзонады. Кое-что из столярного инструмента стоило прихватить, думали мы. Одолжить. Потом, когда разбогатеем, вернем сторицей, как говорят умудренные люди. Сторицей. Хорошее слово. С каким-то религиозным привкусом. В это надо верить: что наступят времена, и ты всем вернешь долги, всех порадуешь.
Да, на инструменты у нас денег не было, ведь необходимо было купить много чего, муки прежде всего, ружье и т. д. Мы составили список. И каждый вечер рассматривали его, думая, что еще добавить или, наоборот, выкинуть. Продолжали ходить на Куркавку, солили рыбу. Вот насолим два мешка рыбы и купим два мешка муки – этого нам надолго хватит.
Однажды возвращались с рыбалки по красному от солнца кедровнику и заметили глухаря. Он расхаживал важно по белым подушкам мха, как павлин, крупный, бровастый. Валерка посмотрел на меня и спросил, не надоела мне рыба? Ну, не знаю, ответил я, мы же собираемся два мешка насушить? Правда, у нас будет ружье… Слушай, перебил он, а если не будет? Ведь как-то эвенки тут жили без ружей?
И он вынул свой нож и начал привязывать его ремнем к палке, моему посоху. Я его понял и подобрал камень. Мы как-то напрочь забыли, что находимся на заповедной земле. Как будто уже отлетели на тот берег.
Прячась за красными светящимися стволами кедров, мы подкрадывались к глухарю. А он не улетал, похаживал, как падишах, да, было в нем что-то такое, мне халиф-аист вспомнился… Заманивал нас как будто, но в это время послышался топот. Точно! По тропе кто-то приближался. Валерка отбросил свое копье, я уронил камень. Сделали вид, что отошли помочиться. А на тропе появился всадник. Кто-то из лесников? Сам Герман? Его сын? Но у всадника были черные густые волосы, светлое лицо, темные брови, карие глаза. Верхом на Умном скакала девушка. Мы быстро отняли руки от ширинок и уставились на нее. Она взглянула на нас и промчалась дальше. Мы смотрели ей вослед. И тут захлопал крылами новый халиф. Мы оглянулись. Глухарь летел среди кедров тяжело, словно ящер, как-то неуклюже взмахивая крыльями.
Но нас он уже не интересовал. Мы были озадачены. И уже очарованы. Девушка была необыкновенно хороша, да просто красива. И увидеть ее – где? Здесь? На этой тропе? Мы подавленно смотрели на кедры, на свежую рыбу, друг на друга.
– Ладно, чего ты? – спросил Валерка. – Как будто инспектора увидел.
– Из Главохоты?
Мы рассмеялись с фальшивой беспечностью.
На кордон мы возвращались поспешнее, чем обычно. Вообще испытывали противоречивые чувства. Нам хотелось снова увидеть всадницу, и поэтому следовало не торопиться, но не терпелось узнать, кто это? Может, на кордон прибыла какая-то киносъемочная группа? По рассказам мы знали, что сюда время от времени наезжают киношники, даже зарубежные. Так что наше предположение не было столь фантастическим.
На кордоне нам никто не попался, лесников не было видно. Ни лесников, ни актеров. Мы прошли к своей кельне и сразу увидели на берегу чью-то чужую моторку.
Высыпав рыбу в ведро, покурив, Валерка достал бритвенные принадлежности, кусок зеркала, мыло.
– Куда ты?
Он ответил, что пора побриться, и, скребя ногтями подбородок, пошел на море; я видел в окно, как он уселся на корточки у воды, пристроил кусок зеркала на валуне и принялся намыливать щеки. А мы-то решили отпустить бороды и уже не брились несколько дней, покрывались свинской какой-то щетиной, кабаньей, ржавой. «Ну, вы уже как полярники!» – смеялся Толик Д. «Правильно, впереди у них зимовка на том берегу, теплее будет», – одобрил Толик И. Герман, глядя на нас, посмеивался. Его супруга Ириада слегка морщилась и улыбалась. Да, наши рожи были страшны. А что делать?! У настоящих таежников должны быть бороды. Это здесь, в заповеднике, все еще слишком цивильно и бородатых лиц раз-два и обчелся. А там, на том берегу, все по-другому. Ведь нам предстояло встречаться не только со зверями лицом к… лицу, но и с такими же вольными таежниками. Тот берег для всех открыт.
И вот один из нас сдался. Это было похоже на предательство. Что ж, я отплатил тем же: дождался, когда друг вернется, взял все то же – у нас станок и помазок были общие, купленные в первый день еще в Иркутске, бриться мы уже начали, просто забыли все в Смоленске, – взял и пошел; пристроил кусок зеркала, окунул помазок в прибойную волну… В это время на берегу появился новый персонаж, какой-то мужик круглолицый, раскосый, рыжеватый, плечистый, с брюшком, кривоногий. Улыбнулся мне.
– Здорова!
– Здравствуйте, – ответил я.
За ним шел и Герман. Увидел меня с намыленными щеками, кивнул, посмеиваясь.
– Чё-о, а? Уже раздумали?
Я не ответил. А раскосый у него спросил, чё, мол, ага?
– Полярники, – ответил Герман, и тот рассмеялся, хотя явно ничего не понял.
А может, знал про нас? Но Герман?.. Значит, он шутил, соглашаясь переправить нас на тот берег? Или как?..
Герман помог стащить моторку в воду, развернуть ее носом навстречу волнам; раскосый сел, Герман с силой толкнул, и лодка, плюхая носом, закачалась, поплыла; раскосый опустил хвост мотора, дернул за шнур, и тот заревел. Герман поднял обе руки в прощальном благодарственном жесте. Раскосый что-то крикнул в ответ, и лодка пошла рассекать волны. Я побыстрее добрился, ополоснул лицо и пошел в мастерскую, испытывая злость и… радость; да, затаенную радость. Ну, понятно отчего. Раз этот рыжеватый мужик, явно наполовину эвенк, уплыл, значит… значит, та, которую он привез, осталась. Но, войдя в кельню, я постарался выглядеть только раздосадованным.
– Валер! По-моему, над нами издеваются!..
Он взглянул на меня. Его лицо было непривычно светлым. Значит, и мое, подумал я.
– Кто?
Я подумал и ответил:
– Все.
Валерка сказал, что смеется тот, кто смеется последним, еще посмотрим, еще они будут удивляться и завидовать, когда по льду мы приедем сюда на санях в унтах и дохах. Я попросил уточнить, кем будут запряжены сани (неужели и на том берегу придется упражняться с литовкой, а не винтовкой?). Оленями, успокоил меня Валерка. А, ну это другое дело, подумал я. Но поделился опасениями насчет Германа. Вдруг он нас предаст, как предали пираты Спартака? Валерка задумался. Ну, найдем еще кого-нибудь, вот хотя бы этого полуэвенка зафрахтуем.
Мы разговаривали, курили, готовили ужин, все вроде было как прежде… Но что-то такое изменилось в Валерке. Он говорил напряженно. И слушал меня вполуха. Да, все его внимание было направлено на что-то другое. Я это сразу уловил. Вот так-то. Стоило появиться здесь какой-то незнакомке, как… что? Ну, в общем, еще ничего такого. Но первые признаки дезертирства налицо. На лице.
Да и на моем.
– О, хлопцы никак на танцы собрались?! – воскликнул Толик Д., увидев нас.
– Да-а… надоело, чешется, – небрежно ответил Валерка.
– М-м. – Толик понимающе кивал.
Мы сразу обратили внимание, что и он принарядился, надел чистую новую тельняшку взамен драной и такой грязной, что все полосы на ней сгладились.
– У тебя, оказывается, две тельняшки? – спросил Валерка. Он мечтал о такой же. И я бы не отказался.
– Да, а чё?
– Буржуин.
– Не задарю, не просите, – отрезал Толик.
Вскоре показался и второй Толик с тщательно расчесанными белокурыми волосами, в лесниковском пиджаке с дубовыми листьями на рукавах и на лычках. Мы переглянулись и засмеялись.
– Чё-о ржете? – с неудовольствием спросил Толик И.
– Ты на выезд собрался?
– Нет еще. Но скоро поеду. В Иркутск.
– Зачем?
– За аккордеоном.
– Ты умеешь играть?
– Маленько.
– А я думал, за новыми тетрадями, – сказал Толик Д.
Наступила пауза. Мы все думали об одном, я уверен. Впрочем, я еще подумал и о тетрадях и хотел уже спросить, что же он в них пишет, но вместо этого спросил о том раскосом рыжем мужике, не эвенк ли он? Толик Д. ответил, что татарин. Усманов.
– А зачем он приплывал? – спросил Валерка.
Толики уставились на него.
– Мы на Куркавке рыбачили, – объяснил Валерка.
И Толик Д. ответил, что он привез дочку Германа, студентку Галину.
Наступила еще более продолжительная и напряженная пауза. Информация, полученная нами, была избыточна даже. Мы внезапно узнали всё. Студентка. Галина. Дочь.
– А завтра примчится Сыров, – сказал Толик И. с непонятным вздохом.
– Если не ночью, – добавил Толик Д. мрачно.
Мы узнали еще: Сыров – охотовед, многодетный папаша, он всегда сюда прилетает, как только Галя на побывку приезжает.
Это уже было слишком. Более чем избыточно. И как-то неправдоподобно. Да, спрашивается, если все так безнадежно, зачем же лесники вырядились? Нет, я отказывался верить новому сообщению. Думаю, Валерка тоже. Какие-то сплетни…
Море волновалось сильнее, вода уже была свинцового цвета, а вдали вообще черного. Приморский хребет переваливали тучи. Грохотало о берег всю ночь. Утром – та же картина. С волн срывались белопенные гребни. В такую погоду уютно на этом берегу, он становится поистине дальним, отрезанным от всего мира. Хорошо. Может, там, в большом мире, уже неизвестно, что происходит, новая революция, мертвый Ленин на броневике, а у нас – ничего, шумят лиственницы, гремит прибой, на песке желтоватая пена. Нет, мы снова убеждались, что оказались в одном из укромных мест этой земли. И жаль, нет художника на эти краски, хитросплетения из ветвей, лучей, линий гор, песка и волн.
…Мы работали на стройке и все поглядывали в пустые окна на дом и двор Германа. Но видели там кур, Ириаду или Борьку. Мне уже начинало казаться, что вчерашняя всадница – плод романтического настроения… Но Валерка тоже приободрился, утром полез в море купаться, несмотря на ветер, волны, вымыл с мылом свои свалявшиеся кудри. В мыле-то нет ничего романтического, а? А вообще романтизм совсем не то, что о нем говорят. Теории развивают, подбирают определения. Но романтизм – это просто влюбленность. Влюбленность в мир, как в женщину. Далее: реализм – страсть остывает. Модернизм – причуды вместо любви. Постмодернизм – уже некрофилия.