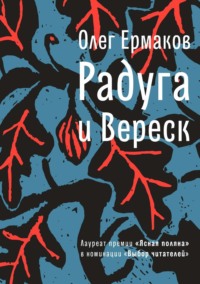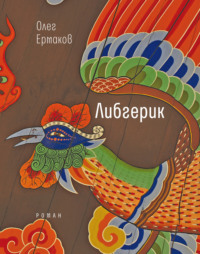Полная версия
С той стороны дерева
Наверное, это нелепо, смешно, но меня снова тяготил этот берег. Мне хотелось жить без электричества, кино. Вот как Хармсу. Я читал, что в его квартирке долго не было электричества. Друзья предлагали ему свою помощь, но странный Хармс был против, жил при лампе и свечах. Все-таки друзья подложили ему свинью, как это у них, обэриутов, было принято: вызвали электрика и, когда Хармс куда-то ушел, вломились в его жилье и учинили там свет. Наверняка ведь провозглашали эту здравицу. И Хармс был вынужден смириться. Но никто так и не заставил его полюбить другое техническое новшество – телефон. Он его панически боялся. И старался куда-нибудь подальше убрать, запирал в шкаф, накрывал подушкой.
Я уверен, что Хармсу тоже не понравилась бы местная электростанция, стучащая костями на весь поселок, костями, гигантской какой-то челюстью. И склад ГСМ его опечалил бы: безобразные громадины цистерны во дворе, пропитанном ядом. А еще и машинный парк, рев тракторов. Целая свора катеров и моторных лодок в устье речки; воду в ней на питье нельзя было брать, пахла бензином. Те, кто рядом жил, жаловались, ругались. Наш дом стоял дальше, и за водой мы ходили на море.
В поселке жили всякие люди, имена многих мы даже не знали, тем более не имели представления об их прошлом. Говорили, что раньше никто не запирал свой дом на ключ, а теперь времена изменились, много приезжих, у кого-то пропало масло, подсоленное, в ведре с водой лежавшее, – вместе с ведром и пропало; у другого исчез будильник; у третьего топор и свиная голова, только что забили поросенка к какому-то семейному торжеству, и т. д. И селяне начали навешивать на двери замки. Но еще были двери и без замков. Например, у нас. Ясно, брать нечего; ну, Еврипида – так он библиотечный, или «Альпинист-305», оплавленный у костра.
* * *Как-то под вечер возвращались мы с работы, смотрим, в окне кто-то мелькает. Переглянулись, взошли на крыльцо, шагнули внутрь. Невысокий плотный мужик, курносый, с пристальными глазами. Мы его видели и в конторе, и в поселке, но чем он занимается, не знали. Похож на бухгалтера. Только в светло-карих глазах печаль. Он поправил свой картуз, кожаную старую шапку с твердым козырьком. Мы поздоровались.
– Меня зовут Гена, – сказал он.
В заповеднике так принято было – всех звать по именам, ну, кроме директора, его зама, даже смотрительницу горячего ключа, седую бабку, звали Зиной; еще было исключение: Могилевцев Игорь Яковлевич, ученый с мировым именем, соболятник.
Вот и этот мужик представился запросто.
– Я пожарный, – сказал он, – проверяю здания. Есть лестница?
Мы принесли с улицы лестницу, и он полез на чердак. Мы ждали. Вскоре он вернулся с паутиной на картузе, плечо перепачкано глиной. Он сказал, что труба в трещинах, надо глину развести и замазать. Так, может, в трещины жара и улетает, предположили мы. Он пожал плечами, но сказал, что это вряд ли. Скорее всего, дефект конструкции. Конструкции чего? Печки. Так нельзя, что ли, ее перестроить? Он вздохнул и ответил, что ее перекладывали уже три раза. Так выписали бы конструктора… из Москвы. Он засмеялся, снял картуз, заметив паутину на козырьке, и принялся счищать ее. Его крупная голова светлела большими залысинами.
– Видимо, где-то неподалеку жили? – спросил он. – От Москвы?
Мы ответили. Он кивнул.
– А… – Валерка мгновение колебался, – ты?
– Я? В Таллинне.
Валерка присвистнул. Я тоже изобразил удивление. Он вопросительно приподнял светлые брови, наморщил лоб.
– Там же у вас… свое море, – сказал Валерка.
Гена развел руками.
– Ну и что?
– Как?! – воскликнул Валерка. – Я бы пошел на корабль, в загранку.
Гена улыбнулся и спросил, почему же он оказался здесь? До Таллина было рукой подать. Ну, по сибирским меркам. Валерка покосился на меня и ничего не ответил. Я почувствовал, что надо произнести оправдательную речь. И сказал, что здесь чище и горы рядом. И солнца больше, по статистике – как в Крыму. А на квадратный километр меньше людей.
– Вот, примерно, поэтому и я здесь, – сказал Гена.
– А чем ты занимался в Таллине? – спросил Валерка.
– Перебивался, – ответил Гена. – С пятого на десятое… А кто у вас читает Еврипида? – спросил он, в свою очередь.
– Вот он, – сказал Валерка, указывая на меня. – Спектакль будет ставить, прямо на берегу. Роли древнегреческих рабов уже отданы бичам. Я ему советую ввести роль цыгана с цепным медведем. А он говорит, в Греции не было цыган. И с медведем проблемы. Какие же проблемы? Вон в музее – хорошее чучело. Отполированный нос, глаза остекленевшие, то, что надо, полная злоба.
– Ладно, ты будешь цыганом, – согласился я, – только волосы надо будет нагуталинить.
– Я их перекрашу. Но согласен на роль Зевса. Прибывает Зевс на Байкал в командировку…
– Любопытная интерпретация, – проговорил Гена, надевая картуз. – Ну что, Зевс? Пойдем со мной, я покажу, где взять глину для замазки.
Я остался разводить огонь в нашей дефектной печке, включил «Альпинист-305», чтобы послушать новости. Смысл новостей нисколько не интересовал. Просто приятно было почувствовать пропасть пространства и времени, разделяющую нас и Москву со спящим Лениным. И все там уже спать ложились. И в Смоленске, за дряхлой крепостной стеной.
– Ты знаешь, кем он был? – спросил Валерка, вернувшись с мешком, наполовину наполненным глиной.
Я смотрел на него сквозь слои дыма от печки. Валерка еще немного помолчал. Нет, в нем был какой-то природный артистизм.
– Ну, кем? – не выдержал я и закашлялся, подавившись дымом.
– Органистом, – ответил Валерка, бросая мешок возле двери. Над мешком встало облачко пыли.
– Ты не мог его там оставить?
– А замешивать на холоде, что ли, будем?.. Так ты уловил?
Я кивнул: уловил. И спросил, что же он тут делает? Валерка хмыкнул и ответил, что работает пожарником. У него даже настоящая пожарная машина есть в гараже.
– Вообще-то правильно говорить: пожарный. Они это не любят, когда «пожарник».
– Ладно, грамотей, это у Еврипида так не говорили, а у нас говорят. Ну, ты переварил?
– Ну… да, странно.
– Нет, прикинь. Таллин и… эта дыра. Орган и пожарная машина.
Я возразил, что здесь совсем не дыра, какого черта, это Байкал, сибирское море, а может, зарождающийся океан.
– Да прекрати гнать, – сказал Валерка.
– Зачем тогда ты сюда ехал?
– А чего ты ерепенишься? Патриотом таким, смотрю, стал? Сам же хочешь рвать когти?
– Да, ибо здесь слишком цивильно. Но если сравнивать с Таллином…
Валерка заржал.
– Ибо!..
За ужином Валерка сказал, что мне надо выкинуть эту идею из головы, надо залечь на зиму.
– И уйти в армию, – сказал я.
– Ну а что?
Я колебался, рассказывать ли ему про дерево Сиф. Про озарение на склоне горы за речкой Езовкой на Северном кордоне.
– Ничего, – сказал я. – Надо ехать дальше.
Валерка взялся за дужку чайника и тут же отдернул руку.
– А, черт! Еще не остыл… – Он схватил брезентовую рукавицу, положил ее на дужку, налил себе чая. И мне. Поставив чайник, он посмотрел прямо мне в глаза. – Я не маньяк.
Я молчал, задумчиво щурясь над кружкой крепкого плиточного азербайджанского чая. Я и сам не совсем понимал, что со мной происходит, чего я хочу. Забираться дальше? Зачем? Что там может быть?
Но и сейчас мне показалось, что, пока мы здесь распиваем чаи, где-то происходит главное. Таинственное главное. И туда надо было проникнуть, вот что. Это сразу почувствуешь. Оно сверкнуло, например, на склоне горы за речкой. И на вышке – а потом засеребрилось ночным снегом. И вот – исчезло.
И оставаться в поселке, возиться и дальше с бревнами я просто не мог. Я не находил себе места. Надо было что-то предпринимать.
Что тут удерживает меня, когда где-то течет речка Чара?
До рокуэлловских эскимосов нам было далеко, они вели жизнь настоящих анархистов, наверное, о подобной и мечтали Бакунин с Кропоткиным. Оба, кстати, бывали здесь. Один – занимаясь географическими исследованиями, другой – приходя в себя после казематов Шлиссельбурга. Бакунин отсюда рванул дальше – в Японию, Америку. Кропоткин, переведенный в лазарет по состоянию здоровья, улизнул в Европу. Вечный исход из России, как из Египта. Это было при Грозном, было и раньше. И до революции основная масса недовольных предпочитала скрываться во внутренних землях. Это была великая внутренняя эмиграция, великое переселение народов: раскольники уходили в леса, беглые рабы, солдаты, крестьяне искали вольного хлеба на вольных землях. Тут и появился страннический эпос – сказание о Беловодье. Народ хотел жить с Богом, но без царя, коли этот царь жесток и слеп. Вот и искали такую страну стихийные анархисты стригольники, бегуны. Целые экспедиции отправлялись на деньги мира с заданием разыскать, где она такая есть, страна Беловодская, и что собой представляет. Одна казачья делегация добралась до Японии. Многие находили прибежище в Алтайских горах, там кое-где климат мягкий, все растет, даже виноград, не говоря уж о капусте с картошкой.
Да, империя была огромна, за Уралом – земли малолюдные, а то и вовсе безлюдные. Любое воображение дрогнет. Но следом за нищими странниками и духовидцами шли воеводы с казаками, рубили остроги, деревянные крепости, устанавливали свои правила. Так что безвинные правдоискатели, визионеры, мучимые образом обещанных Моисею еще земель с медом и млеком, а по сути дела, все тем же мифом сада с четырьмя реками, и золотом хорошим, и драгоценными камнями бдолахом и ониксом, и плодовыми деревьями, – тем берегом, – были на самом деле авангардом государства. И заимки их, лабазы, охотничьи избушки по ущельям и долинам Саян, Алтая, Хамар-Дабана, по берегам Амура были форпостами государства Российского.
Роман Архипов тоже пытался выстроить какую-то теорию, оправдать свою одержимость дорогой. Он говорил, что эта извечная русская тяга вылилась в движение всеобщего туризма. Народ, заводские инженеры, сотрудники научно-исследовательских контор, учителя, строители, шоферы устремились за город, в леса, к кострам и песням. Государственные мужи учуяли в этом нечто такое и решили направить искателей в нужное русло: БАМ, комсомольские стройки, целина. Но были среди этих прирученных бегунов и те, кто отбивался от рук и уходил все дальше и дальше. Куда? Пока из заповедника в заповедник. В СССР заповедников было достаточно: от Балтийской косы и до Камчатского побережья, от Земли Франца-Иосифа в Баренцевом море и до туркменских песков, таджикских водопадов – больше ста. Если в каждом останавливаться хотя бы на год – жизни не хватит, нужны патриаршие лета.
Я слушал внимательно.
И думаю, что Роман и подбил меня пуститься в дорогу. А сам почему-то остался. Ну, мы с ним этот вариант и не обсуждали, чтобы отправиться в путь вместе. Он называл себя волком-одиночкой и вольным стрелком. В нем и было что-то такое… в серых внимательных глазах, в повадке. На нас с Валеркой он смотрел свысока. Он-то постранствовал, служил в армии. И говорил, что не завидует нам, салагам: столько времени еще предстоит попотеть в рабстве.
Мне не хотелось рабства, меня лихорадило от того, что время уходит, а я перекатываю бревна…
И, глядя сверху на мощные зеленые склоны, гребни и выбеленные вершины по левому борту самолета, на огненно-синий студеный Байкал, я переживал ни с чем не сравнимое чувство освобождения.
Глава девятая
Я бросил заповедный берег, мне надоело томиться там. Я даже не взял ажалай дэбтэр, не желал иметь при себе трудовую книжку. Только получил аванс, собрал шмотки, ну, спальник, запасную рубашку, пару носков, и всё. Всё остальное было на мне: штормовка, свитер, брюки, шапка, связанная руками одноклассницы (школьная любовь), письма одноклассницы в кармане, на ногах – бродни. И еще взял с собой древнегреческие трагедии. Не успел дочитать.
Перед уходом я попрощался с Валеркой. Он последовать моему героическому примеру наотрез отказался. Наверное, в отмщение за мой отказ на трамвайной остановке, не знаю. Или же неприступная Алина манила его посильнее любых мифов. Впрочем, и сама была мифом, но близким и понятным.
Я пожал ему лапу, надел лямки рюкзака и потопал с оглядками к домику на взлетной полосе. Шел задними дворами, чтобы не столкнуться с начальством. Ведь меня никто не увольнял. Конечно, с увольнением я получил бы больше денег, полный расчет. Но по закону я должен был бы отработать две недели. Две недели?! Когда надо двигать вслед за солнцем, которое не устает? С нетерпением я ждал самолет. Погода вроде была ничего, но это здесь, а что там, севернее? Диспетчер, сумрачная женщина в синей форменной юбке и вязаном свитере, на мои вопросы отвечала невразумительно. А когда самолет-«кукурузник» вырулил из-за горы с лесопожарной вышкой, вышла и заявила, что Нижнеангарск не принимает, так она и знала, на севере начался снегопад, видимость упала, штормовой ветер. Я помрачнел, наверное, в два раза сильнее диспетчера и северного шторма. Что же делать? Можно было, конечно, как ни в чем не бывало вернуться в нашу общагу, распаковать рюкзак, да и жить дальше.
Летчики выгрузили какие-то ящики, один пассажир вышел, девушка с бледным конопатым лицом и выбившимися из-под вязаной зеленой шапки рыжими волосами, с объемистой сумкой, наверное, погостить к кому-то приехала. Мы взглянули друг на друга, она хотела что-то сказать, но я уже принял решение и пошел к диспетчеру, спросил, надо ли мне доплачивать за билет до Улан-Удэ? Пришлось еще раскошелиться на червонец. Летчики решили сразу возвращаться, пока сюда не пришел шторм со снегом. И я вошел следом за ними в салон, дверь закрыли, самолет громче заработал моторами, качнулся, покатился, развернулся, затрясся сильней, вдруг сорвался и побежал, побежал, как человек из каких-то кадров про то, как начиналась эра воздухоплавания; но обычно после двух-трех подскоков новоявленный Икар падал, ломал свою конструкцию, а мы – мы в самый напряженный миг оторвались от земли и быстро пошли над поселком наискосок к пожарной горе, где я провел незабываемые часы чистого одиночества и молчаливого счастья, заставившие меня на всю жизнь полюбить первый снег… Да, всего лишь снег, единственное приобретение странника, припершегося сюда за тридевять земель лаптем щи хлебать. И я прильнул к иллюминатору, стараясь все запомнить: заливчик, обширный, но неглубоко врезающийся в заповедную землю, добротный поселок на плоском высоком берегу, окаймленный зеленой тайгой, тайгой, уходящей по долине к горам Баргузинского хребта, и мыс, дойдя до которого следовало сворачивать и дальше двигаться перпендикулярно морю, вверх по тропе среди корней и красноватых стволов сосен. Мы прошли в стороне от вышки. Внизу синело море, ослепительное, солнечное. Не верилось, что за нами шествуют сплошные снега. Начинался обещанный сезон осенних штормов.
И я радовался, что успел. Я уходил на носу зимы. Впрочем, еще стоял октябрь, первая половина. И таким ярким Байкал не бывал никогда. Мне, конечно, на ум приходило греческое море. Да и летел-то я на юг. Ну, если не к Элладе, то в сторону Китая. В голове у меня уже созревал новый план.
От столицы Бурятии Улан-Удэ открывались пути дальше на восток и назад на запад. О западном пути не могло идти и речи. Только вперед, дальше, на восток. Можно, конечно, было… Ага, внизу тайга отступила, поплыли поля, очень обширные, показались деревни, голые сопки. Пейзаж явно приобретал монголоидные черты. В конце концов всякие деревья исчезли, и всюду расстилались степи, уже на подлете к Улан-Удэ я увидел огромные табуны. Все это после дремуче-лесной байкальской стороны поражало воображение. Да, ведь тут совсем рядом Монголия. Чуть в стороне Китай. Здесь-то я впервые по-настоящему ощутил себя на окраине мира и подумал, что сумел далеко забраться от днепровских луговин и краснокирпичных стен, растрескавшихся башен на холмах родного города, самого западного, именуемого ключом к земле Русской.
Я вышел в аэропорту, огляделся. Здесь явно было теплее, суше. Солнце светило ярко. Меня окружали луноликие смуглые люди, многие из них говорили на своем языке. В автобусе громко смеялись черноволосые девушки, брызжа лукавством черных узких глаз. Некоторые мне показались симпатичными. Особенно одна, с черными косами, в яркой куртке, черных обтягивающих брюках. И я, пока автобус, покачиваясь, петлял по улицам Улан-Удэ, успел мысленно с ней познакомиться, сдружиться, пожить в ее современной квартире над Селенгой, а летом – в юрте ее деда-коневода… Но чернокосая бурятка не стала ждать и вышла на какой-то остановке. Я вздохнул. И вспомнил почему-то ту рыжую девушку в зеленой вязаной шапке, ее бледное лицо в конопушках, неожиданно яркие зеленые глаза.
Железнодорожный вокзал. Что тут добавить? Я чувствовал себя лесным народом, как говаривал Дерсу Узала, диковато озирался. Отсюда поселок на берегу Байкала показался мне местом патриархальным, вневременным. Какая электростанция? Тут все лязгало и грохотало, как десять поселковых электростанций. Я, конечно, не собирался жить на железной дороге, но все это подействовало на меня угнетающе. Я подошел к расписанию поездов. Владивосток. Москва. Чита. Красноярск. Вообще-то я собирался добираться до Чары кружным путем, самолетом до далекой Муи в Муйско-Куандинской котловине, а там на чем придется. Но уже в аэропорту я узнал, что погода нелетная до Муи минимум на двое суток. И тогда я начал подумывать о перемене маршрута. Почему бы не сесть на поезд и не покатить дальше – туда, где бродил с берданкой и котомкой, с длинным посохом кумир моих школьных лет – Дерсу Узала? На Дальний Восток, ведь сейчас он был совсем не дальним. Честно говоря, сомнения одолевали, что все так просто. Я подцепил за лямку рюкзак и пошел в буфет. Надо было поесть, а потом уже думать. Времени много. Кто меня гонит? Завхоз? Лесничий? Я взял порцию поз, громадных бурятских пельменей, приготовленных на пару, с луком и мясом, чай, хлеб, два пирожных, яблоко, шоколад. Мне очень хотелось есть. Я отвык от такой еды. И пока не вонзил зубы в пышный пельмень, не до конца был уверен, что это можно будет съесть. Оказалось, можно. Пожалуйста, за деньги почти все можно. В позах был жирный сок, он потек по моему подбородку, обжигая. Я схватил салфетку. После этого ел осторожно, стараясь не спешить. Тут же взял еще порцию, хотел сразу две, но постеснялся почему-то. Ну, одичал на бреге байкальском. Покончив с позами, принялся пить чай, пирожные исчезли с невероятной скоростью, допивал уже с хлебом, а потом крепко откусывал от большого яблока куски и чувствовал, как мысли успокаиваются, в плановом отделе все и всё занимают свои места. Но многолюдство, разнообразие лиц, голосов, неостановимое движение, раскатистые объявления диспетчера – все это не позволяло забыть, что я попал в Вавилон бурятского образца.
Выйдя на улицу, я закурил, и вновь меня кинулись терзать размышления.
Ладно, решил попробовать вариант под кодовым названием «Узала». Приблизился к окошечку узнать стоимость проезда до Хабаровска. Едва взглянув на меня, тетка сказала, что для проезда в погранзону нужен паспорт тамошнего жителя, или разрешение, или вызов. Опять вызов!
Я отошел как ошпаренный. Избитое выражение, но иногда лучше не придумаешь. Вот тебе и свобода перемещения, вот тебе и Дерсу Узала, лесной народ, амба, фанзы, лимонник, темно-синие махаоны Маака, жимолость и дикий перец с амурским виноградом…
Все ясно, дорога на Дальний Восток закрыта. Остается один выбор: речка Чара.
Но как только все остальные варианты отпали, речка Чара перестала казаться мне такой уж заманчивой.
Неотвратимость раздражает, ей хочется противоречить. Один философ говорил, что будущее нас вдохновляет свободой выбора. Да, именно поэтому мы спешим попасть в завтрашний день, в следующее лето… ну, до определенного возраста. Будущее манит свободой.
Я снова взгромоздил рюкзак на спину и потопал на остановку. По пути купил карту.
Автобус довез меня до аэропорта. Здесь в небольшом зальчике ожидания с маленькими жесткими креслицами я разложил карту на рюкзаке и погрузился в изучение жилок и прожилок и слепых кишок. Как можно было добраться до Чары? Пусть мне туда уже меньше хочется. Ну и что. Я чувствовал себя Колумбом, знающим, что корабль идет уже совсем не в Индию, но хранящим невозмутимость. Вариантов не было. Чара лежала в чаше гор и чаще тайги. Сидевший рядом со мной бурят в фетровой шляпе и толстом синем плаще с любопытством поглядывал на мою карту. Наконец не вытерпел и попросил дозволения посмотреть. Я протянул ему карту. Он долго рассматривал ее, водя пальцем по линиям, шевеля толстыми губами. Разогнулся, покачал головой и вдруг смешно, с какими-то заунывными интонациями пропел: «Только самолетом можно долететь…» Я согласился с ним, что транспортная сеть здесь не шибко развита. Я уже нахватался местных словечек. Он спросил, куда мне. Я ответил. Он покачал головой. А ему нужно было в Верхнеангарск. Но самолеты не летали ни туда, ни в мою Мую. Мы задумались… Бурят ткнул пальцем в сторону ресторана. «Пойдем пива выпьем?» – «А рюкзак?» «А вон пусть тетя посмотрит». Женщина в розовом пальто и большом коричневом берете, сидевшая слева от меня, поджала крашеные губки. По годам она никак не подходила на роль тети этому буряту. И тот поправился: девушка. Она повела бровями и сказала, что… ну, ладно, хорошо, если только недолго. Бурят засмеялся: «Думаете, так быстро кашевары все там разведут?» Она взглянула на него с недоумением: «Какие еще кашевары?» Бурят ткнул пальцем вверх: «Небесные». Женщина нетерпеливо повела плечами и не ответила.
И мы пошли в ресторан, взяли селедки, нарезанной с подсолнечным маслом и кружочками лука, хлеба и пива. Бурят экспроприировал с соседнего столика горчицу, намазал толстый слой на хлеб, сверху положил селедку, посыпал все перцем из загвазданного керамического наперстка с дырочками и, жмурясь, надкусил свой бутерброд, глотнул из горла пива. Я такого пива больше никогда не пил. Отхлебнув мутного желто-зеленоватого напитка, я сразу вспомнил виденные сверху табуны. И едва осилил свою бутылку, а селедку с хлебом всю съел, хоть она и отдавала ржавчиной. Как только бурят узнал, что я из заповедника, сразу завалил меня вопросами, что там да как. Можно было подумать, он жил где-нибудь в Москве. А может, и жил. Он сказал, что очень любит Михаила Жигжитова, писателя, охотника из Максимихи, его трилогию «Подлеморье», не читал? Я впервые слышал это имя. Оказывается, в трилогии описываются наши, то есть заповедные места, и бурят всегда хотел там побывать…
Допив бутылки скорее кумыса, чем пива, мы вышли из ресторана. Бурят сказал, что отправляется домой. А я? Что намерен поселиться в гостинице? Он может подсказать, где есть недорогая. Но я отказался. Буду еще тратить деньги, нет, здесь перекантуюсь. Бурят пожелал мне всего хорошего и летной погоды, главное, и ушел. А я вернулся в зал ожидания. Тетеньки в розовом пальто возле моего рюкзачины не было и в помине. Наверное, она все-таки обиделась на «тетеньку» и решила так отомстить. Да, со временем я уяснил простое правило: относись к женщинам, как Боттичелли, написавший свою Венеру, рождающуюся из морской пены. То есть я не уверен, что реальный Боттичелли именно так относился к женщинам – как к вечно на твоих глазах нарождающимся венерам, но я взял себе за правило именно такое отношение и называю его правилом Боттичелли.
Я устроился поудобнее и раскрыл книгу, пытаясь поймать лад Древнего мира без нелетных погод и бурятского пива. Но это было невозможно. То есть удобно устроиться в креслице. Это было пыточное изобретение неведомого конструктора. Через пять минут все затекало, приходилось ерзать, привставать, скрипя и визжа дерматином.
Я никак не мог сосредоточиться на рассказе бога о его туристских впечатлениях. Это были «Вакханки», Пролог с речью Диониса. Он побывал там-то и там-то:
Покинув пашни Лидии златой,И Фригию, и Персии поля,Сожженные полдневными лучами,И стены Бактрии, и у мидян…Тут и я думал о покинутой центральной усадьбе среди горных склонов, о тихом поселке, двух его улочках, о библиотеке с фолиантами всемирной истории, о горе с лесопожарной вышкой, где я коснулся… не знаю чего, но это навсегда поразило мое воображение, заразило тоской по первому снегу, хвое, тишине; и думал о нашем с Валеркой жилище, какая там печка, и вид какой из окна, кедр во дворе; и думал о бане, вечной бане – там на берегу горячий источник, домик, внутри большая ванна, вверх задран широкий шланг, опускаешь его – и хлещет горячая сернистая вода, намыливайся, купайся. А я здесь сижу… грязный, невыспавшийся… Да, уже вторые сутки я торчал в зале ожидания. И просвета диспетчер не обещал. Дионис же, изведав у мидян холод зимний, посетил счастливые земли арабов и обошел
Всю Азию, что по прибрежью моряСоленого простерлась: в городахКрасиво высятся стенные башни,И вместе грек там с варваром живет.Грек с варваром… Хм. Вот что значит не надеяться на летную погоду. Встал и пошел. По всей Азии. А тут до Муйско-Куандинской котловины никак не доберешься.