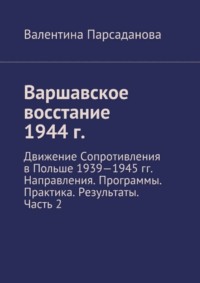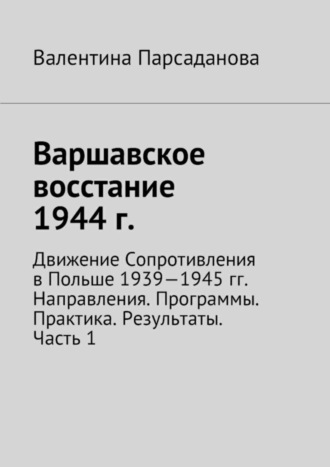
Полная версия
Варшавское восстание 1944 г. Движение Сопротивления в Польше 1939-1945 гг. Направления. Программы. Практика. Результаты. Часть 1
Разрыв сотрудничества между людовцами и ВРН, в некоторой степени ослабив правительственный блок (влияние «Польских социалистов» было несравненно меньше, чем у ВРН), привел к укреплению позиции делегата. Самим людовцам их маневр расширил возможность влияния на политику и персональный состав Делегатуры и ее аппарат, а вскоре дал возможность захватить и сам пост делегата (1942 г.). Перемены в правительстве и в подполье привели к изоляции ВРН и выходу на первый план людовцев, в 1943 г. получивших и пост премьер-министра.
Линия Стронництва працы определялась соотношением сил главных партий и позицией ее представителя в Комитете. В 1941 г. он был за союз с людовцами. В январе 1942 г. представителем СП стал З. Фельчак из радикального крыла этой партии, до войны состоявший в Национальной рабочей партии. Это, а также противоречия между «большими» партиями, повысили шансы и значение всего созданного блока. В целом в подполье сформировалась группировка, направленная против народовцев и СВБ/Армии Крайовой. При этом если людовцы альянс с левыми социалистами рассматривали как конъюнктурный, тактический, то «Польские социалисты» расценили его как исторически обусловленный, основанный на общности интересов рабочего класса и крестьянства.
Людовцы, исходя из своих аграристских воззрений, отвергавших марксизм, утверждали, что «коммунизм чужд Польше, польскому народу и новая Польша не будет ни коммунистической, ни фашистской, т.е. не будет тоталитарной, а будет народной, демократической» (31.03.1942). Один из номеров их газеты «Кu zwyciḝstwu» («К победе») от 10.02.1942,правда, сообщал, что «наш (т.е.СЛ —) естественный союзник – рабочее движение, на крестьянах, рабочих и интеллигенции лежит ответственность за Польшу, за освободительную борьбу и будущее страны рабочих и крестьян, всего народа. Крестьянство хочет иметь сильного союзника, а сила в единстве». И СЛ заявляло, что оно желает достижения единства с рабочим классом. Но прибавляло: единства «не с теми, кто рядится под демократию, чтобы стряхнуть ее как пыль» (подразумевались коммунисты). В.П.
В октябре 1942 г. людовцы представили некоторые наметки своей программы новой Польши. Они видели ее силу и величие в территориальном расширении и уничтожении германской угрозы. Для этого нужно было ликвидировать Восточную Пруссию и установить западные границы страны по Одре и Нысе, как при Болеславе Храбром. На востоке должна быть восстановлена граница 1921/1939гг. Людовцы подчеркивали необходимость унии с Чехословакией и дружбы с государствами Центральной Европы, не отказывались они и от помощи Англии и США.
В Стронництве народовом также произошли перестановки. Стремясь сохранить соглашение четырех партий, Сикорский в ходе разрешения правительственного кризиса пригласил в свой кабинет умеренных народовских деятелей В. Комарницкого и вновь М. Сейду, согласившихся без консультаций с председателем СН в эмиграции Т. Белецким принять министерские портфели в личном качестве. Результатом было исключение этих министров из партии. Через несколько месяцев группа Белецкого объединилась с ОНР-Фалангой и сблизилась с санацией. Раскол СН и официальная оппозиция руководства партии правительству вскоре стали оказывать влияние на положение партии на родине.
15 марта 1942 г. эмигрантская «Мyṡl Polska» опубликовала совместную декларацию СН и ОНР-Фаланги. Социалистический «Robotnik Polski» 1 апреля 1942г. охарактеризовал ее как свидетельство сил, борющихся против общественного прогресса и свободы. Исторический процесс, по мнению газеты, ведет к социализму. Будущая общественная система исключает частную собственность как основу экономической жизни. Социально же экономическая программа правого лагеря представлена туманными, мало обязывающими формулировками. Процитировав выдержку из декларации: «Польское государство будет базироваться на католических и национальных принципах и даст собственное выражение тем социально-экономическим принципам, которые потрясут мир», социалисты съехидничали: «Национальный лагерь всегда хвастался своей силой и крепостью. Неужели сегодня, когда нельзя пользоваться кастетом и дубинкой, больше крепости не хватило»?
В хоре различных мнений относительно ценности советско-польского соглашения от 30 июля 1941 г. зазвучали ранее «заснувшие» мотивы: какой будет послевоенная Польша и какой она должна быть? Для Польши возрождались надежды на национальное освобождение. Вступление СССР в войну, таким образом, повлекло за собой возможность изменения, и принципиального, в отношениях двух соседних стран. Военное взаимодействие стало общим государственным делом советского и польского руководства.
1.6. Формирование в СССР Польской национальной армии
Важнейшим положением соглашения от 30 июля 1941г., развитым и закрепленным совместными военной конвенцией от 14 августа 1941 г. и декларацией от 4 декабря 1941 г., было обязательство сторон создать на территории СССР Польскую армию. Командующим армией 6 августа был назначен с согласия советского правительства генерал В. Андерс. 12
В создании польской армии на территории СССР были заинтересованы как советское, так и польское правительства, хотя причины заинтересованности заметно отличались. В. Сикорский рассматривал создание большой польской армии в СССР как обретение правительством реальной военно-политической силы, которая придаст Польше вес на международной арене и значимость его отношений с союзниками по формирующейся антигитлеровской коалиции. Несомненно, принималось во внимание и то, что на заключительном этапе войны приход этой армии в страну станет гарантией возвращения правительства из Лондона в Польшу. Сикорский в тайной личной инструкции Ровецкому писал 8 марта 1942 г., что если Россия придет в Польшу, он приложит все старания, чтобы польская армия, сформированная в России, одновременно вступила в Польшу. Для чего необходимо сохранять формально дружественные союзные отношения между государствами.
Советская сторона подходила к вопросу создания армии как к выполнению своих обязательств перед новым союзником на начальном этапе позитивных изменений в отношениях. Это был политический аспект проблемы. Была и потребность, особенно острая в 1941 – начале 1942гг., в получении дополнительных воинских частей, участвующих в боях на советско-германском фронте. Это специально оговаривалось в соглашении: «Польские армейские части будут двинуты на фронт по достижении полной боевой готовности. Они будут выступать, как правило, соединениями не менее дивизии и будут использованы в соответствии с оперативными планами Верховного командования СССР». Были достигнуты договоренности о первоначальной численности (30 тыс. чел.) и о национальном характере и суверенитете армии, об обеспечении ее в меру возможности вооружением советской стороной и польской за счет обещанных ей 19 июня 1941 г. правительством США поставок по ленд-лизу как активно воюющей стране, равно и по ряду других вопросов. Предусматривалась боевая готовность армии к 1 октября 1941 г. Срок устанавливался исходя из того, что части будут формироваться из лиц, уже прошедших военную подготовку, даже войну. Как написал Андерс в мемуарах, оправдывая свои дальнейшие действия, срок был столь нереальный, что он его не оспаривал.
Следует подчеркнуть, что сразу же возникли разногласия в интерпретации сторонами своих обязательств. Возникли трудности с офицерским корпусом (в наличии оказалось чуть больше двух тысяч офицеров, принята была половина – 1069 офицеров, непринятых – 1 063, их освободили из лагерей) и вооружением польской армии. Недостаток по офицерскому штатному расписанию был заполнен офицерами, прибывшими из Англии, и подготовкой собственных кадров. Однако польская сторона непрерывно требовала полного выполнения указа об амнистии и освобождения всех офицеров. Комиссия под руководством графа Ю. Чапского, впоследствии известного художника, приступила к опросам призывников, выявлению того, сколько было офицеров взято в плен, кто и в каких лагерях военнопленных находился или находится в данное время, с кем он сидел. И проводили сверку добытых сведений с официальной предвоенной публикацией списка польского офицерства, которую им предоставила советская сторона. (Официальная причина запроса: чтобы выявлять офицеров-самозванцев при записи кандидатов в армию.) По каналам подполья был проведен учет офицеров, находившихся в гитлеровских лагерях. Все сопоставили. К декабрю 1941 г. список на 3,8 тыс. был готов.
С вооружением было сложнее. На 25 октября 1941 г. в армии числилось уже 41,5 тыс. военнослужащих. Сталин удовлетворил просьбу польской стороны, заявленную в середине октября (14 и 22 октября) о создании новых дивизий сверх предусмотренных соглашением, но оговорил, что единственным препятствием может стать нехватка вооружения и трудности с продовольствием. Это было правдой. За труднейшие месяцы войны, с июня по декабрь 1941 г., Красная армия потеряла более 3 млн бойцов, 6 млн единиц стрелкового оружия, 20 тыс. танков и САУ, 10 тыс. самолетов. Враг занял почти треть территории страны, причем экономически наиболее развитую, промышленное производство уменьшилось в 2,1 раза, а фронт требовал бесперебойного снабжения. 2539 предприятий уже были эвакуированы на восток, но еще не налажено было производство. Только с марта 1942 г. начался рост производства. На захваченной врагом территории проживало 45% населения и производилось более половины продукции земледелия и животноводства. СССР сам находился в критическом состоянии, Сталин даже 3 сентября просил Черчилля прислать на советский фронт 25 – 30 английских дивизий, танки и самолеты, ибо нависла смертельная угроза или поражения, или такого ослабления государства, что СССР не сможет быть опорой и помощником для Великобритании. Черчилль отказал. Но ввести английские войска на Кавказ был согласен. Сталин ответил, что на Кавказе фронта нет. К поздней осени положение на фронтах стало более благоприятным для Красной армии. Блицкриг проваливался. Хотя на советско-германский фронт вновь были брошены новые дивизии вермахта (30 – 34). Было также 20 финских и 26 румынских. Уже 300 дивизий противостояло Красной армии. Но разведка выяснила, что Япония отказалась от нападения на СССР. Создание народного ополчения, мобилизация сотен новых дивизий (400), возможность подтянуть с Дальнего Востока кадровые дивизии сибиряков позволили подготовиться к контрнаступлению под Москвой.
Но пока вооружения остро не хватало даже для воюющих частей, и Сталин 8 сентября 1941 г. уведомил польского посла, что в силу этого нет возможности полностью выполнить обязательства по соглашению: СССР может оснастить только одну польскую дивизию. Для обучения солдат оружие и боеприпасы предоставили. Так, вопрос о вооружении из организационной проблемы в отношениях двух стран все больше превращался в политические разногласия. Он был использован польской стороной для обоснования ее решения о выводе армии из СССР в Иран, поддержанный британским послом и представителем президента США по ленд-лизу А. Гарриманом. Заметим, что в претензиях на трудности с вооружением для еще не воюющей польской армии речь шла о танках, противотанковых и зенитных орудиях.
Командование армии в согласии с посольством пыталось проводить собственную «военную политику». Андерс, имея за собой самые крупные польские военные силы, почувствовал себя значимой политической персоной. Еще в середине сентября 1941 г. Андерс, по словам его адъютанта Е. Климковского, давал директивы начальнику штаба Л. Окулицкому: 1) Немцы наступают, и фронт может быть прорван, а Москва – пасть в любой момент. Польскую армию за 2 – 3 месяца довести до 100 тыс. человек и добиться согласия советских властей на количественное увеличение армии. 2) Армию увести на юг, предпочтительно к иранской или афганской границе, чтобы в случае необходимости прорваться через эти границы в Иран или через Афганистан в Индию. 3) Направляющихся в армию призывников поворачивать в Узбекистан, поставив советские власти перед фактом: целесообразнее проводить мобилизацию там, где большинство поляков. Амнистированные хлынули в теплые края. Узбекистан принял до ста тысяч поляков. Создались транспортные трудности, продовольственные, жилищные, возможность обеспечения всех работой и т. д. И это не считая, что в Среднюю Азию эвакуировалось значительное число граждан СССР из захваченных врагом районов или областей, над которыми нависла угроза. 4) Оружие у 5-й дивизии (командир – генерал М. Борута-Спехович, начальник штаба – З. Берлинг) частично отобрать для других частей в целях лучшего обучения и дабы не допустить направления на фронт одной дивизии, мотивируя тем, что нет полного вооружения и из-за этого недостаточно обучены солдаты.
Когда в Москве в конце сентября состоялась союзническая конференция по вопросам поставок в СССР, Андерс при поддержке посла Кота и главы польской военной миссии в СССР генерала З. Шишко-Богуша передал английскому главе делегации лорду У. Э. Бивербруку и американскому представителю по ленд-лизу А. Гарриману, а С. Кот— послу США Л. Штейнгардту «Памятную записку» с требованием специального обеспечения польской армии вооружением. Андерс хотел создать в СССР семь крупных соединений: три пехотных дивизии, две танковые, две моторизованные, плюс армейские и запасные части. На состоявшемся 2 октября в посольстве США совещании Бивербрук решительно отмел польские требования. Все, что может дать Великобритания, пойдет Советскому Союзу. Он выделит польской армии, что сочтет нужным. (Тем более что на завершившейся конференции советская делегация в своих заявках приняла в расчет и несколько польских дивизий.) Поскольку польские войска будут сражаться на советском фронте под верховным командованием Красной армии, нет необходимости наделять их особым вооружением, отличающимся от поставок для Красной армии..
Трудности с вооружением польской армии были не единственной причиной осложнений во взаимоотношениях сторон. Остро стоял вопрос о том, кого можно призывать в польскую армию, кто является польским гражданином. Формирование армии, ее численный состав были непосредственно связаны с наличными человеческими ресурсами. По сведениям руководства НКВД («Справка» заместителя министра Чернышова), в советском тылу было 494310 бывших граждан польского государства. Из них мужчин старше 18 лет – 62702. Источников пополнения армии было три: 25 тыс. военнопленных, еще находившихся в лагерях, некоторое число членов подполья, содержавшихся в тюрьмах; депортированные вглубь СССР бывшие польские граждане, получившие свободу по амнистии от 12 августа 1941 г. Инаконец, был еще возможный источник— бойцы, уже призванные в Красную армию из западных регионов в 1940 – 1941гг. Считалось, что таковых около ста тысяч. Наркомат обороны согласился передавать их в польскую армию. Об этом даже успел сообщить главе комиссии по формированию польской армии Панфилову начальник генштаба маршал Шапошников, ссылаясь на мнение правительства. Однако оказалось, что у советских военных и гражданских властей разные мнения. Молотов наложил вето: «они уже приняли присягу» (Советскому Союзу).
Неожиданно возник еще четвертый источник пополнения армии: военнопленные вермахта —фольксдойче— поляки по национальности. Командование польской армии просило их направить, уверяя, что после проверки, в польскую армию. НКИД уведомил, что «лица, о которых ходатайствует посольство, не являются добровольно перешедшими на сторону Красной армии, а взяты в плен советскими войсками с оружием в руках». И находиться они будут в тех же условиях, что другие германские военнопленные. /32/.В 1941 г. последовал отказ передать их польсую армию.
С депортированными остро встал вопрос, кого можно считать польским гражданином и, соответственно, обязанным по мобилизации вступить в польскую армию и призываться через смешанные советско-польские пункты призыва или через призывные комиссии, созданные при советских военкоматах. Польское правительство считало указ/закон Президиума Верховного Совета СССР 1939 г. о наделении советским гражданством всех жителей Западной Украины и Западной Белоруссии, находившихся там на 1 – 2 ноября 1939 г.,неправовым, незаконным актом, который к тому же ограничивал возможную численность призывного контингента. На формирование армии было передано 25115 военнопленных и объявлен призыв польских граждан через военкоматы. Остроту проблемы сняла уступка, сделанная в декабре 1941 г. советским правительством: изъятие из указа Верховного Совета пункта о гражданстве. Она позволила зачислять в польскую армию поляков по национальности, проживавших на Западной Украине и в Западной Белоруссии.
В армию вступали люди разных политических ориентаций: освобожденные из лагерей и ссылок организаторы и участники подпольного Союза вооруженной борьбы, представители левых и правых довоенных политических партий. Под польскими знаменами собрались противники и сторонники Сикорского, людовцы, социалисты и коммунисты. Вступали и те, кто собирался их вешать в освобожденной Польше, что грозился сделать (правда, в подпитии) шеф штаба армии Л. Окулицкий. Это формировало непростой внутренний климат в войсках.
Ко всему прочему, командование польской армии не удовлетворяли квартирмейстерские условия и климат мест формирования— Саратовской и Оренбургской областей. Морозы в тот год стояли в Поволжье в 30 градусов с лишним. Андерс уверял, что 50 градусов.
Угроза английским колониальным и «мандатным» владениям на Ближнем Востоке со стороны держав «оси», стремление Германии через Африку прорваться к нефти Ирана и Ирака, прервать через Суэцкий канал связи с Индией, трудности доставки на восток новых контингентов английских войск натолкнули Черчилля на мысль заполучить польские войска из СССР. В акцию включились посол С. Кот, посол Великобритании С. Криппс и представитель правительства США. После консультации с Ф.Рузвельтом уполномоченный президента по ленд-лизу А. Гарриман направил Сталину личное послание, в котором откровенно заявил о заинтересованности США и Англии в переводе польской армии под командование западных союзников. Столь же открыто был объявлен и адрес —в Иран. Маскировалось это якобы стремлением облегчить колоссальную нагрузку на ресурсы Советского Союза, уверением, что перевооружение поляков не повлечет за собой перебоев в снабжении СССР, а польские части после перевооружения вернутся в СССР.
12 ноября послание было передано Сталину. Создавалась обстановка, которая не способствовала успешному сотрудничеству. Сталин ответил Гарриману: «Я еще не имел возможности ознакомиться в подробностях с вопросом о поляках в СССР. Через 2 – 3 дня, изучив вопрос, извещу Вас о позиции советского правительства. Во всяком случае, можете не сомневаться, что пожелания поляков и интересы дружественных отношений между СССР и Польшей будут безусловно учтены советским правительством».
Изъявил желание лично разрешить возникшие проблемы премьер-министр В. Сикорский. Польский посол по поручению Сикорского 1 ноября направил в НКИД ноту, в которой выдвинул четыре предварительных условия, выполнение которых определит, прибудет или нет Сикорский в СССР для разрешения возникших проблем в отношениях. Это были те же вопросы 1. «окончательного выполнения Указа Президума Верховного совета СССР об амнистии», 2. «использование в формирующихся польских единицах… всех польских граждан, годных к военной службе, а, следовательно, и польских граждан, заключенных в «стройбатальоны» и «рабочие колонны». Третий вопрос касался передислокации арм-ии. Четвертый требовал вывода 15—20 тысяч солдат-нота была оригинальна – в Великобританию и Египет. Подчеркивалось, что особо важными были второй и четвертый пункты. В ответной ноте 8 ноября НКИД СССР сообщил, что «советское правительство может лишь подтвердить, что оно готово видеть господина Сикорского в СССР в качестве своего гостя в любое время по его желанию», но не видит необходимости связывать вопрос «о дате приезда господина Сикорского в СССР с заявлением со стороны правительства СССР о его принципиальном согласии по вопросам, изложенным в параграфах 1 – 4 Вашего письма, и считает нужным исходить… из соглашений, заключенных между правительствами СССР и Польши».
Обстановка неустойчивости и недоверия продолжалась. В Кремль был приглашен польский посол. Сталин принял его 14 ноября. После визита Кота в Москву (дипломатический корпус и часть государственных учреждений были эвакуированы в Куйбышев/Самару) Гарриман получил отрицательный ответ: господин Кот не затрагивал вопроса выхода польского войска в какое-нибудь другое место. Кот понимал, что у советской стороны нет намерения избавиться от польских войск, однако он «надеялся, что под иностранным нажимом она согласится на вывод армии… но ограничиться имеющимся небольшим числом (уже призванных – ) и упустить остальных было бы для нас страшным поражением». Поэтому, чтобы получить согласие Сталина на увеличение контингента польских вооруженных сил, он умолчал об их выводе. Так Кот объяснял свою тактику во время беседы Рачиньскому: «Необходима большая осторожность». Кот предлагал своему министру иностранных дел, чтобы до беседы премьер-министра Сикорского со Сталиным Гарриман временно прекратил свои усилия добиться вывода польских частей в Иран. Так что польский посол явился в Кремль «с камнем за пазухой», с недобрыми намерениями увести армию из Советского Союза, и говорил надменно от имени премьера, равного персонам «большой тройки» – человека, который вместе с ними будет определять послевоенную организацию мира. А услышал от собеседника, что тот мечтает принять участие в восстановлении Польши, чтобы она встала с колен, и уже в 1940 г. он лично вел переговоры о создании в СССР польских военных формирований. Сталин подчеркивал, что СССР будет делиться всем, что в данный момент имеет. Но ставить польские войска в привилегированное положение не будет: все как у Красной армии. Польской стороне напомнили, что она забывает о том, какую тяжелую СССР ведет войну и каково положение на фронте. Относительно же формирования польских войск все, что следовало по протоколу №1 смешанной советско-польской комиссии, утвержденному советским правительством, выполнено. Если польская сторона не удовлетворена этим, пусть выдвигает предложения для обсуждения и заключения новых соглашений. Советский Союз в принципе не возражает создать возможно большую по численности и боеспособную польскую армию. Ушел С. Кот с согласием обсудить все поставленные вопросы, получил добро на эвакуацию контингента в 15 – 20 тыс. солдат, что предусматривалось военной конвенцией, но отказался решить «сегодня» и «здесь» остальные военные вопросы, оговорившись, что оставляет их на усмотрение Сикорского. По дипломатическим каналам не удалось урегулировать спорные «военные» моменты. Оставались открытыми и принципиальные вопросы советско-польских межгосударственных отношений. В.П.
1.7. Визит премьер-министра В. Сикорского в Москву
Сикорский после инспекции польских частей в Тобруке и на Ближнем Востоке прибыл в Куйбышев (Самару) и 30 ноября 1941 г. был принят председателем Президиума Верховного Совета СССР М.И.Калининым. 3 декабря его в Кремле принимал И.В.Сталин в присутствии В.М.Молотова. Сикорского сопровождали В. Андерс и С. Кот. Первый визит главы польского правительства в СССР по мнению газеты «Правда» (30 ноября) должен был иметь большое значение «для укрепления дружественных отношений между обоими правительствами, а также для дальнейшего ведения войны против нашего общего врага». 3 – 4 декабря на встречах со Сталиным Сикорский имел возможность обсудить все нерешенные вопросы советско-польских отношений: о границах, о заключении договора о дружбе и т.д., но беседа, временами острая, на грани разрыва, по инициативе польской стороны сконцентрировалась на обсуждении проблем армии и польского населения в СССР.
Хотя в начале беседы для создания приятной атмосферы Сталин сделал реверанс в сторону Сикорского, сказав, что его труды хорошо знакомы русским военным, их изучают в Академии Генерального штаба, стороны долго не могли понять друг друга. И дело было не в языковом барьере. В отчете о переговорах написано: «Беседа велась на польском языке». (На встрече не функционировал официальный переводчик.) Но столь же успешно она могла идти только на русском языке. Это был родной язык матери Сикорского (Козловой) и его буквально, как говорят немцы, Muttersprache/34/. Переводил и участвовал в дискуссии Андерс, Кот не открывал рта, он русского не знал. (Андерс в мемуарах пытался убедить читателя, что и Сикорский русского не знал.) С другой стороны, и Сталину, не однажды побывавшему в Польше (не только в Привислинских губерниях, в Варшаве, но и в Кракове, в Галиции, тогда формально еще в Австро-Венгрии, где он к тому же писал свой труд «Марксизм и национальный вопрос»), польский, оказывается, был не чужд. Впоследствии визитеры из другого польского лагеря отмечали, что Сталин исправлял переводы толмачей. Миколайчик признавалcя впоследствии историку Заводному, что 9/10 членов его правительства не знают столько о Польше, сколько знает Сталин. Дело было в другом. Сикорскому надо было выполнить требование Черчилля, желавшего получить под английское командование польские части из СССР, а это было нарушением советско-польских договоренностей.