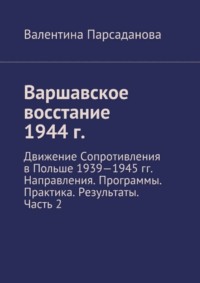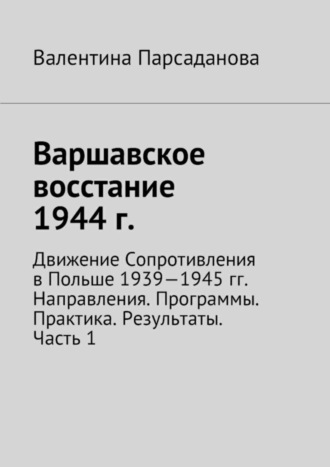
Полная версия
Варшавское восстание 1944 г. Движение Сопротивления в Польше 1939-1945 гг. Направления. Программы. Практика. Результаты. Часть 1
Сикорский исходил из возможного поражения Советского Союза (гитлеровские войска стояли на подступах к Москве), рассчитывал, что тяжелая военная ситуация вынудит СССР принять польские требования. Он не предполагал, что до великого наступления под Москвой оставались часы и, еще покидая нашу страну, он будет поздравлять Сталина с разгромом немецко-фашистских войск под Москвой.
Сталин на переговорах держался уверенно, твердо, демонстрировал абсолютную убежденность в победе над Германией: «Русские были в Берлине два раза, будут и в третий». Польское участие в войне не имеет особого значения для СССР: «Если поляки не хотят (драться – ), то мы обойдемся и своими дивизиями… В Иран, так в Иран, пожалуйста». Это относилось и к будущему: «Мы возьмем Польшу и передадим вам через полгода. У нас войска хватит, без вас обойдемся. Но что скажут тогда люди, которые узнают об этом? А польским войскам, которые будут находиться в Иране, придется бороться там, где этого пожелают англичане». В. П. 13
(Сикорскому в Москве показали, что в СССР есть и другие польские политические силы. Он прочитал и газеты с выступлениями В. Василевской и других львовян на Славянском митинге. Скомканная газета с эмоциональными комментариями полетела в сотрудника НКИД.)
Вывод армии, – заявила советская сторона на переговорах, – это предложение Англии, которая, оказавшись в трудных условиях, хочет польскими руками обеспечить британские интересы на Ближнем Востоке. Между тем использование польских войск на советско-германском фронте, в военном отношении имеющее незначительный эффект, политически будет способствовать установлению хороших отношений между Польшей и СССР. Отказ же польского правительства повредит советско-польским отношениям, общему делу союзников, их единству в борьбе против фашизма. «Наступил драматический момент» – записано в одном из отчетов о переговорах.
Сикорский отступил. Понимая, что только в СССР имеются резервы для польской армии, а Сталин обещает ее увеличение до 96 тыс. Сикорский заменил вопрос о выводе армии ее передислокацией в южные районы СССР. И получил на ее дальнейшее развитие беспроцентный заем в 300 млн рублей. (А также заем на помощь польскому гражданскому населению и тоже беспроцентный.)
Сталин снова взял тональность благоприятствования, обаяния собеседника, подчеркивал общность государственных интересов обеих стран в борьбе с политикой Drang nach Osten. Одно из средств ее пресечения— возвращение Польше ее исторических пястовских земель до реки Одер/Одры, некогда захваченных Пруссией, ликвидация Восточной Пруссии и передача ее Польше. (Идену через несколько дней уточнили: ее части.) Сталин заявил Сикорскому о возможности корректировки советско-польской границы, в частности об эвентуальной передаче ей Львова.
Вариант некоторых территориальных предложений Польше рассматривался тогда советским руководством. Это подтверждают и материалы, переданные Идену в Москве (варианты: или Львов, или Белосток с Вильно/Вильнюсом). Заинтересованное в совместных военных действиях польских и советских дивизий на восточном фронте, советское руководство, по словам Молотова, в этом случае видело возможность «полюбовного и на основе взаимности решения» вопроса о границе при одновременном расширении территории Польши за счет Германии /49/. Считали, что это будет возможно, когда части польской армии выйдут на фронт и боевое единство станет реальностью. Сикорский отказался обсуждать проблему границ, ссылаясь на конституционные положения, но обещал вернуться к этой проблеме в будущем. Он надеялся, что в условиях победы западных союзников конъюнктура для Польши будет более оптимальной. Главнокомандующий Красной армией сообщил, что он предоставит польским войскам право первыми войти в Польшу и в Варшаву. Видя благоприятное отношение советского правительства, получив два беспроцентных займа и согласие на увеличение армии до 96 тыс., Сикорский, вопреки договоренности с Черчиллем, заявил, что армия останется в СССР и примет участие в боях на советско-германском фронте.
4 декабря Сталин и Сикорский подписали Декларацию о дружбе и взаимной помощи. Правительства СССР и Польши заявляли, что «оба государства, совместно с другими союзниками, будут вести войну до полной победы над немецко-гитлеровским империализмом и до окончательного уничтожения фашистских захватчиков». Они будут оказывать «друг другу во время войны полную военную помощь, войска Польской республики, расположенные на территории Советского Союза, будут вести войну с немецкими разбойниками рука об руку с советскими войсками». Основой взаимоотношений в мирное время предполагались добрососедское сотрудничество, дружба и обоюдное честное выполнение принятых на себя обязательств /50/. Таким образом создавались политико-юридические предпосылки для коренного переворота во взаимоотношениях, основа которого была в общности целей в войне.
Однако на переговорах Сикорский передал Сталину список из 3845 офицеров (107 номеров оказались повторенными дважды), «интернированных и вывезенных в Старобельский, Козельский и Осташковский лагерь и в апреле-мае 1940 г. вывезенных в лагеря принудительных работ на Дальний Восток и Север, не освобожденных до 01.12.1941», которых разыскивает Андерс для призыва на действительную службу. В марте 1942 г. Андерс, в присутствии Окулицкого, передал список уже на 8 тыс. фамилий. Так началась ныне известная история «Катынского дела» о трагической гибели польских офицеров. Хотя Сталин именно 3 декабря 1941г. получил справку о судьбах польских военнопленных сентября 1939 г., «причесанная» советская запись переговоров 3 декабря уже носит черты сокрытия этого военного преступления и только намек, да и не в действительной хронологической последовательности, на разыгранную сцену, что все освобождены по амнистии, а не найдены, потому что бежали в Маньчжурию. Через пару дней с согласия Молотова работники НКИД в Куйбышеве/Самаре получили «указание»: «Возвращаться к этому вопросу по нашей инициативе не следует. Отвечать сейчас не имеет смысла, а по существу на этот вопрос дан ответ в Лондоне». «Ответ» Молотова советскому послу для передачи в Лондоне Сикорскому 11 июля 1941г. был аналогичным: «Повторяю, что польских военнопленных в СССР только 20 тыс., а остальные отпущены или разбрелись сами, так как советское правительство не намерено держать их в качестве военнопленных». /35/
4 декабря на заседании смешанной комиссии по формированию польской армии (Панфилов, Жуков, Совицкий, Андерс, Шишко-Богуш, Окулицкий) было решено довооружить 5-ю дивизию. В дополнение к уже существующим двум пехотным дивизиям сформировать четыре пехотных дивизии, итого – шесть. Формирование седьмой дивизии иметь в перспективе, в зависимости от наличия людских резервов, возможных условий развертывания и вооружения. Одновременно в принятом протоколе №8 было опять записано, как и 8 августа 1941г., когда Андерс представил польские основные принципы для заключения военного соглашения: «Принять к сведению заявление главнокомандующего польской армией генерала Андерса о том, что вооружение для остальных пяти дивизий будет идти за счет вооружения, получаемого из Англии и США для польской армии». К 15 декабря надлежало определить сумму дополнительного кредита на содержание польской армии и возбудить вопрос перед советским правительством об отпуске кредита.25 декабря постановление ГКО придало силу закона всем достигнутым договоренностям. Вновь создаваемые дивизии надлежало дислоцировать в четырех среднеазиатских республиках.
Но оружия ни от Англии, ни от США не поступило. Вторую, уже сформированную дивизию, вооружил СССР.
Сикорский совершил инспекционную поездку по местам формирования польской армии. К приезду Сикорского Берия представил Сталину записку о состоянии польской армии. Она сообщала, что лимит призыва превышен и в армии уже 40961 человек – 1965 офицеров, 11919 унтер-офицеров и 27077 рядовых, сформированы две дивизии —5-я и 6-я, запасной полк, штаб армии. Солдаты и командиры, особенно 5-й дивизии, выражали желание своему главнокомандующему выйти на фронт. Сикорский провел также ряд совещаний с советскими военными, с Главным командованием Красной армии. Результатом стали соглашения о более конкретном взаимодействии в борьбе против гитлеровской Германии. Сикорский заключил соглашение с Главным командованием Красной армии, от имени которого выступал генерал, комиссар госбезопасности 3-го ранга Г. С. Жуков, начальник 1-го отдела Управления (контрразведки) НКГБ СССР, уполномоченный Ставки Верховного главнокомандования по польским военным формированиям. Соглашение касалось разведывательной работы в Польше. Переговоры о получении разведданных из глубокого немецкого тыла начались еще в сентябре 1941 г. Непосредственный контакт с Сикорским активизировал ход переговоров. На основе достигнутых договоренностей 4 февраля 1942 г. было подписано соглашение о радиосвязи между Москвой и Варшавой. Для ее обеспечения в Серебряном Бору заработала польская радиостанция «Висла». По приказу Сикорского все сведения передавались только через Лондон, то есть через английскую и польскую цензуру, шли через польское командование в СССР к представителю советского командования и обратно тем же «маршрутом», что задерживало сообщения, а часто лишало их актуальности. Только в неотложных случаях возможен был непосредственный контакт. Было достигнуто также соглашение о разделении сфер и территории действий партизанских отрядов. Линией раздела была признана граница 1921 г. Советская сторона обещала не организовывать самостоятельно диверсий на польских землях в границах 1939 г. Польская сторона обещала в силу своих возможностей оказывать содействие в проведении диверсионных акций на территории Германии и некоторых других оккупированных ею стран. В свою очередь, комендант СВБ получил приказ энергично бороться со всеми, кто сотрудничает с НКВД, до кары смертью включительно. Речь шла о том, что польская сторона просила организовать эстафетную связь из СССР с Польшей через линию фронта. Сикорский выступал за сведение в этом случае до минимума советского сотрудничества с польским подпольем. Сбросы советских парашютистов, например, 10 сентября 1941 г. в районе Влошчовы, он считал нарушением советско-польских соглашений, признававших суверенность польского государства. Все советско-польское военное сотрудничество должно идти только через контроль главнокомандующего, а именно Сикорского, то есть через Лондон /36/. Но он не считал нарушением суверенитета Советского Союза свой приказ Андерсу создать в СССР сеть разведки, которая будет необходима на период восстания в Польше и сохранится в послевоенное время.
Сикорский был доволен результатами визита в СССР. В письме Черчиллю он писал: «Мне представляется, что мой визит в Россию закончился решением почти всех нерешенных польско-советских проблем и принесет также некоторую пользу для союзников». Сикорский уехал с убеждением, что с СССР надо заключить длительный союз на антигерманской основе. И навсегда покончить с довоенной санационной политикой Ю. Бека – лавированием между двумя врагами и авантюрами в отношении советского государства типа похода на Киев в 1920 году. «Не забывая о роли Советов в последние годы, одновременно мы должны прокладывать дорогу в будущее, сглаживая отношения между нами». «Если бы нам, – говорил Сикорский в отчете о поездке на заседании правительства, – удалось дойти до честного выравнивания отношений между нами и Россией, это был бы поворот исторического значения». При этом он подчеркивал, что его нынешняя политика является противодействием стремлениям польских коммунистов. Она должна нейтрализовать расчеты коммунистов, ожидающих освобождения с Востока. Сикорский бросил поспешное замечание: «Хочу решительно подчеркнуть, наша нынешняя политическая линия прямо направлена против польских коммунистов и конъюнктурных сторонников Советов, которые в Польше ожидают освобождения с Востока. Демаркационная линия среди эмиграции в России между слабенькой группой Ванды Василевской и подавляющим большинством патриотов —четкая и бесспорная. Первая исключена из польской общности. Равным образом решительно осуждены несостоявшиеся попытки создания красных польских отрядов, которые должны были стать составной частью советской армии».
Желая договориться с Россией Сталина на длительный срок, он тем не менее продолжал придерживаться политики не пускать СССР в Европу: «Польско-советская граница должна остаться тем, чем она была на протяжении веков, а именно границей западно-христианской цивилизации». Источником возможных конфликтов он усматривал, кроме пограничных споров, российский панславизм. «Белый или красный, он для нас, как западных славян, опасен». А главное – навязывание Польше коммунистического строя: «Я убедился в России, что коммунистический строй совершенно не устраивает поляков». В области внешней политики главным союзником для Сикорского оставалась Англия. Являясь реалистом, Сикорский считал, что неизвестно, какой Польша выйдет из войны. Решит все реальный расклад сил в конечной фазе. Но он надеялся, что сильной, с гарантиями безопасности, с возвращенными ей на Западе прастарыми славянскими землями, с границей 1921 г. на Востоке, с сильной армией и сильными союзниками на Западе. И если Сталин от прекрасных речей возвратится как победитель к захватническому империализму, ныне более националистически российскому, чем коминтерновскому, Польша сама сможет дать отпор /37/.
Столь высоко оценивая роль Польши в мире и ее возможности, Сикорский, узнав, что Молотов должен нанести визиты в Лондон и Вашингтон для заключения союзных договоров, 17 декабря 1941 г. обратился к Идену с требованием превратить «трио» в «квартет» с его участием. «Я считаю необходимым и обязательным, чтобы Польша была четвертым подписантом (sygnotariuszem) и участником в пакте, который, по-видимому, должны заключить Великобритания, Соединенные Штаты и СССР». Иден ответил дипломатично, но решительно: нет.
Встреча Сикорского с В. М. Молотовым в Лондоне состоялась. Во время беседы с Молотовым Сикорский в проволочках снабжения польских частей в СССР обвинил Англию, которая не поставляет оружия. С обвинениями он обрушился и на СССР, дескать, тот нарушает договор с Польшей о разграничении зон действий в немецком тылу, без согласия польского правительства сбрасывает парашютистов в район Люблина и Холма (Хелма), что повлекло за собой гитлеровскую облаву на 12 деревень.
Польская сторона столь же игнорировала эту «демаркационную» черту, организовав в ноябре 1941 г. акцию «Вахляж» на бесспорно советской территории. (Цель —охрана будущего восстания.) Грот-Ровецкий возмущался, почему советские партизаны требуют от отрядов СВБ (АК) мандатов от ППР на право действовать на территории БССР и РСФСР, когда они доходили чуть ли не до Московской области. Грот-Ровецкий протестовал против переброски советских разведчиков в Польшу и кадров для ППР— Польской рабочей партии. Ровецкий хотел, чтобы эмигрантское правительство добилось «от большевиков уважения наших диверсантов, действующих, естественно, без условия сотрудничества с советскими отрядами»/38/ Посольство в Москве также выразило НКИД протест против сбросов советских парашютистов. В стране орган Делегатуры «Rzeczpospolita Polska» пытался очернить их. В передовой статье «Вокруг вопроса о польско-советских отношениях» 16 сентября 1942 г. он писал: «Советские диверсанты, число которых выросло, и они хорошо вооружены, с немцами не борются», что они «бедствие страны». «Бюлетын информацыйны», орган АК, в июне 1942 г. выступил против партизанской борьбы в Польше, объявив ее «советской диверсией», а бойцов – «бандитами».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
СССР предлагал Польше помощь в отражении предстоящей агрессии в пятый раз на переговорах в Москве военных миссий трех стран. Последний раз – шестой – уже скорее формально 21 августа без надежды на успех, хотя французская делегация получила мандат на подписание соглашения, английская —нет.
2
Служба внешней разведки РФ. Архив СВР России. Секреты польской политики. Сб. док. (1935 – 1945). М., 2009., с.8.
3
Подписание этого документа не означало ревизии антисоветской политики нацистов и целей Германии. Свидетельствует об этом высказывание Гитлера 11 августа 1939 г: «Все, что я делаю, направлено против России. Если Запад слишком глуп и слеп, чтобы понять это, я буду вынужден договориться с русскими, забить Запад и затем, после его разгрома, концентрированными силами обратиться против Советского Союза. Мне нужна Украина, чтобы нас не уморило голодом, как в прошлой войне»/2/.
4
Об истинных планах нацистов говорил Гитлер в январе 1941 г. на совещании военного командования: «Англию поддерживает только надежда на США и Россию. Ныне Россия должна быть разбита… Лучше это сделать сегодня, когда русская армия лишена командиров и слабо вооружена и когда русские с большими трудностями и с иностранной помощью расширяют промышленность вооружения. Важнейшая задача – быстро отрезать прибалтийский регион, для этого правое крыло продвигающихся севернее Припяти германских сил должно быть особенно усилено. Цель операции – разгром русской сухопутной армии, занятие основных промышленных районов и разрушение остальных, прежде всего в районе Екатеринбурга, кроме того должен быть занят район Баку». На блицкриг по разгрому СССР план «Барбаросса» отводил максимум пять месяцев. Иные горячие головы (Гитлер) считали, что достаточно будет трех недель (ДВП. Т. ХХ111. Кн.2. Ч.2.С. 821.; Безыменский Л. А. Германские генералы с Гитлером и без него. – М., 1961.,с.158).
5
11 апреля 1939 г. Гитлер утвердил «Директиву о единой подготовке вооруженных сил к войне на 1939/1940 гг.». 10 мая был подписан дополнительный документ об экономических целях в предстоящей войне. Он предписывал захватить польские промышленные предприятия «по возможности неразрушенными». Быстро овладеть промышленными районами— Силезско-Домбровской и Тешинской областями, имевшими «большое экономическое значение». Недаром гитлеровские коммандос при поддержке местных немцев (фольксдойче) в Силезии начали операции еще 25 – 26 августа 1939 г. (Павлов Н. В. История внешней политики Германии от Бисмарка до Меркель. – М., 2012.,с. 137).
6
Мосьчицкий Игнацы (1867 – 1946) – пилсудчик, президент Польши с 01.06.1926 по 29.09.1939, химик, профессор Львовской политехники с 1912 г. После бегства в сентябре 1939 г. из Польши жил в Швейцарии, гражданином которой оказался. В итоге дипломатической и политической борьбы в эмиграции по антидатированному акту 29.09 передал свои президентские полномочия другому пилсудчику – адвокату В. Рачкевичу (1885 – 1947), неоднократному министру внутренних дел, в 1930 – 1935 гг. маршалу Сената.
7
Рыдз-Смиглы Эдвард (1886— 1941, Смиглы— его кличка времен легионов и Первой мировой войны) —преемник Пилсудского и фактический диктатор Польши с 1935 г. Систематического военного образования не имел. По профессии – художник и слушатель философского факультета Ягеллонского университета. Сын и внук кузнецов, родился в униатской семье, его рабоче-крестьянское происхождение обыгрывалось в 30-е годы санационной пропагандой. Участник Первой мировой и Советско-польской войны 1920 г., во время которой был самым успешным военачальником, провел ряд крупных военных операций: взял Вильно, Киев, разгромил Западно-украинскую народную республику и т. д. Проведение Рыдзом отступления от Киева войск его фронта высоко оценил в своих трудах Пилсудский. И даже Сталин. В ответ на критику Рыдза польским премьер-министром Сикорским в декабре 1941 г. он заявил: «Ну он же в 1920 году сохранил свою армию в Киеве». В записи Андерса: «Ну, Смиглы-Рыдз – неплохой командир, в 1920-м он успешно командовал на Украине». Противостоял войскам Рыдза советский фронт, которым командовал А. И. Егоров, а членом Военного совета был Сталин. 17 сентября и в ночь на 18-е польское правительство, командование армии и значительное число ее персонала перешли в Румынию. Но выехать во Францию не удалось. По настоянию Германии они были интернированы. Рыдз еще на территории Польши отдал приказ о создании подпольной военной организации. Через несколько месяцев по тропам контрабандистов он бежал в Венгрию. Оттуда после нападения Германии на СССР тайно перебрался в Польшу, желая продолжить борьбу против гитлеровцев. По приказу Сикорского командование подпольных вооруженных сил (лично Ровецкий) ему в этом отказало. Рыдза скосил инфаркт. Похоронили его под чужим именем. Всю жизнь он писал стихи, пейзажи родной Западной Украины и историческую живопись. В политике ориентировался на Францию. 7
8
КазимежСоснковский (1885 – 1969) – генерал, с 1904 г. в ППС, один из руководителей ее боевой организации. Сотрудничество с Пилсудским привело его в легионы (начальник штаба I бригады). В 1917 г. он был арестован немцами и вместе с Пилсудским интернирован в Магдебурге. В 1920 г. —член Совета обороны государства и командующий юго-восточным фронтом, в 1921 – 1924 гг. – военный министр, в 1939 г. – командующий армейской группировкой «Юг». С октября 1939 г. в эмиграции, сначала во Франции, затем в Великобритании. После Второй мировой войны жил в Канаде. Свой архив завещал Народной Польше.
9
«В мировой киноклассике Кенан Кутуб-заде прежде всего значится как главный оператор фильма „Лагерь смерти „Освенцим““. Уже на второй день после взятия танкистами маршала Рыбалко лагеря смерти „Аушвиц-Биркенау“ кинооператоры Кенан Кутуб-заде и Николай Быков вошли в освобожденный концентрационный лагерь. „Я был с танкистами, – вспоминал Кенан Абдуреимович, – которые ворвались в Освенцим, когда еще дымились печи. Когда увидел детей, на которых фашисты ставили свои опыты, увидел горы обуви и волос, думал, сердце остановится. Снимал и плакал…“ Работали над фильмом 35 дней. Николай Быков не выдержал, уехал, хотя с боями прошел всю войну». Ю. Щербаков. К 110-летию Кенана Кутуб-заде. // СК-Новости, №9 (347), 15.09.2016.
10
Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ), ф. 89,оп. 48,д. 6,л. 1.
11
Armia Krajowa w dokumentach, t. 1, l. 1971, s. 490 – 491 (AK w dokumentach T…).
12
Андерс Владислав (1892 – 1970) —из семьи немецких прибалтийских помещиков. Учился в царском пажеском корпусе и военной академии. Кавалерист. Служил в молодости в российской царской армии. По возвращении в Польшу – в немецкой, затем в польской армии. Участник Польско-советской войны 1919 – 1921 гг. К сентябрю 1939 г. – генерал, командир кавалерийского корпуса, ранен в стычке с украинским отрядом-бандой. Пошел в плен. Вылечен в советском госпитале во Львове, где обратил на себя внимание руководителя наркомата внутренних дел УССР И. Серова («генерала Иванова»), на Лубянке – Л. Берии. После амнистии —командующий армией. Польские биографы пытаются представить Андерса сыном скромного бухгалтера или что-то в этом роде и студентом рижских учебных заведений. В 1942 г. для подтверждения своей «польскости» перешел из протестантизма в католицизм.
13
Вера в победу была не дипломатическая. Еще готовя советское контрнаступление под Москвой, которое, как известно, началось 5 декабря, через несколько часов после второй встречи с Сикорским (4 декабря в составе польской делегации был и начальник штаба армии Л. Окулицкий), Сталин приказал направить во все армии, которым предстояло наступать, кинооператоров «запечатлеть для истории» битву под Москвой. В условиях сильных морозов, когда замерзали механизмы кинокамер, а из-за снежных заносов приходилось совершать длительные переходы на лыжах и пешком с грузом громоздкой тогда аппаратуры на плечах, 15 операторов вели съемки. Кинооператоры засняли первые населенные пункты, отбитые у врага, первые трофеи советских войск, брошенную немецкую технику. Впервые на экране открылось лицо фашизма, его зверства. Фильм о победе был смонтирован уже к 12 января 1942 г.и показан Сталину. После внесения всех его поправок, он был распечатан в количестве 800 копий и показан в СССР в день ХХIV годовщины РККА. Эта картина— свидетельство первой крупной советской победы, развеявшей миф о непобедимости немецкой армии – вызвала огромный политический резонанс за рубежом. Она демонстрировалась в 28 странах. Только в Англии и США ее просмотрели более 16 млн зрителей. Она способствовала перелому на Западе в оценках сил Красной армии. Сталин часто показывал ее гостям: «Один хороший фильм стоит нескольких дивизий» («СК-новости», №5 /331/. 15.05.1915). Когда-то режиссер фильма И. Копалин, рассказывая авторуо создании фильма, сказал о такой детали политической заинтересованности вождя этой документальной лентой. Парад на Красной площади 7 ноября 1941 г. готовился в тайне. Киношникам сказали о нем и об их задании «впритык», и они… опоздали на Красную площадь. Сталин уже произнес речь. Он согласился ее повторить. Дотошные наблюдатели могли заметить, что в кадре не было характерного «облачка» у рта говорящего на морозе человека. В 1943 г. Американская академия кинематографических искусств и наук присудила премию «Оскар» документалистам Леониду Варламову и Илье Копалину за фильм «Разгром немецких войск под Москвой». Первый раз – иностранному фильму, первый раз – советскому фильму. Характерно, что в дни советского контрнаступления под Москвой с экранов гитлеровской Германии исчезли репортажи с восточного фронта. В печати же появилось сообщение министра пропаганды Геббельса, что в России, особенно под Москвой, стоят сильные морозы, которые препятствуют работе киносъемочных аппаратов. Приехавшего в Москву в том же декабре 1941г. английского министра Э. Идена по его просьбе возили на поля недавних сражений, показывали ему следы панического бегства вермахта. Переговоры с Иденом в Кремле прошли вполне благополучно. Под впечатлением увиденного он и составил записку в правительство в январе 1942 г.: принять все требования СССР в вопросе о границах.