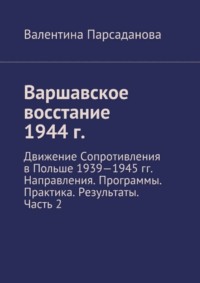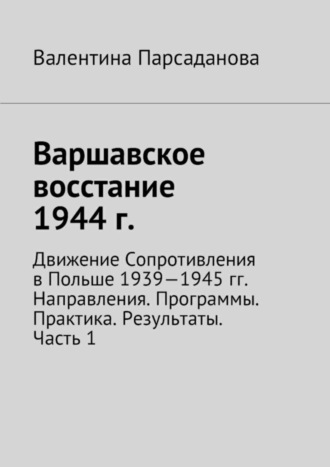
Полная версия
Варшавское восстание 1944 г. Движение Сопротивления в Польше 1939-1945 гг. Направления. Программы. Практика. Результаты. Часть 1
В связи с новыми тенденциями польское подполье в СССР получило указание генерала К. Соснковского: «Всякие попытки создания красных польских правительств или красных польских отрядов должны встретиться с безусловным противодействием… Изменение отношения к Советам не является актуальным». Как признавал Соснковский, не исключено, что Россия будет рядом с Англией в качестве ее союзника в борьбе с Германией; тогда, возможно, и произойдет ревизия польской позиции в отношении СССР «в смысле того, что сведение счетов с оккупантами будет отодвинуто на задний план. Нормативные отношения с СССР возможны лишь на условиях статус-кво до 17 сентября 1939 г. В случае марша Красной армии на запад необходимо быть готовыми к борьбе в форме партизанских действий и массового саботажа» /22/. Эти директивы были повторены в программных тезисах правительства от 15 августа 1940 г.
С весны – лета 1940 г. началось ускоренное строительство на новых западных границах укреплений, аэродромов, рокадных дорог. Приложенный к советско-германскому договору от 28 сентября 1939 г. протокол о борьбе с польской национальной агитацией изначально сторонами не соблюдался. Советская сторона уже с ноября 1939 г. принимала меры к засылке в Польшу через Литву офицеров бывшего Войска Польского для организации подполья и борьбы против Германии. Многие инициаторы создания действовавших в Польше прокоммунистических групп – предшественниц Польской рабочей партии – также побывали сначала во Львове, Белостоке или Минске. Советские представители внимательно следили за мероприятиями германских властей на оккупированной территории Польши. Советские пограничные органы отмечали, что нормальных отношений между Германией и СССР не было уже с весны 1940 г. (стычки на границе, облеты территории, засылка групп в СССР и т. д.). На партийных форумах во Львове открыто говорилось о подготовке к предстоящим боям именно с гитлеровцами, о «пылающем» положении на границе, «которое нельзя назвать мирным сосуществованием» Из 1596 немецких агентов, арестованных в 1940 – марте 1941гг., 1338 были взяты на Западных Украине и Белоруссии и в Прибалтике. За шесть последних недель 1939 г. немецкая сторона 14 раз открывала огонь по советским пограничникам. В 1940 г. таких фактов плюс обстрел территории было 235. Несколько немецких самолетов-разведчиков были сбиты или принуждены к посадке. В свою очередь, по неполным данным было раскрыто и осуждено около 300 советских разведчиков на территории Польши.
1939 – первая половина 1941 гг. были периодом зарождения антигитлеровской освободительной борьбы польского народа и конкретным воплощением «лондонским лагерем» в жизнь теории двух врагов. Условия оккупации и отчасти географические условия определили, что центром борьбы стало генерал-губернаторство. Политика гитлеровцев привела к тому, что все классы и прослойки общества заняли антиоккупационные позиции. Вместе с тем движение Сопротивления, его организации оставались кадровыми. Другой характерной чертой являлась чрезвычайная распыленность политических и военных группировок подполья. Их насчитывалось до 200—300. Распыленность определялась многими факторами, в том числе классовыми и общественными различиями предвоенной Польши, раздробленностью ее политической жизни, несовместимостью политических воззрений разных течений даже в условиях, когда на первый план вышли общенациональные задачи. Сказывалось также наличие установленных границ и ограничений в сообщении между разными регионами страны. Стихийное желание дать немедленный отпор угнетателям сочеталось с предшествовавшим историческим опытом, вылившимся в разработку все новых вариантов восстания в момент освобождения страны войсками союзников. Общим знаменателем в мозаике сотен конспиративных групп была антигитлеровская позиция. Различия в способах, методах и конечных целях борьбы не были еще определяющими. В политических взаимоотношениях минимальной была роль конечной цели освободительной борьбы – социально-политический облик будущей Польши. Вернее, господствующей была программа польского эмигрантского правительства. Ведущей силой Сопротивления, организационным и политическим центром был лагерь эмигрантского правительства. Оно определяло развитие польских общественных процессов. Близкое совпадение классовых интересов с общенациональными определяло достаточно высокую степень взаимодействия политических сил страны и этого лагеря. Реальной угрозы слева у него в тот период не существовало.
1.5. Нападение фашистской Германии на СССР. Восстановление советско-польских отношений. Соглашение о взаимодействии в войне против гитлеровской Германии
22 июня 1941г. в 4 часа утра (а на некоторых участках и ранее) гитлеровский вермахт вторгся на территорию Советского Союза силами 153 своих дивизий и 37 дивизий сателлитов. Всего —170 дивизий. Германия атаковала СССР практически на протяжении всей западной границы. Германский посол только в 5:30 официально уведомил НКИД об объявлении войны. Вместе с Германией войну СССР объявили ее союзники и сателлиты: Венгрия, Италия, Румыния, Финляндия, Словакия. Кроме того, на советско-германский фронт выступали фашистские отряды из Хорватии, Франции, Бельгии, Дании, Норвегии, испанская «Синяя дивизия», а также призванные в вермахт поляки (они воевали под Ленинградом и у Сталинграда). Гитлер объявил поводом для нападения несоблюдение Советским Союзом пакта о ненападении: сосредоточение частей Красной армии у восточных границ «сферы интересов Германской империи». Об агрессии германского фашизма и начале войны объявил по радио В. М. Молотов. Он заявил, что Красная армия и весь наш народ поведет победоносную Отечественную войну за Родину, честь и свободу. И бросил лозунг: «Враг будет разбит, победа будет за нами!» Известно, что поначалу военные действия сложились крайне неудачно для советской армии. Но общенациональная идея защиты Родины, выразившаяся в гимне той войны: «Идет война народная, священная война», сплотила все слои общества, сконцентрировала усилия и стала давать отпор. Ведь речь шла о жизни и смерти государства, о жизни и смерти народов СССР.
30 июня был создан Государственный комитет обороны (ГКО), получивший всю полноту власти в государстве. Возглавил его Сталин. Выступая 3 июля 1941 г., Сталин конкретизировал цели и задачи СССР в войне, ее характер для советского народа. Он повторил, что борьба против фашистского нашествия стала всенародной Отечественной войной. И прибавил, что в этой войне советский народ поставил целью не только ликвидировать опасность, нависшую над страной, но и помочь освободиться всем народам Европы, стонущим под игом германского фашизма.
Изменились в СССР и воззрения на характер самой войны. Она была признана для Советского Союза и его союзников войной справедливой, освободительной. Советское видение войны Сталин высказал 6 ноября 1941 г.: «У нас нет и не может быть таких целей войны, как захват чужих территорий, покорение чужих народов. У нас нет и не может быть таких целей войны, как навязывание своей воли и своего режима славянским и другим порабощенным народам Европы, ждущим от нас помощи. Наша цель состоит в том, чтобы помочь этим народам в их освободительной борьбе против гитлеровской тирании и потом предоставить им вполне свободно устроиться на своей земле так, как они хотят. Никакого вмешательства во внутренние дела других народов» (положения эти в слегка видоизмененных редакциях повторялись в 1942,1943, 1944гг. и выдерживались в стилистике Атлантической хартии) /23/.
Изменение геополитического и военного положения СССР после 22 июня 1941 г. потребовало изменения директив Коминтерна о войне. Димитров выступил перед Секретариатом ИККИ с докладом, который явно был согласован с Кремлем. В докладе он поставил перед компартиями новые задачи: развернуть широкую кампанию в поддержку СССР, организовать в оккупированных странах и в самой Германии национально-освободительное движение против фашизма. Снимался лозунг свержения капитализма и мировой революции: «Мы не будем на этом этапе призывать ни к свержению капитализма в отдельных странах, ни к мировой революции».
СССР официально заявил о признании Атлантической хартии, но оговорил, что практическое применение хартии «неизбежно будет сообразовывать с обстоятельствами, нуждами и историческими особенностями той или другой страны». Этими общими целями определялись и задачи советской дипломатии, призванной обеспечить наиболее благоприятные международные условия для борьбы против германского фашизма.
Нападение Германии на СССР в корне изменило расстановку сил на международной арене. За неделю до 22 июня Черчилль и Рузвельт пришли к соглашению, что в грядущей германо-советской войне они будут на стороне СССР. Англо-советское соглашение о взаимных обязательствах в войне против гитлеровской Германии от 12 июля 1941 г. и аналогичное соглашение правительства СССР с чехословацким эмигрантским правительством от 18 июля были первыми актами складывавшейся Антигитлеровской коалиции. Окончательно она определилась после нападения Японии на Перл-Харбор в декабре 1941 г. и вступления США в войну.
Военное сотрудничество стран, выступивших против гитлеровского блока, получило официальное оформление в подписании Декларации Объединенных Наций 1 января 1942 г. представителями 26 государств и союзных договоров СССР с Великобританией и США. Таким образом, произошло размежевание на международной арене. На одном полюсе – гитлеровская Германия с ее сателлитами, провозгласившая целью завоевание мирового господства, на другом— народы и государства, вставшие на защиту национальной независимости, демократических свобод, поставившие своей целью уничтожение гитлеровского «нового порядка». Из них только СССР, США и Великобритания могли действенно противостоять германскому Тройственному союзу, странам «оси».
Пока же Великобритания получила в Европе действительного и действенного союзника. Британский премьер-министр (с июня 1940 г.) У. Черчилль, узнав о начале советско-германской войны, провозгласил: «Англия спасена!» /24/. В 9 часов вечера 22 июня 1941 г. Черчилль выступил по радио и заявил о всемерной поддержке его страной борьбы советского народа против начавшегося германского нашествия. О Польше и ее границах ничего не было сказано, что вызвало немедленный протест польского министра иностранных дел. Английские эксперты и сотрудники Foreign Office высокого ранга (У. Стронг и другие) давно уже возвратились к идее «линии Керзона» как основы будущей советско-польской границы. Из речи премьера становилось ясным, что Британия считает СССР более важным союзником, чем Польшу. О поддержке СССР 24 июня 1941 г. объявило и правительство США.
«Лондонский лагерь» в Польше встретил известие о нападении гитлеровской Германии на СССР с удовлетворением. Большинство подпольных газет опубликовало статьи с пожеланием типа «пусть они убивают друг друга как можно больше». Руководство лагеря 26 июня выступило в подпольном еженедельнике «Biuletyn Informacyjny» с заявлением: «Относительно начала немецко-российской войны напоминаем, что польские компетентные власти в стране четко определили, что поляков на территории обеих оккупаций обязывает враждебный нейтралитет в отношении обоих захватчиков. Настоятельно подтверждаем, что если кто-нибудь из поляков осмелится добровольно помогать какой-нибудь из сторон, он будет считаться предателем».
Поддержка борьбы народов мира, заявления Рузвельта и Черчилля оказали влияние на позицию польского правительства в эмиграции. К 22 июня оно не определило точно своих позиций. Намеревалось объявить нейтралитет. Хотя 28 мая 1941 г. в письме Черчиллю Сикорский сообщал, что по имеющейся у него информации подготовка Германии к войне с СССР достигла заключительной фазы, в беседе с приехавшим в Лондон Криппсом, послом Великобритании в СССР, он сомневался в начале войны. 22 июня польское правительство (министр Залески?) направило в свои дипломатические представительства указание, что оно не будет сотрудничать с СССР. В речи же по радио 23 июня Сикорский под давлением Черчилля заявил о возможности возвращения к положению, которое существовало до 1 сентября 1939 г. /25/.
Советское правительство ответило согласием нормализировать отношения с правительством Сикорского, заявив, что если Сикорский пожелает, то Москва не возражает против заключения соглашения о совместной борьбе против гитлеровской Германии по образцу англо-советского соглашения. В документе НКИД от 3 июля 1941 г. были определены вопросы взаимоотношений на период войны и на послевоенное время. А именно: признание суверенитета и национальной независимости Польши (причем характер режима – внутреннее дело самих поляков),установление взаимной границы по этнографическому признаку. Выдвигался принцип национальной консолидации всего польского народа в границах национальной Польши. В вопросах борьбы против общего врага советское правительство предлагало помощь в создании польских вооруженных сил на территории СССР под патронатом Польского национального комитета /26/.
Переговоры в Лондоне о восстановлении советско-польских отношений (5 – 30 июля 1941 г.) вызвали в польском кабинете очередной правительственный кризис. Давление Англии и более трезвый взгляд центро-левой части правительства помогли преодолеть кризис и сопротивление санационных министров. Они демонстративно покинули его состав. Это были Соснковский, Залеский и представитель СН М. Сейда. Их выход из состава кабинета был решительно осужден руководством подполья в стране. Четыре партии сочли необходимым сохранение национального единства в эмиграции и в стране. Демонстрацию министров они посчитали трагической ошибкой и отсутствием политического чувства. «Министры, у которых так мало политического чутья, не должны возвращаться в правительство», – сообщил в Лондон делегат /27/. За Сикорского, за подписание соглашения с СССР выступили: «географически» – представители западной части Польши, включенной в состав Германии (Великая Польша), и земель, тогда входивших в состав Германии (Нижняя Силезия);политически – представители людовцев, Стронництва працы и ППС, кроме его правого течения ВРН-ППС в стране. Против были пилсудчики и Стронництво народове. Перестановки в правительстве лишили Соснковского поста верховного главы Союза вооруженной борьбы. Ровецкий теперь подчинялся непосредственно премьер-министру и главнокомандующему польских вооруженных сил В. Сикорскому.
Советская сторона в лице посла в Лондоне И. М. Майского продолжала изъявлять готовность восстановить отношения двух стран, подписать соглашение о взаимодействии в борьбе против Германии. По директиве НКИД Майский оперировал тезисом о консолидации всего польского народа в «границах национальной Польши», включая некоторые города и области, недавно отошедшие к СССР, в определении межгосударственного разграничения —придерживался этнического принципа. В ходе двусторонних переговоров приучастии Э. Идена, министра иностранных дел, и параллельно – встреч Криппса в Москве со Сталиным и Молотовым, определялись принципы отношений двух стран и фактически писался текст соглашения. Польский исследователь Я. Требинка в работе «Британская политика в отношении советско-польской границы» сообщает, что из Вашингтона поступали сигналы не потакать требованиям «малых» союзников о подтверждении их довоенных границ (с. 317). Выяснилось, что стороны готовы согласовать принципы по текущим вопросам, касающимся практической организации военного сотрудничества в войне против Германии. При этом Сикорский решительно возражал против Национального комитета для руководства армией, а советская сторона настаивала, что у нее не было и нет 300 тыс. военнопленных поляков, а имеется в лагерях только около 20 тыс. Подтвердилась неготовность польской стороны решить вопрос о послевоенной советско-польской границе. Поэтому подписанное 30 июля 1941 г. «Соглашение о восстановлении дипломатических отношений и взаимодействии в войне» носило компромиссный характер. Суть его состояла в том, что решение вопроса о границе откладывалось до «лучших» времен. Об этом свидетельствовал текст статьи 1 соглашения, где речь шла о признании советским правительством утратившими силу советско-германские договоры 1939 г. в части, касающейся «территориальных перемен в Польше». Как показало будущее, стороны трактовали этот текст каждая по-своему и в своих интересах. Сталин не усматривал в нем признания Советским Союзом границы 1921 г. Сикорский формулировку «договоры утратили силу» считал отказом Москвы от территориальных приобретений осенью 1939 г. Эта «формула» в соглашении тогда устраивала обе стороны. При желании она не могла служить препятствием для организации польской армии. Но облегчала для СССР отношения с великими державами —союзниками Польши. Понятна была зависимость послевоенных границ от исхода войны.
Восстанавливались дипломатические отношения. Статья 3 соглашения по сути являлась заключением военного союза: «Оба правительства взаимно обязуются оказывать друг другу всякого рода помощь и поддержку в настоящей войне против гитлеровской Германии». Правительство СССР согласилось на создание на своей территории польской армии. Детали ее формирования предполагалось уточнить в военной конвенции. Конвенция была подписана 14 августа 1941 г. Она предусматривала создание в кратчайший срок польской армии, предназначенной «для совместной с войсками СССР и иных союзных держав борьбы против Германии». Командующим армией Сикорский назначил генерала В. Андерса.
Сталин, фактический соавтор текста соглашения 30 июля, здраво оценил отношение польской стороны к достигнутым результатам посредников— Черчилля и Идена в Лондоне, его и Молотова в Москве. В ноябре 1941 г. он говорил польскому послу С. Коту, что к соглашению «их притащили», но пора отбросить взаимные обиды. А его, Сталина, мечта – принять участие в возрождении Польши. И его слова не являются конъюнктурными, а вытекают из принципиальной точки зрения. Он «за возрождение Польши, за союз с ней, независимо от ее внутреннего режима». И когда Красная армия освободит Польшу, он передаст ее польскому правительству. Мысль эта высказывалась им вплоть до 1944 года /28/.
Сикорский «в страну» сообщил, что соглашение с СССР «формальное». Ровецкий подтвердил 22.02.1942 г., что «Россия сегодня – союзник конъюнктурный», она с ХVIII века враждебна Польше, а советско-польское соглашение «вытекает не из свободной воли поляков и большевиков, а навязано обеим сторонам фактом нападения Германии на Россию» /29/. Ничего себе формальное! Оно дало свободу 389 тыс. польских граждан, депортированным и переселенным в 1939 —1941гг. вглубь СССР, но не коммунистам Польши, не польским комсомольцам, до 1939 г. искавшим убежище в СССР. По директиве НКВД они амнистии не подлежали. В итоге из этих 3817 членов КПП войну пережило несколько сотен /30/. Соглашение дало свободу 25 тыс. чинов Войска Польского. Оно дало Сикорскому армию.
Мнение главы СВБ/АК отразилось на позиции подпольной печати в Польши. Если «польское общество, простые люди, почти единодушно приняли заключение советско-польского соглашения как положительный факт», как сообщала газета левых социалистов «Barykada woƚnoṡci» 11 августа 1941 г., то орган Делегатуры «Rzeczpospolita Polska» 6 августа 1941г. считал польско-советское сближение временным, конъюнктурным. Оно не определит будущую внешнеполитическую ориентацию страны, а только даст возможность сформировать армию. С Советским Союзом и его борьбой против фашизма представители «лондонского лагеря» не связывали будущего страны и обретения ею независимости: «Наша страна не рассматривает это пакт как союз польского народа с Советами. Он является только военно-политическим соглашением польского правительства с правительством России». В подходе отдельных партий были свои нюансы. «Польские социалисты» приветствовали соглашение как «факт особо желанный» и видели в нем «исполнение всех наших (т. е. ПС – ) требований, сформулированных сразу после начала войны». Они считали, что «между польским правительством в Лондоне и страной не все урегулировано, но это единственное решение, которое найдет полную поддержку польского общества» (03.08.1941).Факт отсутствия согласия в вопросе о границах был отмечен печатью социалистов. И хотя он мог стать источником конфликтов, «Польские социалисты» не считали это минусом: «Мы не раздираем одежд по этому поводу». Газета левых социалистов «Wolnoṡḉ» в своих комментариях к соглашению заявила, что вопрос о советско-польской границе будет решен на будущей мирной конференции с учетом пожеланий народов, населяющих эти территории. Газета выразила надежду, что к тому времени Польша будет социалистической и демократической и поэтому легко придет к соглашению с социалистическим Советским Союзом (11.08). Создание польской армии в СССР социалисты расценили как залог объединения усилий советского и польского народов в общей борьбе. Создание армии они считали важнейшим положением соглашения. При этом выражалась надежда, что эта армия воспримет социальные идеалы Красной армии и в момент завоевания независимости Польши встанет на сторону трудящихся в их борьбе за ликвидацию социальной несправедливости и установления социалистического строя (17.09.1941). В. П.
Печать людовцев приветствовала Советский Союз как «товарища по оружию, но ни на минуту не заблуждалась, что могли быть общими цели». Различия людовцы видели в том, что Россия боролась с гитлеризмом за полное восстановление царской империи, а Польша с Германией – за жизнь (31.03.1942). Стронництво народове в Польше практически не комментировало само соглашение, но и не отвергало его. Газета «Walka» («Борьба») выражала надежду, что последнее слово будет за англо-американскими армиями и их союзниками, среди которых будет и Польша (08.08.1941).
Может быть, наиболее враждебно в «лондонском лагере» соглашение было встречено правыми социалистами – организацией ВРН— «Wolnoṡḉ.Rownoṡḉ..Niepodlegoṡḉ» («Свобода, равенство, независимость»): «Выраженная Сикорским и его ближайшими сотрудниками склонность искать опору в России… является опасным проявлением». Из восьми пунктов официального заявления ВРН о соглашении только один расценивал его положительно. С оговорками ВРН принимала факт создания армии. Но правые социалисты требовали «прекратить прославление соглашения» и не допустить того, чтобы армия попала под влияние польских коммунистов в СССР /39/. В знак протеста против подписания Сикорским соглашения с СССР и его стремления расширить внешнеполитические связи Польши правые социалисты вышли из Политического согласительного комитета. «Эта последовательная и четкая позиция в отношении СССР, – писали они в своей газете, – позволила нашему движению сразу, в первый день немецко-советской войны, в специальном манифесте уточнить точку зрения польских трудящихся масс и – мы это подтвердили публично— стать единственным лагерем в Польше, который решился на такой политический акт. Разумеется, начало этой войны создало новую ситуацию, ориентироваться в которой, однако, можно только при условии сохранения трезвой оценки прошлого» /40/. Кроме чрезвычайно острых отношений между социал-демократами и коммунистами, диктуемых Исполкомом Коминтерна, враждебность ВРН объяснялась отношением к политике советского руководства в 1939 – 1941 гг. на Западной Украине и Западной Белоруссии. В Лондоне Г. Либерман, как и его товарищ по партии Я. Станьчик, поддержали Сикорского и содействовали заключению соглашения Сикорский – Майский. Вскоре смерть Либермана позволила правым лидерам захватить руководство и заграничным комитетом ППС.
В Польше же происходил обратный процесс. На авансцену выдвинулись «Польские социалисты», которые заняли место ВРН в Политическом согласительном комитете. Они не разделяли политической программы правительства и поэтому не взяли на себя никаких обязательств на послевоенное время, но в условиях войны, когда наметились демократические тенденции в политике правительства, они считали, что необходимо поддержать его «просоветскую политику». В результате в Польше в Согласительном комитете образовалось нечто вроде предвоенного Центролева: союз «Польских социалистов», людовцев и Стронництва працы. Политический альянс людовцев и правых социалистов, давно находившийся в состоянии кризиса, перестал существовать.
Стронництво демократычне восприняло согласие с СССР как необходимость. Католические группы были против какого-либо соглашения с Москвой. Руководство Союза вооруженной борьбы в ходе правительственного кризиса пыталось восстановить позиции Соснковского и выступило против приказа главнокомандующего, т. е. Сикорского. Ровецкий отделался, однако, лишь замечанием о несубординации.
Изменилось соотношение сил и в правительстве. В новом составе кабинет летом 1941г. смог принять официальную программу— Идейно-политическую декларацию. «Главной целью национального единства, —говорилось в ней, – является освобождение Польши и установление после войны демократического строя». Задачи правительственной политики определялись как: «Путем активнейшего участия в войне и мирных конференциях обеспечить непосредственный и широкий доступ к морю. А также границы, дающие гарантию прочной безопасности Польской республики». Далее заявлялось, что «ничем не предрешая будущего политического и экономического строя государства, правительство не допустит установления правления личности, клик, а также различных олигархических групп, к какому бы классу населения они ни принадлежали». Декларация опять заканчивалась туманными обещаниями «осуществления принципов справедливости, права всех на труд с особым принятием во внимание права крестьян на землю и ее справедливое разделение между ними, а также влияния рабочих масс и работников интеллектуального труда на производство и распределение его трудов, а равным образом охраны труда от эксплуатации с целью обеспечения рационального общественного производства в интересах всего населения» /41/.