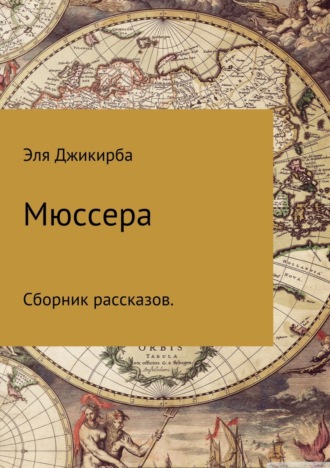 полная версия
полная версияМюссера
Слова мальчика из домика-улья подтверждает и другой мальчик, Даур. Он тоже живёт в палатке, но не в домике-улье, как мальчик-турист, а в брезентовом дворце с деревянным полом и боковыми окошками. Наличие брезентового дворца придаёт дополнительную вескость словам Даура в глазах остальных, поэтому решение подняться на вершину покрытого густым стройным лесом холма и перейти оттуда на альпийские луга, принимается единогласно и сбившись в пёструю стайку, дети начинают подъём.
Идут по узкой, проторенной кем-то тропе. Несмотря на видимую крутизну, тропа легка для преодоления: надо лишь наступать в протоптанные ниши и периодически помогать себе, прихватывая руками вылезшие из-под земли корни. Примерно через полчаса наконец достигают вершины, и замирают, потрясённые открывшимся зрелищем.
Могучий, дразнящий альпийским разнотравьем хребет приблизился и кажется, что навис над ними всей своей громадой, а казавшиеся близкими снизу луга, наоборот, отодвинулись. Изумрудье трав по-прежнему манит их к себе, но его магическая притягательность внезапно наполняется скрытой, но ощутимой угрозой.
– Мне почему-то страшно, – произносит кто-то, может быть и сама городская девочка.
Извилистой бесконечной лентой тянется вдоль всего хребта тот самый провал, о котором в её мечтах должен будет упомянуть пастух, а холм, на вершине которого, сбившись в восторженно-испуганную кучку стоят будущие исследователи, тоже удивляет внезапной метаморфозой. Выясняется, что он не конусообразно-круглый, каким виделся снизу, а срезанный. Словно его срезали с обратной стороны.
Городская девочка представляет себе, как могло бы выглядеть ритуальное разрезание холма.
«В-в-в-жик!» – махнул ножом некто огромный и половины холма как не бывало.
Озадаченные увиденным, дети начинают совещаться, точнее слушать, о чём говорят между собой мальчик-турист и Даур.
– Мы подойдём к краю, разбежимся и перепрыгнем на ту сторону, – махнув рукой в сторону могучих пиков, предлагает Даур.
– Только прыгать будем все, – дополняет его предложение мальчик-турист.
– Да, да, давайте прыгнем, – кричит охваченная нетерпением и пытающаяся видимым энтузиазмом заглушить внутреннюю тревогу городская девочка. – Хочу туда! Там так красиво!
– А как мы будем прыгать? – интересуется кузина Зарема, не меньшая, чем городская девочка, любительница острых ощущений. – Вместе, или по отдельности?
– Конечно вместе, – заявляет Даур.
– Как именно, вместе? – не отстаёт кузина Зарема.
– Возьмёмся за руки, разбежимся и прыгнем вместе, – разъясняет Даур, и не дожидаясь следующего вопроса, протягивает кузинам руки.
– За мной, – улыбнувшись с прищуром, зовёт он, и выстроившись цепочкой, дети начинают перемещаться в сторону срезанного края.
– Вдруг здесь змеи, – шепчет Даур, пока ватага пробирается через сменившие лес заросли папоротника. – Смотрим под ноги, чтобы не наступить.
*
Городская девочка осторожно ступает по пружинящей поверхности папоротникового поля и продолжает удивляться.
Почему альпийские луга находятся не близко, а отодвинулись назад? Да и кто их туда передвинул? А почему пропасть оказалась большой, а её размеры не угадывались из долины? Почему изумрудные луга снизу казались бархатными, а теперь видно, что они буквально усеяны россыпями острых, выбеленных на солнце камней? И где, в конце концов, стада коз и восхищённый пастух?
Пока она задавала себе молчаливые вопросы, заросли закончились и дети оказались один на один с пропастью. На дне змейкой вилось почти высохшее в разгар лета русло горной реки, альпийские луга уже не скрываясь дразнили недосягаемостью, вокруг стояла наполненная просторами и воздухом тишина.
Крепче взявшись за руки, дети стали отходить назад, чтобы разогнаться перед прыжком, когда позади них раздался голос.
– Может, хватит? Погуляли и ладно?
Смешавшись, они обернулись и увидели присевшую под деревом у кромки папоротниковых зарослей маму Эвелину. Прислонившись к стволу, как к спинке стула, мама Эвелина помахивала подобранной в лесу гибкой веткой и улыбалась. Но не обычной улыбкой, а той, которой она улыбалась, когда заставала городскую девочку за очередной шалостью. Сразу стало ясно, что улыбающаяся подобным образом мама Эвелина вряд ли позволит кому-то прыгать. И ещё стало ясно, что она сопровождала любителей альпийских лугов с самого низа, просто решила до поры до времени не вмешиваться. Очень уж маме Эвелине захотелось посмотреть, до какой степени может завести некоторых разыгравшееся воображение.
А рядом с мамой Эвелиной дети заметили и запыхавшуюся от быстрого восхождения тётю Лизу, маму мальчика Даура, и желание прыгать исчезло окончательно.
*
– Как думаешь, нас накажут? – спросила на обратном пути у скачущей по выступающим из-под земли корням городской девочки кузина Зарема.
– Думаю, накажут.
– Давай спрячемся.
– Спрячемся?
– Ну да. Когда спустимся – так сразу и спрячемся где-нибудь.
– Нет, – мрачно ответила городская девочка. – Мама меня всё равно найдёт и даже может ещё сильней наказать.
– А я спрячусь, – заявила кузина Зарема и, когда спустились вниз и вышли из леса, действительно спряталась, точнее, побежала в одну из соседних палаток, чтобы сделать вид, что она была там в гостях, и, вообще, не причём.
Но городская девочка даже мысленно не подумала прятаться. Она знала, что мама Эвелина ни за что не спустит ей нарушенного запрета и решила не рисковать. Мама Эвелина снисходительна к мелочам, в отличие от многих других, гораздо более строгих мам, но не прощает ослушания по главным запретам.
Увы, самовольная отлучка в лес как раз входила в их число.
Так и случилось. Мама Эвелина взяла ту самую гибкую веточку, которой размахивала на вершине холма и отхлестала городскую девочку по ногам и ещё по некоторым местам.
– Будешь знать у меня, как в лес убегать без разрешения, – приговаривала она во время экзекуции. – Ещё раз что-то такое увижу – отправлю тебя в деревню.
Невесёлая перспектива отправиться в деревню под надзор строгой бабушки Тамары испугала городскую девочку гораздо больше учинённого мамой Эвелиной наказания.
– Больше не буду мамочка, больше никогда не буду, – театрально рыдала она, стараясь увернуться от чувствительных ударов. – Только в деревню меня не посылай! Ну, пожалуйста!
– Это надо же, в лес без разрешения ходить, – подбадривала себя мама Эвелина в ответ на страдальческие вопли городской девочки. – А если бы вы там потерялись? А если бы медведь на вас напал? Сколько раз было сказано, в лес без взрослых не ходить, сколько, сколько? А если бы вы упали вниз там, на краю? Если бы сорвались случайно в пропасть, что тогда было бы?
Городская девочка крутилась волчком, пытаясь увернуться от вездесущей веточки, но вновь удивлялась, и её недоумение росло с каждой, брошенной мамой Эвелиной в процессе наказания, фразой.
Почему она всё время говорит про каких-то медведей и ни разу не спросила про несостоявшуюся встречу с альпийским пастухом? Получается, что прыгать через пропасть на ту сторону можно, а в лес одним ходить нельзя?
А мама Эвелина просто не знала о планах путешествующих по лесу мальчика Даура и его команды. Она не слышала, о чём именно говорили дети во время совещания у папоротниковых зарослей, и подумала, что они просто хотят заглянуть в пропасть и узнала правду много лет спустя, когда во время очередных общесемейных посиделок все стали вспоминать прошлое и городская девочка задала маме Звелине давно мучавший её вопрос. Почему она наказала её за нарушение запрета, но ни словом не обмолвилась о том, что дети собирались прыгать через пропасть?
– Вы хотели прыгнуть? – побледнела мама Эвелина, переводя потрясённый и одновременно не верящий взгляд с городской девочки на кузину Зарему.
– Ну, да. Мы как раз шли к краю, чтобы перепрыгнуть на ту сторону. Дыркин сказал, что если мы перепрыгнем, то окажемся на лугах. Мы и пошли, – разъяснила кузина Зарема.
– Кто такой Дыркин?
– Ты не знаешь Дыркина? – удивилась городская девочка. – Это же твой ученик, Даур М. Его так все в школе называют. Сначала нами верховодил другой мальчик, незнакомый, а потом Дыркин стал всеми командовать. Именно он и придумал прыгнуть.
– Всегда был изобретательным, – качнула головой мама Эвелина. – До сих пор такой.
Мама Эвелина знала, о чём говорила. Даур-Дыркин к тому времени стал одним из её учеников и она в полной мере испытала на себе его способности к различным изобретениям, включая ловкую манеру оттянуть начало урока не относящимися к теме, но страшно интересными вопросами. Даур-Дыркин закидывал их как удочку, в пространство урока, дожидался ответа, и, не теряя ни секунды, пускался в длинные философские рассуждения на посторонние темы.
Он и жизнь свою, яркую и короткую, прожил так же: закидывая удочки вопросов и пространно философствуя не по теме в ответ.
– Надо же, – продолжала сокрушаться мама Эвелина. – Мне и в голову не могло прийти, что вы задумали, когда двинулись к пропасти. Какой кошмар!
– А ты бы прыгнула за нами? – спросила городская девочка.
– Конечно! Конечно, я бы прыгнула следом за тобой, Эля!
*
Какие тёмные ночи в горах. Иссиня-чёрные, с лилово-фиолетовым отливом, как чернила. Над головой виснут лампочки-звёзды, дают вволю полюбоваться собой, дразнят мнимой близостью. Кажется, что стоит протянуть руку – и вот они, на ладонях, трепещущие, прекрасные, загадочные. На опушке леса дядя Толя К. складывает высокий сноп из поленьев и веток и как только заходит солнце и на долину обрушивается темнота, запаливает костёр. Трещат ветки, рвётся в разные стороны игривое пламя, околдовывает голову источаемый горящими поленьями запах. Народ плотным кругом обступает пляшущий столб, начинают соревноваться в декламации стихов дети, хлопают и хохочут взрослые.
Кто-то садится на импровизированное сиденье из спиленного ствола и разворачивает гармонь.
– Эля и Зарема станцуют абхазский танец! – слышится голос мамы Эвелины.
Вообще-то, танец в исполнении городской девочки и её кузины Заремы является обязательной частью программы семейных посиделок. Поначалу сёстры декламируют стихи и поют песни про «Ленина, который всегда живой», из детсадовского репертуара, и про «Есть на свете городок, он не низок не высок», из репертуара студенческого джаза, в котором мама Эвелина и тётя Тамара Тарба пели в институтские годы. А сразу же после декламационно-распевочной части мама Эвелина и тётя Ира под дружные хлопки в ладоши запевают абхазскую плясовую и начинаются танцы.
В танце у каждой из сестёр своя роль. Партнёршей, как правило, выступает лёгкая и хрупкая кузина Зарема, а более приземлённая городская девочка танцует за партнёра.
– Раз-два-три, раз-два-три, – старательно шепчет она, перебирая ногами и поводя в разные стороны руками. – Раз-два-три, раз-два-три.
Считать про себя во время танцев, её, не сильно склонную к танцевальной карьере, научила мама Эвелина.
– Будешь считать – никогда не собьёшься, – стимулировала она подсознательные сценические желания городской девочки. – Просто считай про себя: раз-два-три, раз-два-три – и всё получится.
Но одно дело танцевать под импровизированное пение в домашнем кругу, и совсем другое, на публику, поэтому, когда начинает звучать музыка, а народ хлопать в ладоши, сёстры ведут себя по-разному.
Кузину Зарему уговаривать не приходится вовсе. Она любит и умеет танцевать, охотно соглашается продемонстрировать своё умение на публику, и выйдя в круг и плавно подняв руки, замирает в ожидании.
Совсем иначе реагирует на возможность прилюдного дебюта городская девочка. Выступать перед публикой ей не хочется, зрелище замершей в ожидании кузины Заремы вгоняет в ступор, в груди поднимается паническая волна, ладони становятся влажными и хочется исчезнуть. Чтобы избежать предстоящего испытания, она прячется за спины взрослых, но её быстро находят и под крики одобрения выталкивают в круг.
– Эля, ну что? – слышит она шёпот кузины Заремы. – Начинаем?
Отказаться невозможно, бежать тоже, и городская девочка подчиняется судьбе и покорно встав позади кузины Заремы и под заветный шёпот «раз-два-три, раз-два-три», ныряет в круг.
*
Плывёт впереди кузина Зарема, пляшут световые сполохи на лицах азартно хлопающих зрителей, трещат и обдают жаром горящие ветки, всё громче и громче звучат музыка и пение.
Постепенно исчезают страхи. Танцуем – и танцуем. Подумаешь?
Они прошли уже по второму кругу, когда городской девочке показалось, что она осталась одна и вокруг вообще никого нет – ни плывущей впереди Заремы, ни шмыгающих повсюду детей, ни веселящихся взрослых, ни даже мамы Эвелины, а есть только костёр, чёрный лес, и фиолетовое небо над головой.
Мах руками – и городская девочка побежала-полетела по кругу так быстро, что в её волосах засвистел ветер.
– Эля, ты куда? – слышит она доносившиеся издалека весёлые возгласы. – Твоя пара тебя догнать не может! Оглянись!
Городская девочка оборачивается и замечает возмущённую её безобразным поведением кузину Зарему.
– Вернись, дура! – кричит Зарема, но азарт осознанного одиночества уже захватил целиком городскую девочку, и она бежит по кругу, ещё быстрей, а потом ещё и ещё. И никому на свете, даже маме Эвелине, наверное, не под силу остановить её.
А городская девочка нарезает круги и хочет лишь одного – понравиться нависшим над головой звёздам, чёрно-фиолетовой ночи и тёмному лесу.
Им, и только им, посвящает городская девочка свой жреческий танец.
Слышите меня? Видите меня? Это для вас я танцую. Только для вас.
*
Прошло-пролетело детство, вступило в свои права полуденное солнце жизненного пути, маячит впереди его закат, но Ауадхара по-прежнему живёт в сердце, дразнит далёким контуром синих гор, и зовёт и зовёт к себе. И чем дальше от жреческого танца детства уходит стремительное время, тем сильней её зов.
По-прежнему труден путь к ней и круты обрывы, так же взлетают подобно ракетам ввысь громадные тела стройных могучих елей и внезапно падает на землю чёрная бархатная ночь. Так же вкусен воздух Ауадхары и звенит в утомлённой голове ни с чем не сравнимая тишина.
Казавшийся высоким в пять лет пригорок оказывается совсем невысок, далёкий хребет близок, не видно нигде испугавшего в детстве провала, склоны альпийских лугов пересечены коровьими тропами и по ним несложно добраться до водопада. Трещит небольшой костерок. Виснет над головой неполным диском луна, заливает могучие синие контуры гор своим безупречно-ровным освещением, затем уходит, чтобы уступить место мириадам звёзд, которые раскидываются в небесах прихотливыми узорами созвездий.
Они не видят тебя. Ведь они вечны.
А ты только что была – и вот тебя уже нет.
***
Патрахуца.
Моё мировоззрение формировалось в среде, представлявшей из себя странную смесь из не подлежащей сомнению любви к коммунизму и великому советскому государству с одной стороны, и ненависти к большевикам, отнявшим у моей семьи всю землю, с другой.
То же двойственное чувство я испытывала к Ленину. И ещё к Сталину и Берии, лично убившим моего шикарного деда в 1937-ом году, когда моему будущему папе было семь лет.
Любовь к большевикам и Ленину формировалась матерью.
Ненависть к ним и Сталину с Берией – бабкой.
Приезжая на всё лето в село, переполненная прекрасными сказаниями о Ленине в шалаше, Ленине на броневике, Ленине призывающем захватить почту, мосты и телеграф, Ленине в Горках, и страстным желанием оживить его, если вдруг в руки попадёт волшебная палочка, я с ходу погружалась в жёсткий, непоколебимый в сознании своей правоты, мир экспроприации земель, доносов соседей, постоянно живущей в душе ненависти, и мстительного желания свести счёты с давно почившими врагами. И, конечно же, мир моего деда (погибшего в тбилисской тюрьме, а может и не там – время смерти и место захоронения остались неизвестными), – красивого человека с великолепными густыми усами, молча взиравшего на меня с большого, обрамлённого бархатной рамой портрета.
Я разрывалась между любовью к ним обоим: к Ленину, такому доброму, любящему всех детей в мире, с морщинками вокруг весёлых глаз.
И к нему, человеку с портрета, красавцу почти двухметрового роста, щёголю и гедонисту, любителю книг и живописи, знатоку всех трав в регионе, потомственному знахарю.
Глядя на портрет, бабка всегда говорила одно и то же.
– Днеитаргааит, Ленин!
В переводе с абхазского это означало страшное:
– Чтобы его вырыли из земли обратно.
Пожелание эксгумации было самым мрачным из обильного реестра проклятий бабки и она щедро пользовалась им в ключевые моменты обсуждения семейных хроник. Ей было невдомёк, что мрачное проклятье уже давно осуществлено, причём в самом прямом смысле, а несчастный Ленин много десятилетий лежит посреди огромного гулкого поля в виде восковой куклы. Когда ей говорили об этом, она не верила. Погружённый в авторитет ритуала разум отказывался принимать уродливую правду.
Помню, впервые услышав от бабки проклятье в адрес любимого вождя, я, маленькая, кричала и плакала.
Помню её удивлённый взгляд.
Периодически она выводила меня за околицу и показывала на лежащие вокруг возделанные поля.
– Смотри. Это всё было нашим. Здесь был сад. И там – отсюда не видно, но я водила тебя туда, помнишь – тоже. Всё отняли большевики. Ленин отнял.
Я начинала спорить, доказывая, что Ленин был самым добрым и лучшим, и сделал революцию, чтобы мы все жили счастливо.
Она усмехалась в ответ.
– И что хорошего я видела от Советской власти? – спрашивала она. – Работа, работа, работа, всю жизнь работа. В колхозе, как проклятая, работала, бесплатно.
– Почему бесплатно, бабуля?
– Жена врага народа была. Разве это счастье?
Я что–то лепетала, оправдываясь. Про будущее. Про всемирную революцию. Про моё счастливое детство.
Она вновь усмехалась, а на следующее лето всё начиналось сначала, но с дополнениями. Теми, что мог воспринимать мой год от года взрослевший мозг.
Меня поимённо знакомили с доносчиками (их имена ещё тогда, в тридцатые, стали известны семье – о, Абхазия, в тебе всё всегда неизменно).
С удовлетворением наблюдали за цепочкой несчастий, преследовавших семью главного, уже очень старого к этому времени зачинщика. (В амбаре повесилась жена, через год, на этом же самом месте – дочь).
Вновь проклинали Ленина, Сталина и Берию.
Она так и ушла из жизни, не подозревая о том, что главным доносчиком на её мужа был совсем другой человек, а следом пришло время переоценки и моих ценностей. Возможно потому рождённые перестройкой перевёртыши не стали для меня неожиданностью, а шокирующие потоки информации казались естественными и ожидаемыми.
Подготовленной бабкиным воспитанием, мне не пришлось трудиться над собой.
*
В такой же жгучей смеси непреодолимостей формировалось и моё религиозное мировоззрение.
В семье и школе царил атеизм.
Бога нет. В церковь ходят старухи и уроды. Ты крещёная, потому что, так принято и это не религия, а обычай. Пасха? Да, на пасху красят яйца, пекут куличи и накрывают стол. Но это просто обычай, а не праздник. Праздник у нас позже, на первое мая.
В деревне у бабки всё было иначе. Там жила смесь из запретных выражений и шокирующие странной экзотической красотой ритуалы. Тлеющие угли под празднично накрытым столом, к примеру. Молитва над зарытым в землю кувшином с вином – с нанизанными на палку из алычового дерева печенью и сердцем жертвенного петуха. Уважение к святилищам – далёким и неведомым. Удивительные отношения с богом.
Она могла выйти на середину двора в летнюю засуху и выругать его за плохое поведение.
Рассказываю ей об Иисусе.
– Кто это? – спрашивает она.
– Его сын – объясняю я.
Недоумённое пожимание плечами в ответ. Какой сын? Чей сын?
А ещё врезалось в память волшебное с детства выражение.
"Далеко, как Патрахуца".
– Бабуля, а где это, Патрахуца?
– Далеко.
– Где это, далеко?
– Не знаю, где. Очень далеко.
Попасть в Патрахуцу было жгучей мечтой. Как в Шамбалу. Но про Шамбалу я уже потом, через много лет поняла, а вот в Патрахуцу попала. Вскоре после войны.
Долго ехали по разбитым дорогам. Всё время вверх.
– Эля, чего молчишь?
– А что?
– Ты вроде хотела увидеть?
– Что увидеть?
– Патрахуцу.
– Где? Где она?
– Да вот же она. Перед тобой.
Какое разочарование. Заурядное абхазское село, непричёсанная и буйная зелень, выцветшая кукуруза в огородах.
Поднялась на небольшой пригорок, чтобы взглянуть на окрестности. И вдруг открылась передо мной панорама, от которой тут же перехватило дыхание.
Снежные шапки гор по левую сторону. Далёких, но вечно манящих. Под ними, на возвышенности – раненный недавними обстрелами Бедийский храм. А в сизой дымке бесконечных далей Гал(и).
Лёг весь мир на ладони, свернулся клубком, проник в поры, занял всю без остатка. Зазвенели где-то наверху колокола, заиграла небесная музыка. И нахлынуло на меня моё детство с бесконечными жаркими днями и усеянными крупными звездами небесами над головой.
Услышала следом бабкин голос, зовущий в Патрахуцу.
Ответила ей тихо:
– Я здесь, бабуля…
***
Ода.
– Папа, папа, смотри, моя нога скоро провалится внутрь!
Городская девочка тычет стоптанными сандалиями в дырку в полу, образовавшуюся на пороге высокого, на уровне второго этажа, крыльца деревенского дома. Дырка в крыльце – итог регулярного попадания туда дождевой воды из-за короткого жёлоба, который никак не удлинят до нужных размеров, но мама Эвелина и бабушка Тамара используют печальный факт образовавшейся дырки в своих целях. Необходимо убедить папу Аслана в том, что пора кардинальных перемен для улучшения жилищных условий наступила.
Городская девочка, конечно же на стороне мамы Эвелины, и ей невдомёк, что доски потому и сгнили, что единственные во всём доме сделаны не из каштана, и что уговаривающая папу Аслана мама Эвелина, в отличие от бабушки Тамары, хочет всего лишь обновить дом, или на худой конец оставить его для хозяйственных нужд, а не ломать полностью. Увы, побеждает предложение бабушки Тамары дом снести.
Вскоре дом разберут, из широченных тёмных, гладко выструганных и отполированных временем каштановых досок ( как-никак сто лет – солидный возраст), слепят длинный некрасивый сарай, а сами переселятся в новенький двухэтажный мешок из бетонных блоков, где будет плохо спаться жаркими летними ночами, поскольку бетонные блоки, оказывается, совсем не дерево, и зимой пропускают холод, летом жару, ещё и отказываются дышать в унисон со своими жильцами, поскольку дышать не умеют вовсе.
Но это в будущем, а пока городская девочка с жаром помогает маме с бабушкой в трудном деле уговаривания папы. Аргументов кроме сгнивших крылечных досок, как назло нет, но женщины непреклонны, особенно бабушка Тамара, мечтающая самим фактом строительства утереть нос всем деревенским соседям вместе взятым, и одновременно избавиться от связанных с каштановым домом тяжёлых воспоминаний о прошлом.
Причины амбиций тоже понятны. Джикирбовское подворье всегда было первым в селе и бабушка Тамара во что бы то ни стало хочет сохранить эту щекочущую самолюбие традицию. И это несмотря на то, что от подворья остались лишь она и папа Аслан – последний мужчина в роду.
Так случилось, что мама Эвелина не родила сына, а родила троих дочерей.
– Дычкуназар ишьыбыргоузей (если бы она была мальчиком – что бы вы ещё хотели!) – притворно сокрушаясь, как в большинстве случаев кажется городской девочке, приговаривают сельские кумушки везде, где только встречают её с бабушкой Тамарой. Сначала вдвоём, затем в компании с Тамилой, средней сестрой. А когда городская девочка и её сестра подрастут – и с Жанной, самой младшей.
Рождение младшей станет шоком для родни, и папина тётя, которую дома зовут Малица, а по-городскому, Мария Константиновна, бросается исправлять положение. Малица – бывшая большевичка и член революционного кружка Киараз. Уверенная в непререкаемости своего авторитета, она предложит маме Эвелине отдать младшую дочь в другую семью, а самой попробовать родить ещё раз.

