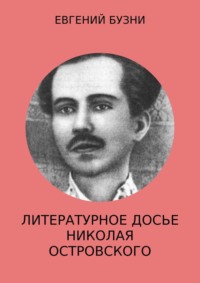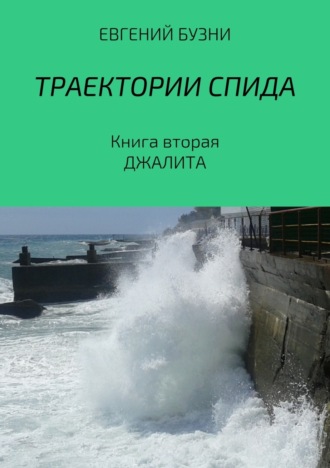 полная версия
полная версияТраектории СПИДа. Книга вторая. Джалита
Можно было бы задуматься над тем, что барельеф царского князя поместили на видном месте в научном институте государства с коммунистическими идеалами, которое в революцию свергло власть этих самых князей. Кажется ему не место среди людей, борющихся за социальную справедливость, за то, чтобы богатство каждого зависело от богатства всех. Вряд ли этот самый Голицын заботился о том, чтобы его рабочие или крестьяне жили счастливо и в достатке не меньше его самого. Да, может, и порол он нерадивых с его точки зрения подданных, может, не одна сотня глаз бедняков, в том числе и детей их, выплакивалась по его вине во имя доброго, опять же с его точки зрения, дела. А кто не знает, что ни одно доброе дело не стоит слезы ребёнка, или, что на костях горя счастья не построишь? Вот и спрашивается должны ли мы воздавать хвалу человеку, шедшему против того строя, к которому мы пришли, делавшему не только хорошие, но и плохие дела?
На этот вопрос так и отвечали у нас – отрицательно, и убирали всё, что связывалось с противореволюционными деяниями, идеями, мыслями. Уничтожались памятники, олицетворявшие царское господство, убирались с книжных полок книги великих мастеров писателей, не понявших и не признавших революцию. Тогда, ради воспитания нового поколения в новом духе, убирали с глаз его всё, что походило на скверну и всех, кто эту скверну нёс.
Но это был период революционного подъёма, энтузиазма, восторга, заслонявшие многое пламенем борьбы, во время которой трезвые мысли самого Ленина не всегда замечались или принимались, а потому, например, писатель Аверченко долго не публиковался в Советской России, хотя лидер революции Ленин и назвал его талантливым писателем, рекомендуя талант поощрять и печатать, несмотря на враждебность писателя к строю.
Однако прошло время, и стали печатать, да не только Аверченко, но и Есенина, Бунина, не праздновавшихся долгое время властью. Сохраняли памятники и Петру Первому, которого продолжали называть великим, вопреки точным сведениям о сотнях и тысячах бедных крестьян погибавших при строительстве города Петра, названного впоследствии городом Ленина.
Дело в том, что не злопамятен русский человек по натуре, не может он долгое время помнить плохое, но всегда старается удержать в памяти доброе, сделанное для него. Пусть через годы, десятилетия, но откопает-таки он имя человека, построившего мост через реку, что вот уже век стоит, не ломаясь, или песню написал, что никак из памяти поколений не уходит, принося радость и помогая в трудные минуты. А, вспоминая этого человека, оставившего добрый след своей жизнью, никто обычно не копается в его биографии, чтобы узнать, не опрокинул ли он однажды крынку с молоком на платье матери, балуясь и шаля у той на коленях, дабы обругать его за это через сто лет в вдогонку.
Не святые на земле живут, а обыкновенные люди, каждый с ошибками и недостатками. Но память приносит и оставляет в истории доброе и полезное людям, то есть то лучшее, что должно быть примером остальным, которые должны становиться лучше и чище, чем предыдущие поколения. Это не писаный закон, а сама природа, стремящаяся вечно к совершенству.
Вот почему барельеф князя Голицына появился в винодельческом институте, благодарном ему за создание отечественного виноделия на Руси.
В то же время портреты и памятники Сталину повсюду поснимали. Одна несправедливость устранена, так появилась другая. Только эта другая покруче первой. Голицын не занимался политикой. Его интересовала одна отрасль, что само по себе являлось политикой, только экономической, но поднимавшей престиж государства.
Сталин занимался политикой, в которую включались все отрасли жизни, все её аспекты, вместе, не то чтобы поднявшие государственный престиж, а создавшие его, то есть возродившие из обломков; при нём страна стала такой, что не уважать её никто не смел. Убрать это из истории никогда не удастся, сколько бы ни копались в не стираном белье глумливые политики и их приспешники журналисты жаркого с ударением на “о”, то бишь не те, что любят жаркие споры до нахождения истины, а те, что охочи до жареного, припахивающего палёным мясом мертвечины, за которую платят единовременное пособие тогда, когда это жареное нужно к столу рвущихся на Олимп власти политиков.
Сталина начали называть и вандалом, и садистом, и душителем, и даже немецким шпионом, но не те, ради кого будто бы старались печатные крикуны, то есть не народ, продолжавший хранить портреты вождя и вывешивать их на стёклах ревущих на дорогах грузовиков, а те, кто сами, не веря в сказанное, старались на волне этого грязного крика выплеснуть на поверхность свои белые откормленные тела, чтобы они показались чистыми и непогрешимыми.
Но простым людям-то что до их проблем? В памяти народной остается, в конце концов, только доброе, сделанное для всех, хорошее, что невозможно стереть временем, как карандаш с бумаги резинкой. Потому остаются навечно, проходя через столетия, Юлии Цезари, Спартаки, Степаны Разины, Ленины и Сталины. Остаются и Голицыны.
Вот о чём мог состояться разговор у замечательной галереи барельефов института “Магарач”, но не состоялся, поскольку двое прошли мимо, почти не глядя по сторонам. Одного интересовало, зачем это приехал неожиданно председатель исполкома, другой ещё сам не знал, с чего начинать беседу.
Кабинет директора перестраивался уже после покойного Павла Яковлевича Голодриги. При нём это была большая, может быть, не совсем уютная комната, но с диванами, в которых наиболее авторитетные пожилые учёные позволяли себе, утопая в мягкой обшивке, засыпать во время учёных советов, просыпаясь лишь от внезапно звеневших в неподходящий момент наручных часов директора, зуммер будильника которых он обычно долго не мог выключить, что позволяло одним саркастически улыбаться над неловкостью директора, другим почтительно завидовать обладателю часов с будильником, третьим просто просыпаться от назойливого трескучего звука.
В комнату вела одна входная дверь из широкого коридора, где напротив в маленькой застеклённой конторке сидела симпатичная секретарь Таня Чуб – одна из солисток Володиного ансамбля Та-Во-Та – и вторая дверь открывала путь на большую открытую веранду. Павел Яковлевич был спортивного склада человек, по утрам бегал к морю делать зарядку, любил рыбалку, ходил на катерах на ставриду вместе с группой любителей института, где рыбаков частенько продувало ветром, так что к холоду он был привычен, и дверь на веранду была практически всегда открыта, что создавало в прохладную погоду настоящий холод в комнате, а в тёплое время года – постоянный сквозняк, который не все спокойно выдерживали. Так что, заходя к директору на аудиенцию, нужно было быть готовым либо к простуде, либо к закалке организма.
Новый директор, пришедший ещё до Дженеева, был человеком из обкома партии и потому сразу занялся перестройкой кабинета. Простая старинная комната была отделана деревом под современность, веранда остеклена и в ней сделали директорскую прихожую, в которой и посадили секретаря. Теперь к директору никак невозможно было попасть, минуя бдительное око, сидящей вечно за пишущей машинкой или же висящей на телефоне секретарши. Понятное дело, что партийный в прошлом работник весьма слабо разбирался в собственно науке, и потому его пришлось скоро заменить.
Сергей Юрьевич, придя на новую должность, в новый для него кабинет, ничего уже в обстановке не менял, а занимался наукой, как таковой. Однако сегодня встреча определённо предстояла не по научной тематике. Советский работник, как обычно называли исполкомовцев, о науке имел слабое представление.
– У меня вот какое дело, – начал он без обиняков, как только Дженеев сел в своё директорское кресло, предложив председателю обычный, обитый кожей, стул посетителя, – У вас работает Усатов?
Вопрос для Дженеева был сногсшибательно неожиданным.
– Да, а что он натворил что-нибудь?
Ему хотелось было даже сказать, что это хороший парень, умница, недавно назначен заведующим отделом и его собираются отправить на стажировку во Францию, но по привычке осторожного человека, что позволило выйти в руководители, он воздержался от поспешной характеристики до выяснения обстоятельств заданного вопроса.
– Нет, он, пожалуй, ничего не натворил, но неприятностью для меня может обернуться. Тут такая штука получилась.
Овечкину явно было не по себе, рассказывая.
– Вы, конечно, читали о том, что было в лесу в воскресенье?
Дженеев согласно кивнул головой, показав на газетные листы на столе.
– Мне принесли сегодня.
– Так там, естественно, всё коротко. Но не в этом дело. В том месте в лесу в это время оказался ваш Усатов с какой-то девицей. Я-то не знал, что он ваш сотрудник и с горяча порвал его удостоверение общественного инспектора по охране леса. Понимаешь, – Овечкин не заметил, как перешёл на ты, – он, чёрт, перегородил дорогу бревном, а мы везли нашего не убитого…
Овечкин остановился, подбирая подходящие слова, и продолжал с некоторыми паузами, то ли боясь сказать лишнее, то ли вспоминая происшедшее:
– раненого, правильнее сказать… он себя ведь не насмерть сначала… Но довезти мы его не успели… живым… тут бревно пришлось убирать… он и скончался по пути. Чего было лезть на дорогу?
– Так это он ответит сейчас, – возмутился Дженеев. – Сейчас я его вызову и мы спросим. Нехорошо, конечно. Получается, что он виноват.
– Да, в какой-то степени. Но у него ведь отец, кажется, академик в Москве?
– Ну и что? Я знаю Трифон Семёновича. Он за это сына по головке не погладит.
– Не совсем так, – возразил председатель горисполкома. – Сын уже позвонил отцу, и реакция была обратной. Дело дошло сразу до ЦеКа партии. Так что я оказался виноват. Придётся мне извиняться.
Сергей Юрьевич явно растерялся и развёл руками:
– Ну-у, если ЦеКа, то конечно.
– Так что ты позвони ему сейчас, продолжал Овечкин, – если он на работе. Попроси подойти. Я поговорю с ним и отдам ему новое удостоверение, а то старое, что у него было, я порвал к чертям.
Дженеев нажал кнопку селекторной связи отдела селекции. Никто не отвечал. Нажал кнопку секретаря.
– Слушаю, Сергей Юрьевич.
– Таня, найди мне Усатова срочно. Он был сегодня на месте, а сейчас никто в отделе не отвечает почему-то.
– Сергей Юрьевич, они, наверное, за продовольственными наборами пошли. Нам в буфет завезли только что, вы же знаете.
– Ах да, вот несчастье мне с этим продовольствием. Сбегай за Володей скоренько. Мне он нужен. Только мгновенно давай.
Отключив телефон, Дженеев тяжело вздохнул и, поддерживая начатый разговор на ты, возмущённо спросил:
– Слушай, что это за идиот придумал раздавать продовольствие по предприятиям? Никакой же работы нет. Почти каждый день полдня занимаются раздачей масла, сахара, сыра, колбасы, крупы, конфет, которые всегда были в магазинах. Как я понимаю, это делается на всех предприятиях. И у всех эти продукты есть. Так почему же не продавать их как раньше в торговых точках без всякой суеты и отнимания рабочего времени? Самое смешное, потом выясняется, что эти же товары есть и в магазинах. Кому это надо делать бардак в стране?
– Объясняют, что не хватает товаров.
– Но ты-то знаешь, что они есть? Вы же меньше не получаете на город? Без пищи ведь никто не остаётся? Значит, можно было бы, как и раньше, через магазины давать. Тогда бы каждый покупал кому сколько надо. А то теперь и не нужен сахар, а берут про запас, раз дают в наборе. Конечно, так ничего не хватит.
– Нам такую команду дали сверху, вот и выполняем. Ты же не делаешь, что вздумается, а слушаешь команды из министерства. Вот и мы выполняем указания.
– Да я не тебя ругаю, а удивляюсь, кому это и почему взбрело в голову.
Раздался звонок телефона. Дженеев нажал кнопку на пульте. Голос секретарши доложил:
– Сергей Юрьевич, Усатов пришёл.
– Пусть войдёт.
Овечкин поднялся. Председатель председателем, а он пришёл заглаживать свою вину. Должностная фанаберия здесь была ни к чему. С момента, когда ему директор заповедника привёз бланк нового удостоверения общественного инспектора по охране леса, выписанного срочно на имя Усатова, и до этого самого последнего момента председатель исполкома никак не мог себе представить, что делать в момент встречи и как начать извинения.
Команда из Москвы от двоюродного брата чёткая – извиниться, чтобы потушить загорающийся огонь неприятности, но как переступить через гордость городского головы, которому не только министров, но и самых больших партийных боссов приходилось встречать, с главами государств разговаривать? Ялта, не какой-то там заштатный городишко, а хоть и маленький, но курортный центр, к которому тянулись со всех концов земли. Потому по значимости председатель Ялтинского горисполкома, или, как иногда его называли для иностранных делегаций, мэр Ялты, казался выше, чем обкомовское или даже республиканское начальство. Именно отсюда его предшественник Медунов начал своё восхождение по служебной лестнице и дошёл до Центрального Комитета партии.
С этой точки зрения маленький научный сотрудник ничего из себя не мог представлять для возможно будущей политической звезды. А очень хотелось повторить этот путь наверх, только без печального продолжения, когда Медунова почему-то сняли с высокого поста и даже исключили из партии. Но путь к власти не прост. Порой приходится переступать через себя, через гордыню даже перед столь незначительными фигурами, что выступают на пути как мелкий камень на дороге, поскользнувшись на котором, невзначай можно и голову разбить.
Волновал Овечкина вопрос, что мог рассказать Усатов Москве, если сам не был на месте происшествия. Ну, отобрали у него по ошибке удостоверение, ну был председатель несколько выпившим при этом, так с кем не бывает? Усатов не мог ведь знать, что случилось на лесной поляне? Так что может Дженеев и прав, предложив приструнить самого Усатого за установление препятствий в лесу?
Такие вот сомнения скрывались за широкой улыбкой на лице председателя горисполкома и потоком слов при виде появившегося в дверях Усатова:
– Ну, здравствуй, праведник. Приехал, как говорится, с повинной головой, которую, сам знаешь, меч не сечёт. Раз виноват, надо исправлять ошибку.
Овечкин протянул руку Володе и с удовольствием отметил про себя, что тот не заартачился, а спокойно ответил пожатием, не выказав, правда, ни особого почтения, ни испуга перед начальством, словно знал о госте заранее и был готов к встрече.
По правде же Володя не знал, зачем его вызвали, но, заметив у входа в директорский корпус чёрную волгу с начальственным номером, начинавшимся с нулей, он спросил у Тани, кто в кабинете, узнал и мгновенно настроил себя на предстоящий разговор о событии в лесу. Он, конечно, не представлял себе, что именно говорить, но приготовился морально быть спокойным. Ясно, что сработала помощь отца, однако положительно или отрицательно – предугадать трудно, поскольку всё могло зависеть от того, как преподнесут случай другие люди, кто кому поверит, кто кого больше боится, у кого больше власти и так далее. Назовут клеветником – всю жизнь отмываться будешь.
Улыбка на лице председателя несколько успокаивала, но вместе с тем заставляла и ещё больше сосредоточиться. За свою недолгую жизнь в кругу интеллигентов науки приходилось не раз замечать, как некоторые завистники могли радостно встречать и обнимать кого-то более преуспевающего, а потом чуть ли не плевать в спину и при удобном случае подставлять ему ножку в виде чёрных шаров при голосовании на защите диссертации или отрицательной рецензии на интересную научную статью.
Впрочем, Володя понимал, что нравится тебе человек или нет, но внешние приличия всегда должны сохраняться. Рукопожатие – это древний обычай, говорящий о том, что встречающиеся не собираются причинять вред друг другу и не держат оружия в руке. Но переходить за рамки приличия, деланно улыбаться своему противнику, обнимать его, мечтая о моменте, когда можно будет ударить ножом в спину, такого отношения Володя не любил. Особенно не нравилось наблюдать по телевизору, как обнимаются главы правительств и партий. Понятное дело, что, как правило, личными друзьями они не являются, так зачем целоваться у всех на виду, показывая всем свою фальшивость? Можно же спокойно поздороваться за руку, что никто не осудит? Ну а улыбнёшься или нет, тут дело тонкое, дипломатическое. Встречают-то с улыбкой, да как проводят важнее.
Директор тоже улыбнулся со своего кресла. Так это было и понятно, поскольку он встречал своего молодого перспективного заведующего отделом, которого и во Францию на стажировку послать не стыдно. Талантливых и работящих людей, а именно таким был Усатов, видеть всегда приятно.
Дженеев предложил сесть, но председатель исполкома хотел быстро разделаться с главной своей задачей и, не выпуская руку Усатова, продолжал говорить:
– Вы здесь солиднее выглядите, молодой человек. Там в лесу я чуть не за пацана хулигана принял, который решил похвалиться силой перед своей девушкой, перекрывая дороги.
Володя нахмурился, почти силой высвобождая руку.
– Я был на дежурстве и выполнял просьбу лесника.
– Да-да, я знаю. Прошу извинить меня и правильно понять – я вёз раненого друга. Хотели доброе дело сделать – сократить численность воронья. А тут такое несчастье – Саша ставил ружьё в машину и задел за курок. Выстрел нас ошарашил. Повезли в больницу, чтоб успеть спасти, а тут ваш шлагбаум. Кстати, привёз вам новое удостоверение. Вот возьмите.
Усатов взял протянутое ему удостоверение, раскрыл.
Овечкин быстро добавил:
– Фотографию можете переклеить со старого, что я разорвал или поставить новую, как хотите.
– Спасибо. – Усатов спрятал удостоверение в карман и неожиданно для самого себя сказал:
– Это может быть не моё дело, но вы сейчас рассказали то же, что написано в газете, а там не всё вяжется.
– То есть? – обеспокоился Овечкин.
– Если вы охотились на ворон, то дробью, конечно?
– Естественно.
– Тогда с такого близкого расстояния дробь разнесла бы голову человеку.
– Так и было. Потому мы приказали запаять тело в цинковый гроб, чтобы при похоронах не расстраивать близких ужасной картиной.
– А к какой же ране вы прикладывали листья?
– Какие листья?
– Сухие, что лежат на поляне со следами крови?
Овечкин был потрясён услышанным.
– Вы что же ходили на то место?
– Я нет, а лесник был и рассказал, что увидел там.
Овечкин на мгновение задумался, но тут в разговор вмешался Дженеев, внимательно наблюдавший за разговором:
– Я прошу вас сесть за мой стол. Володя, что ты тут начинаешь какое-то следствие? Достань лучше из шкафа бокальчики. У меня есть бутылочка вашего Бастардо. Чудесное вино. Давайте продегустируем по случаю нашей встречи. Причина не очень весёлая, но не каждый день нас городской голова посещает.
Председатель горисполкома сел в предложенное у стола кресло и довольно спокойно сказал, продолжая разговор:
– Да нет, не следствие. Просто из непонимания могут быть разные слухи. Конечно, дробь испортила лицо, но мы пытались сразу остановить кровь и прикладывали листья. Что же тут удивительного?
Володя достал из шкафа два бокала и, ставя их на стол, пояснил:
– Извините, Сергей Юрьевич, я вызван на три часа в прокуратуру по этому делу, мне уже надо туда идти и потому не могу сейчас пить. Что же касается листьев, – тут Усатов повернулся к Овечкину и, глядя в глаза, спокойным голосом продолжил, – они возможно и не являлись бы доказательством, если бы не то, что погибший директор пивзавода, как говорят, взял на охоту с собой ружьё с нарезным стволом для пуль, а не патронов, и потому родственники требуют раскрытия цинкового гроба и новой экспертизы о причине гибели. Кроме того, удивляет присутствие женщин на, так называемом, отстреле ворон.
– Каких женщин? Что вы выдумываете?
Это был ещё голос начальника, но в нём послышались нотки отчаяния. Становилось очевидным, что не только Усатову, но и другим теперь известно больше, чем хотелось и ожидалось. И молодой учёный не замедлил подтвердить догадку словами:
– Пока мы перекрывали дорогу шлагбаумом, лесник поскакал на коне и успел увидеть женщин, которых вы отправили с поляны на другой машине.
– Что вы всё врёте? – Возмутился Овечкин и, тяжело поднявшись с кресла, ничего больше не говоря и не прощаясь, направился к выходу.
Дело принимало для него неожиданно неприятный оборот. Он понял, что проиграл, и всё может рухнуть. Нужны были срочные действия.
ЭХО ВОЙНЫ
Володя пришёл в прокуратуру вместе с Настенькой. Её не вызывали, так как не знали, где и как искать девушку из Москвы. Но они решили прийти вместе и теперь сидели за столом следователя, относительно молодого человека интеллигентной внешности с очень внимательными спокойными и может несколько усталыми глазами. Худощавое тело пряталось под белоснежной рубашкой, подчеркивавшей своей белизной официальность чёрного пиджака и столь же чёрного галстука. Довольно высокий лоб казался ещё более высоким благодаря появляющимся залысинам. Выпадение волос могло объясняться либо напряжённым умственным трудом, либо недостаточно качественным питанием, лишавшим организм необходимых компонентов для роста и укрепления волос на голове. Скорее всего, влияло и то и другое, поскольку напряжённая работа по охране порядка в городе сопровождалась зачастую отсутствием времени на нормальное питание.
Николай Николаевич Передков работал следователем недавно. До этого он был инструктором городского комитета партии, куда попал с комсомольской работы. Ещё до перехода в партийный орган он поступил на заочное отделение юридического факультета Киевского университета, где вскоре от него потребовали найти работу по специальности. Партийная работа не совсем устраивала преподавателей университета, да и самому Николаю хотелось заняться настоящей юридической практикой. И всё-таки следователем он стал, благодаря случаю, который изменил многое в его жизни и заставлял потом не раз задумываться над значением случайностей в жизни человека.
Произошло это летом, когда Передкова направили в санаторий “Ливадия” отвезти бланки наградных листов. Дело было простое, почти чисто курьерское. Нужно было только объяснить кое-какие детали по заполнению отдельных пунктов, что и было сделано весьма быстро. Освободившись, Николай Николаевич прошёлся пешком до небольшой площади, где договорился с водителем машины встретиться после того, как тот съездит на заправку горючим. В ожидании он остановился под тенистым деревом и стал по привычке наблюдать окружавшую жизнь, фиксируя для себя интересные детали.
Десять часов утра. Солнце выскользнуло из-за огромного платана, под которым стоял Передков, и начало припекать. День ожидался быть жарким. Посреди дороги разлилась в своё удовольствие лужа. Чистое голубое небо казалось опрокинутым в тонкую водную гладь и вода в луже, спасибо отражению, теперь представлялась не грязной, а тоже голубой и прекрасной.
По одну сторону от лужи служебный вход продуктового магазина. Сюда выносят пустые ящики из-под молока, кефира, вина, пепси-колы, которую не так давно стали производить в Симферополе по американской лицензии. Кому, кроме американских бизнесменов, нужна была пепси-кола, заменившая собой знаменитый российский лимонад, сказать трудно. Лимонад и другие прохладительные напитки, включая целебные кавказские минеральные воды Боржоми и Ессентуки различных номеров, всегда успешно утоляли жажду и являлись обязательным украшением праздничных столов. Теперь же многие белые и не совсем белые кости трудового народа считали неприличным отмечать праздники без пепси-колы на столе, которую подавали главным образом в качестве подарка для детей. Хотя раньше ту же радость их желудкам доставляли лимонад и ситро. Привлекало иностранное происхождение напитка, усиленно разрекламированное.
Магазин работает с семи утра, и теперь у его дверей нагромоздилась целая гора тары.
По другую сторону от лужи, чуть в стороне от неё, расположилась маленькая деревянная пристройка, подпирающая собой высокую стену из мощных кусков диорита, сложенную ещё в прошлом веке. Да, именно так, поскольку сам санаторий Ливадия в качестве царской резиденции был построен значительно раньше революционных событий Октября. Николай Николаевич знал и то, что складские помещения санатория, находящиеся чуть ниже разлитой перед глазами лужи, занимали в настоящее время обширные площади бывших царских конюшен.
В ожидании задержавшейся машины, глядя на старые, но по– прежнему крепкие кладки стен, легко представлялось молодому человеку, как в начале века по этим мощёным тогда дорогам выезжали с грохотом кареты расфуфыренных шёлковыми одеждами придворных, а то и самого царя. Челядь, очевидно, испуганно пряталась от сердитых глаз вельможных особ, а может, напротив, торопливо подбегала услужить да получить звонкую мелочь на водку.