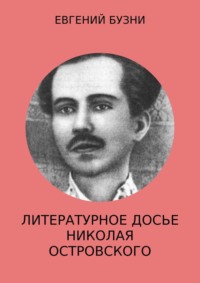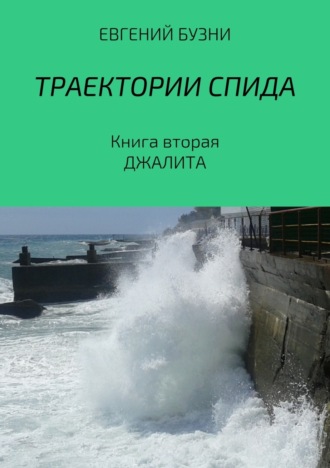 полная версия
полная версияТраектории СПИДа. Книга вторая. Джалита
– Ну почему же?
– Да потому только, что его нет вовсе. Вот почему люди на земле должны сами решать, как бороться с несчастьями, как воспитывать людей хорошими, а не бандитами, люди сами должны создавать свою судьбу, а не уповать на несуществующего бога.
Некоторые люди из кружка слушателей пытались остановить меня, но проповедник думал, что сможет сам меня положить на лопатки своей философией и прерывал их. Однако после этих слов он спросил:
– А вы кто по профессии?
– Не стал я говорить, что работаю переводчиком и редактором, а ответил просто:
– Журналист.
– Тогда понятно.
Ушёл я довольный тем, что хоть как-то смог воспрепятствовать запихиванию в мозги людей чепухи. Часто вспоминаю обе эти встречи на набережной, только первую с удовольствием, а вторую с удивлением: никогда прежде не могли позволить какому-то типу говорить на набережной людям всё, что взбредёт в голову. Не знаю, может это и называется демократией, когда кто что хочет, то и делает, но мне такая постановка вопроса не нравится.
Пришёл мне сейчас на ум один интересный английский анекдот по поводу демократии. Капиталистическая страна Великобритания. Там, казалось бы, самая что ни на и есть их демократия. Но вот что они сами о себе говорят.
В Лондоне есть одно место, где люди приходят поговорить и отвести душу в беседе с друзьями. Тут разрешается вслух поливать грязью и ругать кого угодно. Однако есть маленький запрет – нельзя критиковать королеву.
И вот один оратор начал вдруг говорить во всеуслышанье: “Королева дура. Королева дура".
К нему немедленно подходит полицейский, кладёт на плечо руку и приказывает пройти в участок.
– В чём дело? – спрашивает удивлённо оратор.
– Вы оскорбили честь королевы.
– Так я не о нашей королеве говорил. Я имел в виду датскую.
– Э, нет, – ответил полицейский. – Если дура, то это наша. Пройдёмте.
Смешно, не так ли? Но вот и у них демократия не полная всё-таки. На самом деле, конечно, настоящей демократии практически нигде нет и быть пока не может, так как любое государство есть аппарат насилия, защищающий силой свои устои, свои правила жизни. Когда все жители государства будут воспитаны в едином духе и будут счастливы, живя по единым законам, тогда государство, как аппарат насилия просто отпадёт. Но это теория. Я в неё верю, хотя осуществление очень далеко, тем более что сейчас, мне думается, мы поворачиваем в обратную сторону.
– Евгений Николаевич, – послышался сзади голос Володи, – может, и мы сейчас повернём назад? Откровенно говоря, уже есть хочется. Где ты нас собираешься потчевать сегодня?
– Вопрос своевременный, не только потому, что проголодались, но и потому, что мы подошли к знаменитой, известной далеко за пределами нашей страны гостинице Ореанда. Всё уже продумано. Хочу заметить для нашей гостьи, что это здание недавно перестроено с целью воссоздания точной дореволюционной копии внешнего вида, тогда как внутреннее содержание соответствует лучшим мировым стандартам настоящего времени.
– А нас пустят? – Испуганно спросила Таня побольше. – Это же интурист.
– С Евгением Николаевичем, – заметил Володя, – думаю эти вопросы лишние. Его знают везде.
– Дело не только в том, что меня знают, но и в том, что сейчас февраль, отдыхающих меньше, да и не так ещё поздно. Столиков много свободных. Пошли.
ПРОБЛЕМА МЕСТНОГО ХАРАКТЕРА
Дорогой, разлюбезный, терпеливейший из читателей строк, скользящих из-под пера на всеобщее обозрение. Впрочем, всем известно, что пером давно никто не пишет книги. Разве что расписываются кое-где золотыми китайскими перьевыми ручками да всемирно известными Паркерами. Писать большой труд в копилку истории стало легче шариковыми ручками, но и те уже уходят в небытие. Я, например, изливаю свои мысли на компьютере, экономя время и бумагу. Но не это сейчас главное.
Конечно, можно было бы теперь подробно описывать сцены в ресторане, куда зашли наши молодые люди отметить успешное выступление самодеятельного ансамбля. Я бы с удовольствием описал заказанное меню, состоявшее из салата Столичный, красной рыбы, сыра, колбаски и котлет по-киевски. Кстати, очень рекомендую попробовать. Но, заказав их, не торопитесь хватать за куриную ножку и тут же откусывать аппетитную на вид пузатенькую котлету. Она полна замечательного мясного сока, который может неожиданно выплеснуться на стол или, чего хуже, на колени соседки. Откусывать следует осторожно, не выливая мимо содержимое, которое между тем очень приятно на вкус.
Да, так я не буду теперь же описывать эти вкусности и то, как неопытной в ресторанном отношении молодежи принесли вдруг миски с водой, которую кто-то собирался даже выпить, не догадавшись сначала, что это лишь для полоскания пальцев рук, испачканных жиром замечательных котлет. Но официант деликатно объяснил назначение воды и предложил незамедлительно полотенца для вытирания помытых рук.
Я не стану всего этого описывать, ибо прекрасно понимаю, что читатель с нетерпением ждёт информации кто же кого убил в лесу и почему, что произошло дальше и кто наказан, получил ли Володя новое удостоверение и так далее.
Ну да, детективный сюжет требует темпа, и он был в этом деле.
Уже на следующий день, то есть во вторник, жители Ялты получили свежий номер местной газеты "Советский Крым", в которой на одной странице была напечатана статья Татьяны Барской о фестивале самодеятельных коллективов, где успешно выступил ансамбль института "Магарач", который, хоть и не занял первого места, очевидно, по причине старомодности, но вызвал, тем не менее, большой интерес и любовь к себе всего зала. Рядом была помещена фотография трио в фойе клуба.
А на другой странице этого же номера газеты почти незаметно для читателя под рубрикой "В Ялтинском горкоме компартии Украины" расположилось сообщение следующего содержания:
"Воскресным днём 8 февраля в заповедном лесу, близ домика лесника, раздался негромкий выстрел. Для директора Ялтинского завода пивобезалкогольных напитков Боровкова он оказался роковым.
Утром того дня начальник Ялтинского коммунального авто-предприятия Громейкин, водитель этого же предприятия Розанов и Боровков отправились на служебном автомобиле на отстрел серых ворон, имея при себе охотничьи ружья и соответствующее разрешение. Объехав дозволенные для отстрела места, они беспрепятственно миновали шлагбаум и оказались на территории Ялтинского горно-лесного государственного заповедника.
Не вдаваясь в подробности, отметим, что Боровков и Розанов, прихватив заряженные ружья, удалились в угодья заповедника. Возглавлявший группу Громейкин даже не попытался воспрепятствовать этой противозаконной акции.
Согласно показаниям свидетелей, вернувшись и пытаясь поставить ружьё через переднюю дверь машины, Боровков неосторожным движением разрядил его и был смертельно ранен последовавшим выстрелом.
За несколько минут до этого к месту происшествия подъехали председатель Ялтинского горисполкома Овечкин, его заместители Подаревич и Котовец.
После трагического выстрела пострадавший был доставлен в реанимационное отделение городской больницы, где на следующий день скончался".
Ах, читатель-читатель, сколько же подобных историй знаем мы на Руси? Сколько невинных людей погибло то ли от случайного выстрела развлекающихся в лесу начальников, то ли под колёсами несущихся без правил и ограничений скорости машин сильных мира сего, то ли от грозных окриков партийных и государственных руководителей, когда сердца подчинённых не выдерживали страха и прекращали неожиданно биться. То, что подобное происходило в случаях не с начальниками или не с коммунистами, как правило, никем не учитывается. Простые люди за подобные оплошности или преступления просто попадают в суд, где обсуждаются лишь детали трагедий. Что же касается начальников, да ещё коммунистов – тут дело другое. Их все видят, их олицетворяют с системой, а потому и спрос с них другой.
Только вот что я вам скажу. Да, позволяли себе некоторые коммунисты закрывать глаза на грехи руководителей, позволяли пользоваться властью, превышая данные партией полномочия, но было ли это болезнью коммунистической системы или болезнью человечества, от которой и коммунисты не смогли избавиться? Не встречалось ли нам то же самое на барских охотах царской Руси, не случаются ли те же эпизоды в любой стране капиталистического мира, где верх в судебных процессах одерживает не тот, кто прав, а тот, кто больше заплатит?
Не известно ли нам хорошо выражение: "Власть портит человека"? Ой, как редко кому удаётся пройти неиспорченным сквозь огонь, воду и главное – медные трубы славы и почёта. От руководителей коммунистов быть неподкупными, справедливыми и честными требовал их устав. Если он не выполнялся кем-нибудь, следовало человека гнать из партии. Это и делалось, однако не всегда, в чём и состояла, мне кажется, главная трагедия. И всё же именно к коммунистам люди обращались за бескорыстной помощью, именно от них всегда ждали порядочности и, если её не обнаруживали в ком-то, с горечью говорили: Нет, это не коммунист, а барахло какое-то.
А от какой ещё категории или от какого класса людей простой человек может ожидать поддержку? Ну, обратится он к бизнесмену и спросит, зачем тот спекулирует и обворовывает. А тот ответит, что на то он и бизнесмен, тем он и зарабатывает, тем и живёт, что сам тратит меньше, а получает от других больше.
Возмутится кто-то другой по поводу того, что капиталист выбрасывает рабочих со своего предприятия, ни мало не заботясь о том, куда те денутся сами да ещё с семьями. А он ответит: “Да на том стоим. Нам главное своё удержать, а не вас от голода спасать".
О, читатель возражает и он прав. Умный капиталист так не скажет. Он станет толково объяснять, что ради развития страны, ради прогресса, в котором слабым не место, ради блага всего народа, кого-то надо и увольнять. Им – уволенным будет плохо, зато всем остальным будет хорошо.
И ведь не пожалуешься никому, поскольку вся система капитализма такова. Но это я опять так, а про по. Рассказ мой, кажется, о другом.
Утром следующего дня, когда все жители Ялты уже успели развернуть газету "Советский Крым" и кто в курилках, кто за рабочими столами активно обсуждали подробности случая в лесу, в Москве на Старой площади в одном из старинных зданий, занимаемых Центральным Комитетом коммунистической партии, происходила встреча отца Володи – Трифона Семёновича с его партийным товарищем и большим партийным руководителем Григорием Ильичом.
– Я почти всё выяснил, Трифон Семёнович. Кстати, спасибо за звонок. В Крымском обкоме, по-моему, обалдели оттого, что я уже знаю о случившемся. Но я только спросил пока, что у них произошло без ссылки на твою информацию.
– Можно было и сослаться.
– Да нельзя сразу. Пусть сами немного поработают. И вот ещё закавыка, о которой я тебе говорил – этот ялтинский Овечкин двоюродный брат нашего Николая Орестовича.
– Зав отделом? Петренко?
– Вот именно. Я уже говорил с ним. Он сейчас у себя и хочет с тобой встретиться.
– Та-а-к, – протянул Усатов, – это действительно может быть хуже.
– Нет-нет, не тушуйся. Ты всё-таки без пяти минут академик. Или уже без одной? – улыбаясь, спросил Григорий Ильич, вспомнив, что присвоение академика Усатову уже дело решённое. – И дело, думаю, не в твоём сыне. С ним всё уладим. Проблема в самом Овечкине. Николай Орестович просто взбешён историей.
– Так, а что там случилось?
– Ладно, он сам скажет. Пошли, а то и он уезжает скоро, и мне надо готовить срочные материалы.
В кабинете Петренко против ожиданий Трифона Семёновича разговор начался довольно спокойно.
Хозяин просторной комнаты поднялся из-за широкого письменного стола, пошёл навстречу, протягивая руку:
– Рад видеть вас, Трифон Семёнович. Жаль, что по неприятному поводу, но давненько не встречались. Как себя чувствуете?
– Пока всё нормально, спасибо.
– Тогда я, извините, сразу к делу. Время ограничено и у меня, и у вас.
Николай Орестович, большой грузный человек с широким типично украинским лицом, вернулся к столу, на котором лежали развёрнутые листы газеты.
– Вот мне уже принесли сегодняшний номер их крымской газеты. Тут успели тиснуть информацию из горкома партии. Пишут, что произошёл случайный самострел. Вроде бы говорить не о чем, но как я понял у вас от сына несколько иная информация. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Только забудьте о том, что этот предисполкома мой родственник. Он, прежде всего коммунист на ответственном посту и должен отвечать за свои действия, какими бы они ни были. Пожалуйста, говорите.
Трифон Семёнович передал сжато рассказ сына.
Николай Орестович слушал, опустив глаза на газетный лист, внешне спокойно. Лишь вздувавшиеся желваки щёк выдавали закипавший внутри гнев. Наконец он нажал кнопку на телефонном аппарате и сухо произнёс:
Соедините с Ялтинским исполкомом.
Минута прошла в молчании. Желваки продолжали появляться и исчезать. Раздался зуммер и за ним голос:
– Слушаю.
Петренко заговорил медленно и чётко, слушая ответы и удерживая свой голос на уровне спокойного:
– Здравствуй!… Докладывай, что ты ещё накуролесил в свой выходной?… Как это у тебя на всё времени хватает? И ворон стреляете там, и людей заодно, любители природы?… Значит, тебя там в этот момент не было, и встретились вы случайно? … Это всё я уже прочитал в газете… Да успел, как ни странно. Теперь ты мне вот что скажи, ты пил там в лесу? … Нет?
И тут Петренко прорвало. Он грохнул по столу кулаком и закричал уже с явным украинским акцентом в голосе:
– Шо ты брешешь, як брехливый пёс? Я специально спросил про выпивку. Ты ж ничего не понимаешь, шо тебя люди видели. Ты кому там удостоверение разорвал? Или все твои памороки были затуманены так, шо ты и не вспомнишь? Так я тебе скажу. Ты встретил в лесу уважаемого учёного, хоть и молодого. Он у тебя в области, да и во всей нашей стране занимается селекцией винограда, для твоего же хозяйства выводит новые сорта. А ты его пнул потому только, шо был пьян. Сейчас мне отрицаешь это, стало быть, всё в газете враньё. И ворон вы не отстреливали, и в лесу ты оказался не случайно. Тем более, што, как я помню, директора пивзавода ты мне как-то представлял своим другом. Не хочу слушать тебя больше, да и времени нет, поэтому советую тебе сегодня же найти этого Усатова. Для твоей информации это сын нашего академика.
Трифон Семёнович, услышав эти слова, отрицательно затряс головой, но Петренко резко отмахнулся рукой, давая понять, что всё понимает насчёт звания и продолжал жёстко говорить, постепенно снижая тональность голоса:
– Найди его в институте и выдай сегодня же новое удостоверение, с извинениями естественно. Это раз. Вспомни, шо у тебя на самом деле там произошло и подумай, как погасить назревающий скандал. Это два. Если виноват, а я подозреваю, што так, подыскивай себе другое место. Это три. Всё.
Отключив телефон, Петренко тут же снова нажал несколько кнопок и, услыхав ответ, опять загрохотал:
– Петренко звонит. Здравствуй, што там у вас происходит? Кому в голову приходит стрелять ворон? Поняли о чём говорю?… Разберитесь с Ялтой. Уберите Овечкина к чёртовой матери! И без него хватает компромата партии. Шо это за дела, што председатель горисполкома возглавляет свиту по отстрелу ворон? Ему нечем больше заниматься? Да кто в это поверит? Разберитесь и доложите! Всё!
Да, брат читатель, телефонное право у нас работало исправно. Звонки из обкома в горком, прокуратуру и дело закрутилось по новой траектории. То, что считали вчера ненужным расследовать, вдруг оказалось чрезвычайно важным. По ступенькам власти понеслись слова:
– Кого вы слушаете? Кто у вас главный – закон или исполком?
– Почему не делаете, как положено? Мало ли кто скажет, что самострел?
– Ваше дело расследовать по закону и привлечь ответственных.
– Вызывайте всех свидетелей.
А тело погибшего уже запаяли в цинковый гроб с пояснениями, что от близкого выстрела разнесло голову, а потому не нужно родным смотреть на тело из чувств гуманности.
Но пришлось-таки найти свидетелей, пришлось согласиться с докладной лесника о том, что была и третья машина с женщинами. А уж тогда и женщин самих нашли, и выстрел, что был произведен издали, описали во всех подробностях, какие замечены были пьяными сознаниями гулявших на поляне сильных местного мира.
И не было в показаниях злых серых ворон, которых никто и не видел в тот день, о которых и не думали. Ну, кто же на ворон идёт с ружьями с нарезными стволами для пуль, способных завалить лося? Вороне и дробинки достаточно. А из головы убитого пулю вынули. Пришлось и её приобщить к делу. А сначала кусочек металла, вроде как, и не замеченным оказался. Следователи своё дело знают да исполнять умеют, развяжите им только руки, дайте им только проявить свою опытность и смекалку – любое дело раскроют.
Французское "шерше ля фам", то есть "ищите женщину" подошло в этом деле в точности. Не поделили одну из них во время кутежа предгорисполкома и директор пивзавода – вот и разрешилось всё выстрелом. Жалей не жалей потом, а дело сделалось. Пришлось придумывать в какую воду какие концы прятать. Всё бы так и обошлось, не повстречайся в лесу им случайно в нём оказавшиеся молодые люди. Да и то бы ничего не случилось, не окажись у одного из них в Москве большого папы. И это бы не повредило, не случись у предгорисполкома несдержанности характера, заставившей его порвать удостоверение. Не порви он его, не накричи на общественного дежурного, ведь не стал бы тот звонить в столицу со своей обидой и не закрутилось бы дело в другую сторону. Но пьян был и суров начальник. А не будь пьян, и выстрела бы не случилось. А не спускались бы подобные выезды прежде, не делалось бы то же самое ещё более крупными начальниками, коим и подражают меньшие, то и вообще ничего бы плохого не произошло.
Но, как говорят в народе, если бы да кабы, во рту выросли б грибы, и был бы не рот, а целый огород. Всё было, как было. И вынужден был Овечкин сесть в свою "Волгу" да прикатить в институт "Магарач", где он уже был встречаем директором, гладко выбритым круглолицым невысокого роста человеком.
Сергей Юрьевич, несмотря на свою моложавую внешность, давно стал профессором и теперь находился на подходе к званию члена-корреспондента. При этом ему нравилось, рассказывая о себе, говорить с удивлением, мягко картавя на звуке “р”:
– Сам не знаю, как так получалось, но проработал много лет в сельскохозяйственном институте в одном и том же кабинете, выполняя одну и ту же работу, и постепенно из простого преподавателя становился старшим, затем доцентом, проректором, стал кандидатом наук, доктором, профессором. Изменил только кабинет, когда перешёл работать в “Магарач”. А всю жизнь занимался одним делом – вопросами хранения плодов, выполнял одну и ту же работу.
Сергей Юрьевич, конечно, лукавил, уходя от рассказа о многочисленных переживаниях, предшествовавших всякому продвижению по служебной лестнице. Но ему было приятно и давно привычно представлять себя простачком, неизвестно почему и как выбившимся в доктора и директора крупного научно-исследовательского института.
Сейчас он встречал председателя горисполкома, спустившись со второго этажа под тень огромного платана, занимавшего своей лысой пока в зимнее время кроной почти всё воздушное пространство над небольшим двором у старинного здания виноградовинодельческого института. В летнее и осеннее время от могучей лиственной шевелюры гигантского дерева лужайка под ним, засаженная травой и цветочными клумбами, была всегда темноватой и потому выглядела уютной для любителей разговоров интимного характера. Интимного не в том смысле, что о любви и личных переживаниях, хотя и о них тоже, но в основном о каких-то научных проблемах, которые почему-либо не решаются, о взаимоотношениях между учёными, продвижениях по службе, чёрных шарах при голосовании на защитах диссертаций и просто о жизненных проблемах, обсуждать которые лучше всего не в кабинетах, наполненных штатом сотрудников, имеющих обыкновение вмешиваться своими соображениями в любой спор, а здесь на воздухе, где и подышать приятно, и тихие голоса скрадываются ещё больше шумом листвы да журчанием небольшого фонтанчика, спрятавшегося у опорной стены подъездной дороги.
Когда платан был помоложе, в здании, сложенном из массивных кусков диорита, находилась женская гимназия, которую посещала и знаменитая украинская поэтесса Леся Украинка. Теперь шумные девчачьи голоса сменились на неторопливые научные разговоры.
Ворота института автоматически открылись и к каменному крыльцу, перекрытому от дождя широким козырьком, подкатила чёрная волга председателя.
В зарубежных фильмах, рассказывающих о жизни в Советском Союзе, плохо знающие реальную обстановку авторы, обязательно показали бы, как директор института бросается к машине открывать дверцу, чтобы угодить большому начальнику и обязательно обратился бы к нему, называя должность, то есть что-то вроде “Здравствуйте, товарищ председатель”.
На самом деле в жизни всё происходит у нас иначе. Чинопочитание, разумеется, есть, но выражается оно теперь тоньше. Ну, вот сам директор спустился со своего третьего этажа и вышел во двор. Это уже не просто. Далеко не к каждому он пройдёт навстречу с крыльца. Но подбегать к машине не будет, пусть даже начальство гораздо выше. И говорить слово “председатель” было бы в данной ситуации просто нелепо. Они давно знакомы, не один бокал вина вместе опрокидывали в различнейших ситуациях, так к чему же кочевряжиться в официальностях, если можно просто по имени и отчеству?
Нельзя к тому же забывать, что тебя видят твои подчинённые. Они не должны заподозрить директора в потере уважения к самому себе, к званию учёного перед административным лицом любого ранга. Так что встреча во дворе у всех на виду – это как раз хорошо, чтобы видели, что сам городской голова приезжает вот так запросто к директору. Но, понимая важность председателя, ни коим образом не допустимо потерять при этом свою собственную значимость. Встреча ещё не закончится, а научные сотрудники института, случайно оказавшиеся свидетелями, библиотекари, выглянувшие в окно из своего читального зала, лаборантки и техники уже начнут судачить о том, как их директор встретился с важным лицом, кто кому больше почтения оказал. И не пройдёт и дня, как кто-нибудь из почти равнозначных по положению учёных обязательно при встрече скажет:
– Ну, Сергей Юрьевич, слышал, вы сегодня голову принимали. Говорят, вы держались молодцом. Сами почти как министр шли.
Или, не дай бог, кому-то показалось обратное, то и заметят тогда саркастически или с как бы дружеским участием:
– Что-то вы, дорогой Сергей Юрьевич, перед городским начальством так заискиваете? Он же только в городе начальник, а вы как-никак директор головного научного института всей страны. Находимся только в маленьком городке Ялте, а руководим-то всей отраслью.
А третьи могут сказать совсем иначе:
– Что ж это вы нашего председателя исполкома, как простого смертного встретили? Он же городом командует. Мы от него во многом зависим. Понятно, что вы профессор, но его люди выбирали, стало быть, он достоин большего уважения.
Короче говоря, быть директором – это, значит, знать не только свою профессию, которой учился, но и обязательно быть дипломатом. И если тебя снимут с высокого поста, как было с Голодригой, то не за то, что дела не знал, а за прокол в дипломатии отношений то ли с руководством, то ли со своими сослуживцами.
Это Дженеев понимал хорошо и потому встретил Овечкина у крыльца, когда тот вышел из машины, протянул руку и весело произнёс как старому другу:
– Здравствуйте, Владимир Викторович. Рад видеть у нас. А где же ваша свита?
И разводя руками, явно играя на публику, которая могла видеть его из широких окон института, дружелюбно продолжал:
– Мы привыкли вас видеть только с сопровождением…
Между тем у Овечкина было совсем не театральное настроение. Ему как раз не хотелось широкого представления, и он сухо оборвал:
– Я на минутку. По делу. Где мы поговорим?
–Так, понятно, – быстро ответил Дженеев, мгновенно оценив ситуацию, – пройдёмте ко мне.
Войдя в холл и понимаясь по широкой лестнице, покрытой красной ковровой дорожкой, Сергей Юрьевич не стал обращать внимание гостя на расположенную вдоль лестничных маршей по всей стене галерею барельефов знаменитостей виноградовинодельческой науки, в число которых попал почему-то и русский князь Галицин. Но его личность была здесь не случайной.
При других обстоятельствах Сергей Юрьевич мог бы рассказать сам, но, скорее всего, пригласил бы для проведения экскурсии большого знатока истории “Магарача”, заведующего отделом пропаганды, Романа Кирилловича Акчурина, который хоть и был по национальности казанским татарином, стало быть, дальним потомком кого-то из захватчиков Руси, пришедших некогда с Чингисханом, но, что характерно для всех народов, населяющих ныне страну, давно ставшей для них Родиной, он любил Россию, и с чувством гордости за неё, не торопясь, и очень эмоционально начал бы не рассказывать, а именно повествовать, почти петь о том, что великий русский князь Сергей Голицын был фактически основателем российского виноделия, что именно тогда, когда на Руси увлекались всем иностранным и пили в основном французские вина, этот князь Голицын предложил царю начать производство своих отечественных вин. Царь согласился определить жалованье Голицыну за работу, на что тот оскорблённо ответил, что никогда не служил и служить не собирается, но готов продавать вино, беря за каждую бутылку по копейке. Голицынские вина были отменного вкусового качества и потому принесли огромный доход князю и славу российскому виноделию.