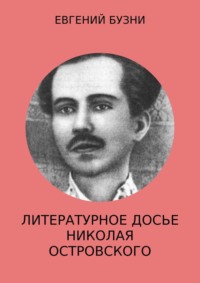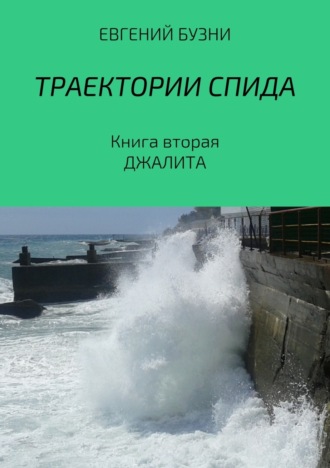 полная версия
полная версияТраектории СПИДа. Книга вторая. Джалита
Как обычно, Женя организовал на площади воскресный книжный базар, куда по обыкновению пригласил кроме местных ялтинских поэтов, маститых мэтров из Москвы, находившихся в эти дни на отдыхе в Доме творчества.
Приглашать он ходил частенько вместе с Антоновым, и в этот раз они познакомились с необычным поэтом Николаем Глазковым, выделявшимся среди всех современников, прежде всего внешностью. Казавшийся неопрятно одетым, с удивительной тощей бородкой на худом лице, Глазков напоминал собой какого-то средневекового горожанина и, видимо, потому попал в эпизод нашумевшего фильма Тарковского "Андрей Рублёв", в котором снимался без всякого грима, чем очень гордился.
Встретив такого человека на современной улице, трудно было бы поверить, что за этой внешностью скрывается очень мыслящий, хорошо образованный поэт, именовавшийся в литературных кругах патриархом, ибо ему доводилось вращаться со своими стихотворными строками ещё в Есенинских и Маяковских кулуарах.
Твёрдого обещания выступить перед воскресной публикой Глазков не дал, но сказал, что паче чаяния он с друзьями окажется на прогулке в этом районе, то возможно и почитает что-нибудь из новенького.
А новенькое у него было, и к объявленному в "Курортной газете" времени начала выступлений группа московских поэтов уже была на площади, рассматривая выложенные на ряды столиков книги, среди коих, естественно, не было их произведений. Страна в то время переживала поэтический бум, когда стихотворные сборники распродавались быстрее копчёной колбасы, особенно если их авторы были замешаны хоть в одном заметном скандале.
Первыми микрофоном на площади завладели начинающий поэт Саша Марков, не считавший, конечно себя таковым, а, скорее, профессионалом, поскольку успел познакомиться с самим Андреем Вознесенским, побывавшем в его криминалистической лаборатории (Марков работал в милиции). Читал стихи и Юра Меньшиков, продолжавший работать в горкоме комсомола. Его сменил известный в Крыму поэт пионерии, прославившийся стихами об Артеке и для Артека, Николай Кондрашенко. Сам Женя, будучи ведущим программы, тоже читал свои стихи.
Наконец, слово было предоставлено московскому поэту Николаю Глазкову. Хотя, может быть, перед ним выступил его друг из Калмыкии Кугультинов. Но дело не в этом. Ключевым моментом события того дня было выступление именно Глазкова.
Суть происшедшего заключалась в том, что как раз незадолго до того в стране было объявлено нечто вроде сухого закона, то есть, велась борьба с пьянством. А Глазкову пришла в голову мысль почитать только что написанное им новое произведение, называвшееся "Спор водки с коньяком".
Само название стихотворного шедевра – иначе его себе автор и не представлял – как и большинство авторов своих новых творений, уже насторожило блюстителей издававшихся законов. Привлекло оно внимание и содержанием, в котором речь шла о том, что два известных напитка спорили между собой, кто более популярен и ценен для народа. Водка аргументировала тем, что её пьёт рабочий человек, тогда как коньяк потребляет бюрократ и казнокрад. Коньяк же возражал, утверждая, что водка де из сивушных масел и приносит вред здоровью в отличие от благородных виноградных кровей коньяка, дарящих радость и витамины людям.
Любому мало-мальски догадливому слушателю было понятно, что речь шла не столько о том, что лучше пить, сколько о том, кто лучше: рабочий человек или бюрократ. Уловив мгновенно возможную скандальность прочитанного Глазковым, Женя попытался несколько смягчить шоковую реакцию присутствовавших местных блюстителей порядка и потому с улыбкой подойдя к микрофону объявил:
– А теперь, после несколько шуточных стихов Николая Глазкова предлагаю слово ялтинскому поэту сатирику Игнату Беляеву.
И Игнат Степанович тоже прочитал о выпивке, но совершенно в другом русле. Его поэтический короткий рассказ выводил на чистую воду отдыхающего, который на совет врача выбрать себе оздоровительный маршрут вместо путешествий по горам и парковым дорожкам избрал короткий маршрут в пивную и обратно.
То ли на несчастье, то ли на счастье, но в числе слушателей, стоявших плотным кольцом вокруг выступавших, оказался случайно проходивший мимо секретарь ЦК партии Украины Титаренко. Не успели зрители разойтись, а руководство горкома партии было уже оповещено о крамольном выступлении поэта у памятника Ленину.
Очень скоро созванное бюро горкома партии, не имея возможности хоть как-то наказать московского писателя, автора шести сборников стихов, но вынужденное отреагировать на происшедшее в связи с указанием вышестоящего начальства, объявило Жене, как организатору книжного базара, на котором были допущены неутвержденные горкомом выступления, строгий выговор со снятием с должности в книготорге.
Писательская общественность, отдыхавшая мирно в доме творчества имени Павленко, заволновалась, засуетилась: как же так, из-за их собрата по перу пострадал ни в чём не винный человек? И Женю подвели под руки к сидевшей в кресле поэтессе – символу времени – Маргарите Алигер, которая, внимательно выслушав историю в кратком эмоциональном изложении одного из инициаторов оказания помощи, сановно произнесла:
– Я, конечно, могу пойти в горком партии и поговорить с ними. Но это будет прецедент, который не останется не замеченным. Начнётся скандал. Нужно ли это? Я не отказываюсь, но подумайте, молодой человек, нельзя ли решить вопрос другим способом?
Женя сказал, что попробует съездить сначала в обком партии, и поехал. Заведующий отделом пропаганды Качан принял радушно, спокойно выслушал Женю, и то ли уже знал о возможных последствиях связи с писателями, то ли действительно искренне согласился с доводами Жени, но тут же соединился с Ялтинским горкомом и мягким ровным голосом, но очень определённо сказал:
– У меня тут ваш коммунист сидит, Инзубов, которого вы сняли с работы из книготорга. Он вот рассказал мне, что произошло, и я, честно говоря, не понимаю, в чём его вина.
Иван Андреевич Бондарь, секретарь горкома по пропаганде, стал что-то объяснять, но был прерван коротко:
– Так вы устройте его на работу, куда он хочет, а не бросайте.
Женя мечтал быть переводчиком и на следующий день приступил к этой должности в институте "Магарач". Так закончился очередной эпизод, связанный с набережной. Тогда Женя ещё раз убедился в том, что в партии бывают разные люди, как и везде: одни понимают что-то лучше, другие хуже, одни живут для людей, другие работают за зарплату. Но рассказывать обо всём этом можно было очень много и долго. Настеньке, как новому человеку, нужна была экскурсия. Её он и стал вести.
– Не буду задерживать ваше внимание, Настя, на происхождении слова Ялта. Легенда довольно короткая. Как-то греческие моряки попали в шторм и совсембыло отчаялись спастись, как увидели берег и закричали радостно "Ялос! Ялос!", что в переводе с греческого и означает слово "берег". Так и назвали местечко Ялос. Именно это название впоследствии трансформировалось другими народами в Ялту. Впрочем, наш город называли некогда и Ялитой, и Джалитой.
– Джалита! – Восхитилась Настенька. – Какое музыкальное слово. Надо его запомнить для себя. В нём что-то есть.
– Ну-ну, запоминай, – и улыбка скользнула по губам рассказчика. – А вообще древнейшими людьми, населявшим здешние места, были тавры, по имени которых была названа позднее Таврическая губерния, включавшая в себя не только Крым, но и часть нынешней Херсонской области, хотя сами тавры жили только на южном берегу Крыма. Это были относительно замкнутые племена, которые обычно с приближением вражеских кораблей уходили в горы и прятались в пещерах. О приближении опасности они оповещали жителей кострами, которые разжигали на трёх горах выступающих в море. Например, если первый костёр загорался на горе Кошка, что в районе Симеиза, то его сразу замечали сторожевые на Медведь горе возле Гурзуфа и оживляли огнём своё кострище, которое хорошо было видно с горы Кастель, с которой тут же поднимался дым нового костра. Так население всего побережья от Симеиза до Алушты узнавало о приближении врагов и либо уходило, как я сказал, в горы либо вооружалось и готовилось к отражению нападения.
Между прочим, остатки древних кострищ до сих пор находятся на этих сторожевых горах.
В те времена, полагаю, никакой набережной на том месте, по которому мы идём, не было, а тянулась какая-нибудь тропка в густом можжевеловом лесу. Шли века, а с ними различные завоеватели типа греков, турок, татар. И хотя русские пришли в Крым более двух столетий назад при Екатерине Великой, Ялта, как город, появилась совсем недавно, всего сто пятьдесят лет назад, то есть в тысяча восемьсот тридцать восьмом году. В этом году отмечаем юбилей. Именно тогда ей был присвоен статус города, хотя уже в то время здесь процветал с восемьсот двенадцатого года знаменитый сегодня Никитский ботанический сад, одним из отделений которого была школа виноделов в урочище Магарач, из которого вырос наш головной сегодня в стране всесоюзный научно-исследовательский институт виноделия и виноградарства "Магарач", тогда работал ныне широко известный институт климатологии имени Сеченова. В те времена богатые люди из больших городов России приезжали сюда лечиться воздухом. Вот когда и появляется набережная, по которой гуляли самые знаменитые люди своего времени.
Не знаю насчёт Пушкина, ибо он упоминал лишь Гурзуф, который находится с одной стороны Ялты да Чёртову лестницу, подниматься по которой ему доводилось, держась за хвост осла. Но она по другую сторону от города, так что Ялту он, разумеется, видел. А вот кто из писателей действительно прославил наш город своим присутствием, так это Антон Павлович Чехов. Тогда по набережной гуляли весьма знатные особы, расфуфыренные роскошными нарядами и изредка проезжали пролётки, управляемые местными татарами.
Городок был совсем маленьким по сравнению с сегодняшними размахами. Кстати все изменения произошли в основном за последние лет тридцать. Послевоенная набережная, какой я её помню с детства, очевидно, мало чем отличалась от чеховской, по которой прохаживались Толстой, Шаляпин, Горький, Есенин…
– Как, Серёжа тоже здесь был? – При этих словах глаза Настеньки порхнули ресницами, широко раскрывшись от изумления. – Этого я не знала.
Евгений Николаевич улыбнулся.
– Любопытно, что ты назвала Есенина по имени, как своего близкого.
– Да, я его иначе и не представляю. Очень люблю его стихи.
– Тут мы с тобой явно сошлись во вкусах. Я даже написал строки ему с такими словами. Вот послушай:
Мы с тобой родные,
мы с тобой друзья…
Серёжа, ты – Россия,
часть России – я.
В дальней дымной дали,
смяв страданий куст,
Серёжа, ты скандалил
восторженностью чувств.
В угаре опьянения,
что больше, не поймёшь,
вино или поэзия
тебя бросали в дрожь.
Вьются продолжения
из кружащей прялки,
а тебя, Есенина,
выкружило в парки,
выплакало в рощи
под берёзы тени.
Родина хорошая
у тебя, Есенин.
Не испортить только бы,
в горе не завыть,
научиться б Родину
так, как ты, любить.
– Не слабо, – послышался сзади голос Володи. – Этого мне Женя не читал.
– Володенька, – укоризненно воскликнула Настя, – во-первых, не подслушивай, а во-вторых, не перебивай наш разговор. Тебе хорошо, ты с Евгением Николаевичем каждый день можешь встречаться, а я, может, впервые с таким человеком разговариваю.
– Больше не буду. Мы тогда с вашего позволения тихонько попоем – и, вскинув гитару на грудь, он запел романс "Милая", который был тут же подхвачен двумя дружными голосами девушек.
Солнце уже почти касалось горы Магоби, готовясь на покой. Эта гора для ялтинцев имела особый смысл. На неё часто поглядывают, чтобы определить погоду на ближайшее время, давно приметив, что если Магоби покрылось шапкой облаков, то не миновать дождя в городе и, стало быть, следует брать зонтик или спешить домой. Сегодня Магоби встречала солнце, упираясь лесной ершистой головой в чистое небо, и потому погода и вечером обещала быть хорошей. Море дохнуло бодрящим озоном. Трое пели романс. Евгений Николаевич продолжал рассказ о набережной.
– Да бывал здесь и Есенин, человек любивший Россию, я бы сказал, каждой стрункой своей души, каждой клеточкой организма. Между прочим, здесь жила и прекрасная украинская поэтесса Леся Украинка, которую я обожаю. Интересно, что в ранние годы она была гувернанткой впоследствии известного нашего винодела Охременко, гордости института "Магарач".
– Она писала на украинском?
– Естественно.
– А вы знаете украинский?
– Представь себе да, и очень люблю этот красивый поэтичный певучий язык. Правда, я никогда не учил украинский в школе. Ведь Крым, как ты, может быть, знаешь, стал русским со времён Екатерины, и только в тысяча девятьсот пятьдесят шестом году Хрущёв сделал жест и подарил его Украине. Для нас, местных жителей, это значения почти никакого не имело. Нас интересовало только, будет ли лучше или хуже снабжение продуктами питания. Однако позже стали появляться в некоторых местах надписи на украинском языке. Кому-то очень хотелось привить украинский язык. Но насильно такие вещи не делаются.
Помню, как шли по набережной и неожиданно прочитали над знакомой парикмахерской слово пекарня и не поняли в чём дело, так как никакой пекарни там не было. Но потом внимательнее прочитали и поняли, что это написано не пекарня, а перукарня, что в переводе с украинского и означает парикмахерская. Мы долго хохотали и всем рассказывали, что на набережной появилась пекарня. Естественно, кто не хотел, так и не выучил украинский язык до сих пор. Ну а я учил сам по песням и нескольким книгам, которые решил прочитать, чтобы познакомиться с языком. Этот период набережной я хорошо помню.
В те годы она ещё была узкой. Нижней набережной, которую ты сейчас видишь у самого моря, тогда ещё не было. Волны во время шторма, ударяясь о парапет, поднимались высоко и накрывали собой всё пространство, покрытое асфальтом, доставая даже дорожку за кустами тамариска.
– А что это такое – тамариск?
– Да вон зелёные кусты, словно ограда тянутся. Вообще-то ботаники называют его гребенщик, а на латинском – тамарикс. Но многие называют тамариск, что тоже правильно. Это тропическое растение, и, наверное, единственное не боящееся солёных брызг моря. Я мальчишкой любил в шторм идти у самого парапета с уверенностью, что меня море знает и накрывать волнами не станет. Действительно получалось иногда так, что волны опрокидывались то впереди, то сзади. Естественно нужно было следить за ними и то ускорять шаг, то задерживать, чтобы не попасть впросак и не намокнуть. А отдыхающие, те любили специально подбегать поближе к морю и потом с весёлым визгом убегать от несущейся тучи брызг. Радость невероятная. Люди любят яркие ощущения. Они в жизни, как острая приправа к вкусной пище.
Но это же наше прекрасное море, постоянно облизывая языками берега, подмывало набережную, и асфальт её частенько проваливался. Тогда в место нарушения порядка через несколько дней подвозили песок, щебень и участок асфальтировали заново. Летом появлялась другая проблема – асфальт плавился на солнце, и бывало так, что обувь утопала в нём, оставляя следы, или даже прилипала. Сейчас покрытие более прочное.
Время крыльями своего прогресса касается всего, но не всегда меняет обстановку в лучшую сторону. Это печально. Я, например, помню, как на набережной играл бесплатно для всех духовой оркестр. В Приморский парк мы приходили всей семьёй послушать симфоническую музыку. Поющие симфонии Чайковского просачивались между экзотическими деревьями, окутывая их вместе с наступающей темнотой и наполняя парк восхитительной гармонией звуков, которые счастливо создавал не только каждый инструмент слаженного оркестра, но и море, вторившее ему тоже бесплатно ритмичными ударами волн. Можно было стоять рядом с музыкантами, говорить с ними, спрашивать, как называется их инструмент. Многих исполнителей мы знали в лицо. Теперь ходим по абонементам в театр. Оркестр стал значительно больше и давно знаменит благодаря чудесному дирижёру Гуляницкому, знакомство с которым для меня большая честь. И всё-таки с грустью вспоминается то старое время бесплатных публичных выступлений.
Само отношение ко всему вокруг было несколько иным, семейным каким-то. Когда мы учились в школе, то опасались вечером оказаться на набережной без родителей. Хорошо было известно во всех школах, что, если секретарь горкома комсомола Валентина Макарова увидит кого-нибудь на ней вечером, то обязательно узнает из какой школы и влетит позднему гуляке по первое число.
Когда достигли мы призывного возраста и нас поставили на учёт в военкомате, то о коменданте города Шурыгине многие мальчишки знали по танцплощадке, что была здесь же на набережной возле клуба Первого Мая, откуда майор собственноручно вышвыривал хулиганивших парней, грозя направить их сразу же после школы в штрафной батальон или же служить в такую глухомань, где танцы будут только сниться. Никакой демократией тут, конечно, не пахло, но и секретаря Макарову, и военкома Шурыгина молодёжь уважала, хоть и побаивалась. Да и порядок в городе был. Гулять ночами по городу никому не было страшно.
Днём по всей набережной сидели продавщицы газированной воды с примитивными устройствами, состоящими из газового баллона, подключённого к обычному водопроводу и двумя стеклянными цилиндрами с фруктовыми сиропами. В нескольких местах стояли настоящие дубовые бочки с сухим или креплёным вином. Люди пили, но пьяные встречались редко, и их сразу забирала милиция. Если кто и напивался обычно до потери сознания, так это моряки с иностранных кораблей. Непривычное для них обилие вина и его дешевизна быстро выводила мореплавателей из состояния равновесия.
Позже вместо продавщиц газировки появились автоматы, дубовые бочки заменили металлическими, стали продавать не вино, а квас и пиво, которое тоже теперь в автоматах.
Техника, конечно, дело хорошее, но она убрала с набережной что-то живое, её душу. Прежде, гуляя по набережной, обязательно подходили к знакомой тётушке с весами проверить вес, в жару обязательно попьёшь водички с сиропом у другой знакомой, с которой перекинешься несколькими словами о городских новостях, купишь у мороженщицы давно теперь забытое всеми маленькое мороженое колесиком, зажатое между двумя круглыми вафельными пластинками, или у другой лотошницы возьмёшь пушистую сахарную вату, тающую во рту. Покупая пирожное, мама всегда спрашивала, где оно приготовлено, предпочитая брать только сделанное в кафе "Волна", так как считала, что там готовят самые вкусные кондитерские изделия.
По всей набережной когда-то стояли столбы с висящими колокольчиками громкоговорителей, у которых временами собирались толпы любителей футбола, когда матчи комментировал знаменитый в то время Вадим Синявский. Здесь тоже незнакомые люди делались сразу же друзьями.
Много раз на набережной менялись фонарные столбы. Лампы то висели грибками в ожидании, когда их побьют хулиганистые мальчишки, то горделиво возвышались тюльпанообразными плафонами, а то засветились не так давно более дешёвыми неоновыми лучами. Наступление прогресса, а в каких-то вопросах и регресса, легко наблюдалось именно здесь на набережной. Ведь вот мы идём сейчас по верхней набережной, которая была единственной, а теперь внизу ещё одна, ничуть не уже этой. И волны в штормовую погоду нижнюю заливают, а сюда наверх почти не достают. И провалиться сквозь Землю теперь никто не опасается. Асфальт в летнее время перестал плавиться как в былые времена, когда в сильную жару сандалии прилипали к дороге, а женские каблуки часто ломались, проваливаясь в размягчившееся покрытие. Плюс прогрессу. Там, где сейчас причалы для катеров, которых летом видимо-невидимо, и там, где поставлен американский автодром, карусели и прочие развлечения, раньше находились мастерские порта, куда мне ещё доводилось ходить с классом на знакомство с профессией токаря. Ну а сейчас центр развлечений для отдыхающих, впрочем, и для местных жителей. Магазины стали более яркими. Витрины красивее. Ура прогрессу! Но вот деталь.
Долгое время центральный книжный магазин находился посреди набережной. В него заходили практически все, поскольку, идя за продуктами, покупатели обязательно шли в гастроном и магазин "Колбасы", между которыми красовалась надпись "Книги", миновать который было невозможно. Выходя за пищей для живота, почти невольно брали и пищу для головы. На улице Морской, что спускается прямо в центр набережной, был магазин подписных изданий. Чуть в стороне, а уже меньше людей туда попадало, но всё же шли и туда. Любопытно, что интересные книги больше одного или двух дней на прилавках не задерживались – расхватывались мгновенно. Казалось бы, зарплаты у людей небольшие, но читать любили все и могли не купить больше колбасы, но книгу покупали.
Сейчас как-то уходит эта привычка. Стали больше думать о пище. Правда, гоняются сейчас за политическими сенсациями. Самыми интересными кажутся книги тех писателей, которых раньше запрещали или просто не печатали. И не потому, что содержание захватывает дух талантом – его часто как раз в этих книгах нет – а потому, что, раз запрещали, значит против сегодняшних правил и потому любопытно. Читал я Солженицина, Дудинцева, Гроссмана, Платонова и в восторг от прочитанного не приходил.
Интересные книги хороших писателей начали печатать, но продают их теперь спекулянты по такой цене, что, если купишь, то не только без колбасы, но и без хлеба останешься, а это уже совсем тяжело. Хотя с колбасой теперь проблема. Её в Ялте почти нет, как нет теперь и магазина с названием "Колбасы". Сначала исчезла колбаса, а в бывшем специализированном магазине продавали всё что угодно, кроме самой колбасы. И вот вместо того, чтобы снова наладить выпуск колбасы, убрали магазин. Ну, очень смешно. Дома колбаса у всех есть, только достают её разными путями: в длинных очередях, через знакомых, из-под прилавка. Так или иначе, но все с колбасой. Стало быть, её можно было бы продавать и обычным путём, но кому-то очень не хочется, чтобы с торговлей был порядок как прежде. Вот и мучаемся, проклиная всех и вся.
Помню, как по выходным дням вся набережная пестрела книжными столиками, за которыми стояли школьники и комсомольцы разных предприятий. Это называлось воскресным книжным базаром. Тогда книги несли в массы, и считалось важным выложить всё, что есть перед покупателем. Почему этим занимались комсомольцы? Потому, что это была пропаганда идей. Не торговля, а пропаганда, то есть воспитание. Никто не заставлял покупать, но предлагалось, рекламировалось ради идеи воспитания. Кстати, базары эти проводились комсомольцами бесплатно.
Сейчас тоже молодёжь появляется с книгами, но не ради пропаганды идей, а ради собственного заработка путём спекуляции. То есть они скупают за свои деньги на складе самые ходовые книги, а потом продают втридорога. Не понимаю, почему это стали разрешать. Такое изменение прогрессом я никак не могу назвать.
Шёл как-то поздно ночью по набережной то ли со свидания, то ли ещё откуда-то. Я ещё не женатым был, молодым. Останавливает меня пожилой мужчина. Сели на скамеечке поговорить. Его интересовало кто я, да почему так поздно. Видимо он в милиции работал. Долго говорили на разные темы. Говорили и зачем живём на земле, и что плохого и хорошего в жизни, кто в чём виноват. Мило так побеседовали, и пошёл я спать. Ничего особенного не случилось, а помню я этот ночной разговор, помню, что хотелось человеку не просто остановить меня от нечего делать, а обеспокоен он был и судьбой города, чтоб не оказался я вором, причинившем кому-то вред, и потом моей собственной, посоветовав не ходить так поздно и не быть слишком резким в суждениях.
А недавно была другая встреча. Вижу небольшой кружок людей вокруг одного проповедника. Подошёл и слушаю его. Он объясняет собравшимся, что надо верить в бога и как бог любит людей. Стал я задавать ему вопросы и такой у нас состоялся диалог, который все внимательно слушали:
– Скажите, – спрашиваю, – как вы думаете, бог всемогущ?
– Да. Он всё может.
– Он добр?
– Да, конечно. Он всех любит.
– Тогда почему он позволяет людям страдать?
– Он даёт человеку выбор. Человек сам должен решить, что он хочет: быть праведником на земле или преступником. Потом ему всё воздастся за хорошее и за грехи.
– А вы видели кого-нибудь, кто бы хотел страдать? Вы знаете кого-нибудь, кто хотел бы, чтобы его убили, ограбили или изнасиловали? Разве человек сам выбирает себе тяжёлую судьбу, чтобы потом на небесах быть в раю? Горе ему приносят насильно. Почему же бог не остановит убийства, если он всё может? Почему он не вложит в голову каждого только добрые мысли, если это ему ничего не стоит? Тогда бы все жили счастливо здесь на земле, а не только в раю после смерти. Сказать, почему он этого не делает?