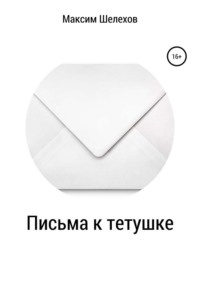полная версия
полная версияОбыкновенная семейная сцена
«А Витя… Витя был другой человек, – продолжала Маргарита Олеговна, с каким-то прояснением в лице, отводя в сторону взгляд. – Мы с ним как-то позже уже сдружились, когда этого в армию забрали; а мне тогда еще до лета в детском саду доработать надлежало. Пока вместе под одной крышей жили, почти никакого контакта не было между мной и Витей, когда я у свекрови с этим жила. А вот потом, в последние три месяца моего во Власовке пребывания мы так замечательно сошлись! О литературе с ним разговаривали. Я ему еще тогда сообщила о намерении своем в институт педагогический документы подать, в «Славянский». «Так значит уедешь от нас?» – Витя у меня тогда спрашивал. «Убегу», – отвечала я. Он меня не осуждал, понимал меня. Свекровь с неодобрением нашу дружбу наблюдала. Думала, развращу и младшего. А что, а какою я к ним в дом вошла?..»
«Он тогда без ключа, отмычкой двери от дет. сада открыл… Зашел вовнутрь и нет его. Я: «Вова! Вова!» – не отзывается. «Что он там?» – думаю; мне даже на ум тогда не пришло, «что он там» затевает. Дура молодая. «Браслет гранатовый»…
«Вот он, мой Вэ Эф Же, слышишь? – обратилась вниманием во двор Маргарита Олеговна, поднявшись с пуфика и выглядывая в окошко. – Грохочет, калека несчастный, сам себя загубил, с крыльца сойти не умеет. Сигареты – последняя ему в жизни осталась отрада. Я ему в доме курить строго настрого запретила. Он меня с некоторых пор слушает…»
«И ведь так и есть, Желтков, фамилия калеки моего – Желтков, как в «Гранатовом браслете» у Куприна, можешь себе представить? – неожиданно экзальтированно оповестила она, с каким-то омерзением отворотившись от окна, будто оно было испачкано дегтем. – Ты думала Иванов? Это я Иванова. Ива́нова. А он Желтков! Я после того, когда… Ну в общем, когда я узнала его фамилию, со мной приключилась истерика. Таков он, мой Желтков, оказался…»
«Я себя для другого мужа готовила, – продолжала Маргарита Олеговна, спустя минуту молчания, уже в более спокойном тоне, однако все еще неторопливо расхаживая, заложив руки перед грудью, взад-вперед по комнате. – Мой муж должен был быть основательным человеком, взвешенным, сдержанным. Из романов я вызнала, что горячечные и порывчатые быстро сгорают, и за такими точно нельзя чувствовать себя, как за каменной стеной. А я считала себя тоже и рассудительной, и цену себе знала. И что влюбиться в меня можно было без памяти – тому и примеры были. Только никого я к себе близко не подпускала. Я была целомудренной, по их понятиям – дикаркой. Они так тогда и говорили: приехали к нам во Власовку две девчушки смазливые: одна, ничего, общительная, а другая – дикарка. А я вообще и не должна была в этом роковом для себя месте очутиться; мне в другое село, куда масштабнее и развитее, – нам потом там побывать приходилось, – мне в другое село по направлению следовало. Я же за подружкой во Власовку поехала, сама вызвалась. А она, Оля, там потом от внимания обильного, – а ну нам, после училища, по семнадцать лет было: городские, среди этих неуклюжих аборигенов, – закружилась Оля: каждый вечер у нас во дворе женихи – выстаивают под окошками, записочки черкают безграмотно. Я на нее злилась ужасно, предупреждала, что доиграется она. А пропала сама, первая…»
«Он тоже дежурил среди прочих у нас под окнами. Я хорошо заметила в ком его настоящий интерес. Глаз с меня не спускал, так и ловил каждое мое движение. И все как будто случайно со мной, то на улице встретится, то в магазине в одной очереди окажется. Нерешительным таким казался, головой кивнет, в знак приветствия, и молчит. Это я потом только догадалась, что он сказать толком не умел ничего, косноязычный, а первое время думала: скромный, стеснительный. Я даже первая заговорила с ним, из сочувствия к его безмолвному обожанию. Оказалось, что у него проблемы с дикцией, так это меня еще больше разжалобило. Позволила провести себя вечером, с работы. На другой день то же самое. Так просто мне с ним было, он все молчит, я ему, как другу, о своих сердечных переживаниях повествую, что за домом скучаю. Договорились вечером «под звездами» прогуляться».
«Когда мимо детского сада проходили, он вдруг свернул. Я ему: «Вова, куда ты?» Молчит, по обыкновению своему. Достал отмычку, стал в замке ковыряться. Дверь открыл, вошел вовнутрь. Я подошла к двери, не пойму ничего, что происходит. «Вова! Вова!» Не дождалась ответа, ну и вошла за ним. Ну и все… Нет, я оттуда, конечно, вышла своими ногами, но какою!.. «Браслет гранатовый»…
«У них там поговорка в обиходе, отвратительная, заключающая в себе мысль, что не может «кабель вскочить» против желания… – ну, ты понимаешь. Вот вся их правда сермяжная, в этой чудовищной поговорке. А я не хотела!..»
–Я тебе ни чаю не предложила, ни конфет, Тоня! – спохватилась вдруг Маргарита Олеговна, останавливаясь в каком-то даже испуге перед своей подругой.
–Нет, не нужно ничего, – заторопилась Антонина Анатольевна, – я не голодна, спасибо.
–Так, а что, может?..
–Правда, не беспокойся ни о чем, Рита! Мне интересно, я слушаю, – прибавила Антонина Анатольевна значительно.
–Слушаешь? – как бы сомневаясь в заинтересованности собеседницы, переспросила Маргарита Олеговна.
–Слушаю, – последовал утвердительный ответ.
Иванова вновь присела на свой пуфик возле трюмо. Возобновилось молчание.
Маргарита Олеговна и во все время своего рассказа не единожды замолкала, на минуту, на полторы, как бы роясь в воспоминаниях, а потом как бы анализируя про себя то, что предстояло пересказать ей. Таким образом, она как будто приготовляла себя морально к повествованию того, что, может быть, уже не предполагалось когда бы то ни было быть обнаруженным, что глубоко таилось, но не покоилось в ней. Антонина Анатольевна, со своей стороны, в такие моменты терпеливо ожидала, пока не возобновится рассказ ее подруги, пребывая тоже в безмолвии и тоже в задумчивости. Не была напряженной атмосфера в эти минуты тишины во флигеле, но какая-то грусть словно висела в воздухе, грусть без конца и без времени, которой будто бы были пропитаны здесь даже стены.
«Когда он с армии вернулся, я уже здесь была, – продолжила свой рассказ Маргарита Олеговна, – здесь, в этом доме, у мамы своей. Вот он сюда и явился, прямо как был, в солдатской шинели – первым долгом к жене. Предлагал все сначала начать, с чистого листа, как будто ничего не было. «Если бы ничего не было, я бы тебя и на порог не пустила», – сказала я тогда ему. Стерпел. Больше: клялся, божился, что все теперь по-другому будет, что на Предприятие он устроится, что уже имел разговор, и ему было обещано. Что, может быть, я его и полюблю, говорил, что, по крайней мере, он питает надежду и направит все стремления, чтобы заслужить мое к нему расположение и доверие. Я даже колебаться в какой-то момент начала, так он убедительно все это говорил, по-своему, конечно, не без дефектов. Мать же не хотела, чтобы я с ним даже и разговаривала. Еще бы, для сердца материнского такое выдержать: я по приезду своему из злосчастной этой Власовки полгода первых по ночам в постели металась, кошмарами мучимая. Уезжала девчушкой восторженной, вернулась натурально кликушей. Сколько слез ее было надо мной пролито. Ничего, отпустило немножко, поступила в институт, стала на учебу ездить. Только жизнь стала налаживаться…»
«Оно еще много от людей. Это они мне жизни не дали. Нравы. Время. Я ничего не имею возразить, сейчас никакой морали не имеет общество, сейчас один разврат повсюду, но, по крайней мере, разврат добровольный. Тогда было насилие. Я не знаю, честно, не знаю чему отдать предпочтение: добровольному ли разврату или насильственной морали, что заведующей всем была тогда? И одно и другое ничтожно и отвратительно. Как по мне, сколько угодно порицайте и стыдите современность, за распущенность, за отсутствие нравов, все будет справедливо и, может быть, правильно, но только, ради Бога, избавьте от равнений на прошлое… Нравы. Они спрашивали, почему не кричала? Да из-за них же не кричала. Это они меня подвергли насилию. Это они меня за него замуж выдали. А кто из них меня пожалел, кто принял во мне участие?.. Время. Семнадцать лет, ведь дитя еще, совершенное дитя. Отправляют в глушь какую-то, за тридевять земель от матери, возвращать дань обществу. Селят двух девочек к какой-то старухе, из ума выжившей, совершенно без присмотра. И вот оно, добродетельное общество, отдавай дань. Отдала, и самую себя отдала! Разве они не видели, что со мною делается, кто вступился?..»
«Почему не кричала? Да потому и снесла поругание безропотно, что их мнений и языков боялась. Ну, закричала бы, ну и сбежались бы на зов, предположим. Первое: одиннадцатый час, зачем не дома так поздно? А зачем пошла за «хлопцем» в детский сад ночью? Что мне им было ответить, рассказать про «прогулку под звездами», про «Гранатовый браслет», про снисхождение к обожанию, что настолько глупая была, в конце концов, что ничего не подозревала? «Кабель не вскочит» против желания – вот их единый аргумент. Время. Да я и сама себя виновною во всем считала, без их увещеваний и уверений, – сама, воспитанная временем. Потому и приняла, как наказание все со мною случившееся…»
«Я все же развелась с ним. Ненадолго его тогда хватило, скоро себя проявил. Перестала я его у себя принимать, он покрутился, покрутился, спустя пару недель уехал. Через суд разводиться стала. Пришел мне вызов, поехала я в последний раз в несносную мне, проклятую Власовку. Не была я больше там после этого, чему очень рада. Помню, приближаюсь я тогда к суду, сердце колотиться у меня страшно. Ну, думаю, что-то сейчас мне устроит этот бешеный. Зашла, дожидаюсь в коридорчике назначенного времени. Нет и нет его, моего Желткова. Я и рада и странно мне. Сидит девчонка, моих лет где-то, напротив. Я ее даже и в лицо не узнаю. Она же смотрит на меня как на знакомую. Еще бы, как мы с Олей на все село их тогда прославились! Ее, Олю, доигралась-таки она, тоже скрутил «хлопец» один, прямо перед уходом в армию, в день своих проводов. Нравы. С тем и поехала моя Оля в Мариуполь, не стала дожидаться жениха. Я же добилась своего штампа в паспорте. Дура. Да и не отпускали меня. Зачем не кричала, спрашивали? Теперь требуй замуж, говорили, как будто не замечая, что такое был мой жених! Мораль…»
«Вот, эта девчонка, узнав меня, как знаменитость, в коридорчике в суде смотрит удивленно и говорит: «А ты разве не знаешь?» —«Чего, не знаешь?» – я у нее переспрашиваю. Тут же эта девчонка мне и пересказала, что он, мой Желтков, себя подпалил и теперь лежит в областном ожоговом отделении, в З..»
–Как, подпалил? – изумилась Антонина Анатольевна.
–Подпалил, – повторила Маргарита Олеговна. – Как повестку в суд получил, так и подпалил себя, чтобы со мной не разводиться. Да, а ты думала? Он меня очень любил… всю жизнь любил, и по сей день любит, – продолжила она после некоторой паузы, – только по своему, по ненормальному, – добавила она.
–И?..
–Сильно ожегся? Нет, не очень, – отвечала Маргарита Олеговна, предупреждая вопрос Антонины Анатольевны. – Живот, шея, подбородок немножко обгорел, – а ты разве не заметила?.. Еще бы, среди общего безобразия.
Маргарите Олеговне, в этом месте разговора, по-видимому, приходилось превозмогать себя, чтобы говорить как можно непринужденней и даже с пренебрежением о предмете, тем не менее, и судя по всему, много ее волновавшем. Антонина Анатольевна со свойственной ей чуткостью, тут же различила этот диссонанс в настроении своей подруги.
–И, тем не менее, ты опять Ива́нова, – обратилась она к Маргарите Олеговне, чтобы как-то уйти от темы внешности ее мужа.
«Он все же был красив, – пропустила это обращение Маргарита Олеговна, погруженная в собственные тяжелые мысли, и уже не способная так просто от них оторваться, – раньше, и даже с обожженным подбородком. У него были правильные черты лица. Теперь, конечно, невозможно взглянуть, чтобы не поморщиться. (Антонина Анатольевна, еще раз досадуя на себя, догадалась, что таки нашло отображение на ее лице то, недавнее ее впечатление, составленное первым визуальным контактом ее с Владимиром Федоровичем) – Еще бы! – продолжала Маргарита Олеговна, – такие эксперименты производить над своим организмом! Жив, по сей день, и то чудо. Он наркоман у меня, закоренелый, в завязке, – временной, потому что все у таких временно, – ты, наверно, слышала? (До Антонины Анатольевны доходил такой слух об Ивановой муже.) – Это наркотик его так обезобразил, и ноги лишил. Несчастный. Он несчастный человек, Тоня!..»
«Кто знает, когда это с ним началось? Может еще там, во Власовке? – говорила Маргарита Олеговна, потупив взгляд, в глубокой задумчивости. – Я ведь тогда еще совсем дурачкой была, ничего различить не умела. Да и разве это было, как сейчас, на показ, как мод демонстрация? Мало кто умел тогда по лицам и по поведению законченных людей узнавать. Сейчас вспоминаю, был у него в то время один знакомец, рецидивист. Они на этой ноте и сошлись, наверно; мой-то Желтков, в свое время, тоже отбывал какое-никакое наказание, когда его свекровь моя не пожелала откупить от «химии». В дружбе их, своеобразной, тот перед Желтковым моим доминирующую занимал позицию. Вот я и догадываюсь теперь, может, и тогда уже был зависим Вова, а, может, и какие другие у них были дела? Как бы то ни было, заигрывал перед тем рецидивистом мой Желтков, юлил, собственного слова не имея. Это я потому такой вывод могу делать, что когда я понравиться удостоена была чести Вова допускал, чтобы ему в глаза его жены достоинства открыто замечали, терпел, а потом шел и мне пересказывал, и требовал отчета, как я заинтересовать «такого сорта людей» смею. Слово в слово так выражался, и много еще говорил мне всяких гадостей. А я в чем могла быть перед ним виновата? Сам он с «такого сорта людьми» повязался. Бесился мой Желтков, бегал по двору волосы на себе рвал, повеситься обещал, если узнает, что я с кем-то… и меня обещал повесить. Только я его меньше боялась, чем рецидивиста того, его товарища. Не хватало мне тогда еще и… Да я бы сама удавилась…»
Маргарита Олеговна подняла голову и долгим взглядом посмотрела в глаза Антонины Анатольевны.
«Ты только не подумай, чтобы он злодей законченный был, мой Желтков, – сказала она, – он именно несчастный человек, Тоня! Несчастный. Ему ведь и со мной не посчастливилось. Я ему ни в чем не спускала. Я таким образом привыкла на него смотреть и реагировать, что… Он не единожды восклицал, в пик своей болезни, когда уже откровенно пропадал: «Это ты, ты! – взывал ко мне. – Ты одна не даешь мне выкарабкаться, взглядом своим. Смотришь на меня, как на ничто!» —«Ты ничто и есть», – я ему тогда отвечала. А другая… Другая бы, быть может, его и спасла. Другая бы пришла, руки фертом поставила, трехэтажным ругательством его бы обложила, из дому за шкирку выкинула, – гляди, одумался бы. Не одумался бы, так в случае с другой, пропал бы он в одиночку. Другая бы, по крайней мере, самую себя заодно не губила…»
Маргарита Олеговна вновь встала. Прошлась по комнате. Опять подошла к окну.
«Как тебе объяснить? – сказала она, наблюдая собственное отражение в оконном стекле. – Я так привыкла. Вот сейчас умрет он, что я буду делать? И сама, наверно, умру…»
«Он думает, что я мщу ему, – продолжала она, после минутной паузы, поворачиваясь обратно лицом к своей собеседнице. – Когда кормлю его, когда убираю за ним, и тем, что он вот в доме живет, в моем доме, а я, ютясь, во флигеле. И что не бросила его во всю жизнь, уже разведенной будучи – он думает, это я тоже из мести. Я и сама, признаюсь, какое-то время так думала, вслед за ним. Но потом, пришла к выводу, что не справедливо я думала. И хоть я действительно его не простила, и, наперед знаю, что не прощу никогда, все равно не из мести я Желткова своего терпела и терплю, но из гордости, и еще из чего-то, что хорошенько и самой себе объяснить не умею…»
«Почему я тогда к нему поехала, в З., в ожоговое отделение? Не из жалости. И не из чувства долга. Никакого долга у меня перед ним к тому времени уже не было, и даже по бумагам. Развели меня с Желтковым, – напрасно поджег себя, – развели меня с ним тогда и без его присутствия. Все тот же добрый старичок, судья, хмуривший брови для важности, пожалел меня и развел. Единственный человек, кто отнесся с сочувствием ко мне, из всех из них. «Невозможный муж?» – спросил он тогда понимающе. «Невозможный», – ответила ему я. С того дня я опять Ива́нова».
«Ива́новой я его тогда в «ожоговом» и навестила. Почему? Не могу тебе ответить. Но с убеждением скажу, что не Ивановой бы я тогда в З. не поехала. А почему так? Тоже из-за гордости наверно. Наверно с тем и поехала, показать, что вот я, не Желткова уже, а Ива́нова, чтобы видел. Только я ему тогда строго настрого запретила себя в дальнейшем преследовать, сказала, на порог теперь не пущу. Сказала, что теперь и в самом деле может считать, будто «ничего и не было». И, представляешь, послушался. Полгода я о нем после не слышала и не знала. А потом… Потом мать у меня умерла. Кто ему сообщил?.. Я себя так одиноко тогда чувствовала. Я ему обрадовалась, представляешь?..
Маргарита Олеговна отошла от окна и, обратившись к маленькому комоду возле трюмо, достала из нижнего ящика постельное белье и подушку. Положила все это рядом с Антониной Анатольевной, на диван.
«Разреши», – попросила она привстать свою подругу. После чего разложила диван и застелила на нем простынь.
«Бывает, по полгода молчим, – сказала она после проделанной работы. – Это я его к тому приучила. Другая… Другая бы – руки фертом и… Избавила бы ни его так себя от… Молчанием ничего не разрешишь, а только удвоишь муку. Потом, глядишь, и привычка. А горче нет ничего, чем с мукой в согласии жить», – сказала Маргарита Олеговна и направилась к выходу.
«У меня там тоже есть постель, в доме, ты не переживай, – задержалась она у двери, – заправленная двадцать лет стоит… Калитка не запертая, – добавила она значительно. – Спокойной ночи».
«Спокойной ночи» – ответила Антонина Анатольевна.
Романтические приключения доблестного кавалергарда
Пряников забылся скоро.
Два подхода по три по пятьдесят «коньячку» за распивочной стойкой Ресторана «Искры» довольно скоро произвели свое действие, и Дмитрий Сергеевич неожиданно почувствовал себя на коне, как говорится. Такое чувство для Дмитрия Сергеевича было если не ново, то, во всяком случае, неожиданно. Мы уже описывали в предыдущих главах, что в последние полгода ему даже и вполне собой быть не приходилось; день же прошедший, казалось, должен был в конец доконать его. И тут, как будто даже какое-то освобождение, ото всего. Как будто гора с плеч. Как будто ничего и не было удручающего, и вообще никогда. И более того, как будто ничего удручающего вообще никогда и не предвидится впредь. Словом, горизонт чист, совсем чист. Кроме того, с шестой выпитой рюмкой, почувствовался Пряниковым необычайный прилив душевных сил, и непреодолимый позыв к действию почувствовался им тоже. Предметы расплывались перед ним, но он смотрел пристально, вглядывался зорко, и с успехом опять отличил одно замечательное декольте, пленяющее взор, выделяющееся на общем фоне танцующих и всех прочих. Тут же припомнилось Пряникову, что и он-то ведь не самый плохой в мире танцор, что он, напротив, вовсе даже не плохой танцор, что в юности на танцы он ходил не зря, конечно. Доблестным кавалергардом устремился он на танцевальную площадку, побуждаемый воспоминанием этим. Судьба благоволила его решимости и настрою. «Кузиновский соловей» Петр Борисович как раз в эту минуту взял в руки микрофон (тот самый, что некогда пропустил сквозь себя «Зайку» Киркорова), чтобы и самому блеснуть талантом и осчастливить публику первой в своем репертуаре песней: «Натали». Обладательница декольте, и ранее не обделенная вниманием, теперь с первым аккордом классической для всех кузиновцев композицией, словно осененная неким магнетическим ореолом, оказавшись в самом центре зала, образовала вокруг себя целый круг соискателей ее отличительного взгляда, должного расположить к партнерству. Среди прочих, составителей этого круга, очутился и Пряников, но только на одну секунду. Чувствуя за собой преимущество, хотя бы уже в одной осанке, он выступил вперед, легким наклоном головы приветствовал даму и чрезвычайно ловко обвил ее талию. Такому напору нельзя было не подчиниться и уже несколькими мгновениями после, дама с декольте, поддавшись полностью своему неожиданному кавалеру, по-настоящему вальсировала на глазах изумленной публики, и несколько изумленная сама, под мотив «Натали». Стоит ли говорить, что остальные претенденты, подавленные таким, можно даже сказать, гроссмейстерством конкурента, сникли сами собою. Дальше… Дальше кузиновский «соловей», быть может, пребывая во вдохновении, может, в угоду Терпсихоры, присутствие которой на танцевальной площадке такому тонкому эксперту не различить было нельзя, во всяком случае, никак не поперек интереса танцующих, исполнением следующей из своего репертуара композиции, повествующей о том, «как белый лебедь на пруду качает павшую звезду», образовавшийся романтический уклон как бы очертил вектором. Дмитрий Сергеевич был вовсе не прочь и еще потанцевать. Была еще более не прочь потанцевать и обладательница декольте, совершенно одурманенная собственным завидным положением, отчасти вином и в наибольшей степени теми двумя-тремя словечками, что успел ей шепнуть на ушко ее решительный кавалер. Словом, все шло, как положено, и своим чередом.
Звучал уже второй куплет бессмертной композиции, когда… когда произошло нечто неожиданное, как бы спутавшее все карты и изменившее должный порядок вещей.
Стала дама с декольте замечать, сначала краем глаза, в процессе танца, что редеют ряды откровенных по ней воздыхателей, что число завистников ее теперешнего кавалера на глазах уменьшается, что большинство устремилось куда-то в сторону, что и взоры оставшихся как-то не особенно упрочены, а мечутся в нерешительности; дошло то того, что и последние, в конце концов, не то, что взорами, а и сами собою туда же в сторону обратились. Дама с декольте этим обстоятельством весьма и весьма озадачилась и, опять же, пока еще в процессе танца, решила полюбопытствовать, какой такой предмет был способен увлечь и отвлечь от ее особы во весь вечер лишь одной ей преданную публику. Вынырнув из-за могучего плеча своего кавалера она обнаружила соперницу, и до того очевидную, что невольно крепче вжалась в это самое плечо и взвела глаза как бы ища поддержки. Но ей пришлось быть окончательно фраппированною, когда обнаружила она, что и партнер ее, оказывается, всем вниманием своим уже далеко не с ней и что парой ей выступать приходится формальною. Настоящий ужас охватил тут даму с декольте и, отринув от своего партнера на расстояние вытянутых рук, в совершенном отчаянии, она взмолилась: «Дмитрий!»
Но «Дмитрий», Дмитрий Сергеевич Пряников, уже никого подле себя не ощущал и не слышал, нечто странное происходило с ним.
Он тоже, как и дама с декольте, в какой-то момент, стал замечать, что, как напряженное внимание его незадачливых конкурентов лично к его персоне, так и голодное их влечение к его партнерше заметно ослабевает, что он как будто перестает быть первым и единственным раздражителем «настоящих мужиков», собравшихся в зале, что, судя по всему, напрасно он ожидал для себя кулачных перипетий в эту ночь и на то настраивался. Все это показалось ему странным, и он решил оглядеться.
Первое, на что пал его взор, было сиреневое платьице, которое развиваясь, кружилось перед ним, кружилось, обнажая… Дмитрий Сергеевич сглотнул ком, образовавшийся у него в горле. Нет, никогда он не видел еще таких ножек. Нет, Пушкин не воспел такие ножки, другие воспел, а такие не воспел, потому не воспел, что не знал, что не видел… А Дмитрий Сергеевич видел, хорошо видел. Вот они, эти ножки, воздвигнуты на цыпочки, развивая фиолетовое платьице, кружатся перед ним. А на них, на цыпочках, сандалики. И тут же щиколоточки… Дмитрию Сергеевичу стало трудно дышать, благо в этот самый момент что-то от него отринуло; слышалось вместе с тем какое-то отчаянное «Дмитрий», но ему было совсем не до того, вот прямо совсем не до того. Поднял он свой взгляд, обратив внимание на талию; и на то, во что переходила талия, опускаясь вниз, обратил внимание он тоже. Совершенно не владея собой, Дмитрий Сергеевич не удержался, чтобы не подступить и не обвить эту новую для себя талию. «Белый лебедь на пруду», тем временем, все еще качал «упавшую звезду», а сердце Пряникова билось, как у загнанного жеребца, от чувства близости… А то, во что переходила талия, поднимаясь вверх… После длительной стоянки и еще вверх полз его возбужденный взгляд. Что-то произнесли Дмитрию Сергеевичу губки, цвета первой весенней розы, до того аппетитные, до того притягательные, что две губищи Дмитрия Сергеевича, как два наколотых на одну вилку вареника, сложившись вместе, приплюснулись и вытянулись, сами, сами собою. «Дмитрий Сергеевич, – повторно произнесли эти губки, раздвигаясь в очаровательную улыбку. Дмитрию Сергеевичу показалось, что он ослышался, он встряхнул головой, как бы выметая из нее вздор. «Как мы с вами мило танцуем», – однако продолжал слышать Пряников чей-то до боли знакомый голос. Он отвел немножко голову назад, сконцентрировался, прищурился и – остолбенел на месте…