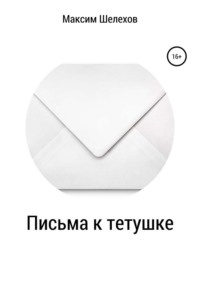полная версия
полная версияОбыкновенная семейная сцена
–Что за галиматья?
–Да-да, Анжелочка, мы сейчас, одну минутку! – отвлекся Илья Семенович. – Мы с Дмитрием Сергеевичем здесь на два слова. А такси уже едет, да, едет!.. Дмитрий Сергеевич, отойдем в сторонку.
–Мы уж и так в сторонке. Вот, возьмите!
–Господи, да откуда же у вас деньги?
–Что значит, откуда у меня деньги?
–Дмитрий Сергеевич, отойдем в сторонку, отойдем в сторонку. Вот присядемте, как раз, два стульчика…
Разительный контраст составляли между собою щуплая фигура Ильи Семеновича Бондаренко и объемистое тело Пряникова, разместившихся друг напротив друга в холле «Искры», в стороне, у стены, на двух стульчиках, по какому-то случаю там оказавшихся. Скромный Илья Семенович сидел на своем стульчике осторожно, на самом его краешке, всем своим видом показывая, что он, действительно, так только присел, на одну минутку. Круглые, навыкате глаза его, против обыкновения, не могли задержаться на одном месте, перебегали то и дело с предмета на предмет, при этом лицо его собеседника им упорно обходилось стороной. Слаживалось такое впечатление, что Илье Семеновичу было как будто и отчего-то совестно, совестно не за себя самого, и, что он боялся выказать это чувство. При этом речь свою он вел как-то вкрадчиво, осторожно. Дмитрий же Сергеевич расположился основательно. Сначала отсчитал и отделил демонстративно от прочих денег сумму долга. Затем и во все время разговора держал приготовленную, впрочем, незначительную часть купюр, в левой руке, на виду, сидел излишне, может, осанисто, был хмурен, смотрел перед собой, но исподлобья.
Первое время молчали. Илья Семенович, казалось, искал, как ему лучше вступить.
–Вы очень удивились деньгам в моей руке, – помог ему Пряников, – то есть, что я имею возможность располагать…
–Ах да, деньгам! – засуетился Илья Семенович. – Деньгам я очень удивился, Дмитрий Сергеевич, то есть, что вы имеете возможность… да, да. Но я вовсе не затем пригласил вас присесть, Дмитрий Сергеевич…
–А я только потому согласился, Илья Семенович, мне присаживаться, по другому поводу, может, не было никакой надобности. Потрудитесь принять теперь…
–Ах, ну что вы, ну зачем вы, и опять эти деньги. Я, со своей стороны, поверьте, вашим долгом озабочен не меньше вашего!.. Но не о том, совсем не о том речь сейчас, я хотел вам сделать предложение, Дмитрий Сергеевич. Я, как вы знаете, служу в конторе на Предприятии. И давно служу и кое до чего дослужился, смею признаться. Прежде всего, я привык свою работу выполнять рачительно, Дмитрий Сергеевич, и никогда не позволял себе манкировать даже малейшим пожеланием вышестоящего руководства. В общем, своим прилежанием я заслужил некоторую расположенность… Тем не менее, Дмитрий Сергеевич, хочу акцентировать, что я редко, крайне редко позволял себе пользоваться какими-либо привилегиями, которыми, как вы понимаете, мог бы располагать со всем основанием. Также и личный вопрос мой…
–Прошу, прощения, к чему все это вы говорите, Илья Семенович?
–Я, собственно, Дмитрий Сергеевич… Хоть вы и знаете, наверно, что у нас на Предприятии сейчас сокращения, однако… Вот и Анжелика Владимировна, в свою очередь, выразила абсолютную уверенность, что если я вам буду протежировать, Дмитрий Сергеевич, то мне наверняка не откажут.
–Протежировать мне? – удивился Пряников.
–Мне это вовсе будет не обременительно, Дмитрий Сергеевич… Подумайте над моим предложением, сколько вам будет угодно.
–Но почему, почему вы так уверены, что я нуждаюсь в вашем участии?
–Ах, Дмитрий Сергеевич, – страдальчески морща лоб и прищуривая глаза, как от боли, ответствовал Бондаренко. – Зачем вы не хотите уклониться от объяснения и рассмотреть мое предложение потихоньку и просто? Ведь вам самим, я уверен, по меньшей мере, неприятно…
–Я вас сейчас решительно не понимаю, Илья Семенович.
–Дмитрий Сергеевич, – просил «помиловать» интонацией и взглядом Илья Семенович.
–Илья Семенович, – настаивал Дмитрий Сергеевич.
–Понимаете, Дмитрий Сергеевич, сегодня у нас с Анжеликой Владимировной в гостях была ваша бесценная супруга…
–Ну все, с меня довольно, не продолжайте, Илья Семенович! – неожиданно вскипел Пряников. – Эта негодяйка нарочно сюда приехала навести на меня сраму! – продолжал он, подымаясь на ноги и сотрясая над головой кулаками, в одном из которых все еще были зажаты двести пятьдесят гривен, – и, вижу, преуспела, злюка, в своем намерении!
–Что вы, Дмитрий Сергеевич! – испугался Илья Семенович.
–Что у вас там? – оживилась на той стороне холла Анжелика Владимировна.
–Ваша жена достойнейшая женщина! – продолжал Илья Семенович, убедившись, в том, что поднятые кулаки Пряникова не на него поднялись.
–Так, значит, я недостойный, так мне следует разуметь? – не унимался Дмитрий Сергеевич.
–Вовсе не так вам следует разуметь! – взмолился Илья Семенович.
–Такси приехало! – оповестила Анжелика Владимировна, рассмотревшая через открытую дверь холла, подъехавшую к крыльцу «Искры» «с шашечкой» машину.
–Такси приехало, – перевел дух Бондаренко.
–Погодите, Илья Семенович.
–Нужно ехать, Дмитрий Сергеевич.
–Илья, ну помоги же мне с Даниилом! – затребовала мужа Анжелика Владимировна.
–Бегу-бегу, драгоценная! – наконец поднялся со своего стула Илья Семенович, все это время наблюдавший устрашающую жестикуляцию Пряникова взглядом снизу.
–Еще одну только секунду, – задержал за локоть стремящегося удалиться Илью Семеновича Дмитрий Сергеевич. – Мы с вами все не о том разговаривали… Прежде всего, заберите ваш долг.
–Нет-нет, этого вовсе не нужно, Дмитрий Сергеевич, – вынужден был задержаться Илья Семенович.
–Как, не нужно! То три месяца в глаза, ходил, заглядывал!.. – выходил из себя все больше Пряников, совсем теряя меру.
–Что вы, Дмитрий Сергеевич! Ну как вы можете? Я, наоборот, со своей стороны желал бы, чтобы вы о моем вам одолжении и даже думать забыли. В вашем сейчашнем положении, когда вы так запутались… Я прекрасно понимаю, что эти деньги, которые вы мне предлагаете, не ваши деньги, что вы их где-то заняли.
–Прекратите немедленно! – рассвирепел окончательно Пряников. – Катитесь к черту с вашим сочувствием! В благодетель ударился, окунь! Забирай, говорю!
–С таким подношением принять долг отказываюсь, – дрожа, как осиновый лист, но, тем не менее, выдерживая достоинство, отвечал Бондаренко.
–Нет, вы возьмете, Илья Семенович!.. – скрежеща зубами, совсем обезумев, настаивал Пряников.
–Вам будет потом стыдно, ужасно стыдно, Дмитрий Сергеевич, – готовясь к худшему и зажмуривая глаза, героически упорствовал Илья Семенович.
–Так вот же, получай! – взвел руку Пряников и со всего маху швырнул деньги на пол.
–Ха-ха! И вы теперь, Дмитрий Сергеевич, моими деньгами разбрасываетесь! Правильно! Вы истинный эпикуреец! – развеселился на той стороне холла Данил.
–Да что же у вас там происходит? – никак не могла в толк взять Анжелика Владимировна. – Илья Семенович!
–Как! – с трудом выговорил, все еще бледный, как полотно, много испытавший Илья Семенович. – Я знал, что у вас не может быть своих денег, но… предположить, чтобы…
–Нет, это, это, вовсе не так… – вмиг стушевался Дмитрий Сергеевич. – Он, он их выбросил.
–И вы их подняли? – точно громом пораженный, стоял перед Пряниковым Бондаренко.
–Ну, конечно, чтобы затем, когда он в себя придет, вернуть их ему.
–И вместо этого предлагали их мне?
Дмитрий Сергеевич на этот вопрос сразу не нашел что ответить и долго оставался на месте с совершенно потерявшимся видом.
«Сон в руку», – думал про себя как-то весь опустевший внутри от бесчисленных душевных потрясений Пряников, провожая потухшим взглядом удалявшееся такси. Ему так и не удалось подобрать хотя бы сколько-то внятных и вразумительных слов в свое оправдание, и он так и остался в глазах супругов Бондаренко безусловным преступником. И ему пришлось отпустить их с таким о себе мнением. Что они теперь перескажут о нем Игнатовым, когда будут сдавать им на руки Данила? Что он, Пряников, споил их сына? Что обобрал его, пьяного, и распоряжается теперь его деньгами по своему усмотрению? Господи, как много могут значить нюансы, как с их отсутствием коверкается истина! Не бывает голой правды без мелочей! А как представить эти мелочи в полной мере? – уму непостижимо!
Дмитрий Сергеевич пребывал в настроении человека, оказавшегося за чертой поправимого, то есть, говоря образно, уже соскочившего с вершины горы и котящегося вниз кубарем. Крепкие духом люди и в этот критический момент способны не потерять надежды, и ищут возможность ухватиться за проносящиеся мимо их глаз предметы, будь то кустарник или выступ скалы. Нередко спасаются эти люди, до конца отчаяние отвергшие. Дмитрий Сергеевич и сам был из числа неробкого десятка, и не единожды в своей жизни ему приходилось противоборствовать судьбе. Но никогда еще, ему теперь так казалось, столь затяжным не было его падение, и никогда еще градус угла его падения не был столь велик.
«Идони-одони», – проговорил он про себя греческое выражение, ему знакомое, слышанное им сегодня от Игнатова Данила. «Наслаждение-страдание», – повторил он по-русски.
Уже спустя минуту Дмитрий Сергеевич твердо и решительно продвигался по холлу в направлении «Бара», чтобы там рассчитаться по счету с «сверчком». Сделав это сполна, и даже с лишком, он устремил свои стопы наверх в ресторан. Окинув ресторанный зал заинтересованным взглядом, и оставшись удовлетворенным обилием публики, он нашел себе пристанище за стойкой. Последовал заказ: «три по пятьдесят коньяка и лимончик», по исполнению которого, прозвучало от него незамедлительное: «повторить».
В гостях у Маргариты Олеговны
Призывая с отчаянием Маргариту Олеговну увести ее «пожалуйста, поскорей отсюда», далеко за пределы собственного дома, от этого (Андрея Константиновича) «на расстояние пушечного выстрела», Антонина Анатольевна, конечно, не имела оснований предполагать, что окажется в скором времени в гостях у Ивановой, впервые за все время своего с нею знакомства. Еще двенадцать лет назад, когда она поменяла школу, перейдя из первой кузиновской во вторую, она попала под руководство Маргариты Олеговны. Пять лет понадобилось на то, чтобы между двумя женщинами, с первого же дня, между прочим, друг другу приглянувшихся, завязалась дружба. И вот уже полных семь лет, как они состоят в самых тесных приятельских отношениях, а гостить у Ивановой Игнатовой до этого дня еще не приходилось.
У Антонины Анатольевны возникло столь трепетное чувство, когда она, еще в начале пути, узнала, где ей в скором времени предстоит очутиться, что настоящие ее переживания, особенные, из-за которых ей было дышать трудно, как будто, даже, чуть-чуть отступили.
Самые смутные понятия имела она о личной жизни и вообще о судьбе своей подруги. Все ее представления основывались преимущественно на слухах и на собственных ее догадках и соображениях по редким, неопределенным замечаниям самой Маргариты Олеговны, деланным той невзначай, порою в назидание кому-то. «Чему расстраиваться нашла! – распекала она как-то в присутствии Антонины Анатольевны практикантку, ожидавшую два года жениха с армии, как выяснилось, не одна и напрасно: солдат к другой подался, со службы вернувшись. – Радоваться должна, глупая, что избежать венца удалось в таком возрасте юном. Окрепни. Успеешь еще горя хлебнуть». Еще, как-то, навестив кабинет биологии, где учительствовала Антонина Анатольевна, обратившись к окну, в задумчивости, Иванова говорила: «Я не знаю счастья материнского, потому, вот эти безобразники, – указывала она на группу школьников, пятиклашек, побросавших рюкзаки и резвящихся на травке школьного палисадника, – эти безобразники – вся моя отдушина и отрада, не будь их, не знаю, что бы я и делала?.. Утопилась давно, может?..» У Маргариты Олеговны последние ее слова, вероятно, нечаянно тогда вырвались, потому, она сама вдруг смутилась и поспешила из класса выйти. На Игнатову, однако, сильное впечатление произвел этот случай.
Иванова была несчастна в браке, в доме у нее было не все благополучно, – это то, что Антонина Анатольевна знала наверняка. В остальном, Игнатова была столь деликатна, что во все время их знакомства и дружбы, касалась только отвлеченных тем в разговоре, дабы избеганием откровений также и со своей стороны освободить от обязанности обратной доверенности Маргариту Олеговну. За что, ей, кажется, в душе были признательны особенно.
Антонина Анатольевна и дом, в котором проживала Маргарита Олеговна, никогда не видела, а знала только приблизительно, где ее подруга живет. Иванова никому, и ни под каким предлогом не разрешала себя провожать, даже, когда до позднего часа задерживалась у Игнатовых на ужине. На все уговоры, она отвечала, что, во-первых, она бесстрашная женщина, и во-вторых, что женщина она в возрасте, а значит и вне всякой опасности. Между тем, Маргарита Олеговна хоть и была старше Игнатовой, и даже значительно, но выглядела своих лет моложе. Выглядела она хорошо и одевалась со вкусом, и вообще все в ней выказывало бывшую модницу и красавицу. И только впавшие, с выражением закореневшей грусти глаза ее возвещали о незавидной участи их обладательницы.
Оказалось, что живет Маргарита Олеговна недалеко от городской котельной по «Железнодорожной» улице, тоже в своем доме, как и Игнатовы. Был уже глубокий вечер, почти ночь, когда Антонина Анатольевна вошла в высокую, металлическую, туго и со скрипом открывающуюся калитку, по приглашению впереди шедшей Ивановой; свет не горел, и потому рассмотреть хорошенько двор своей подруги ей возможность не представилась. Впереди рисовались силуэты дома и рядом флигеля. Шли по дорожке, выложенной из природного камня.
–Пройдем сначала в дом, – предложила Маргарита Олеговна, – я тебе своего суженного представлю… Вот, пожалуйста, – отворив дверь в прихожую и щелкнув там выключатель, провожала она вперед свою гостью. Внутри свет тоже до их прихода не горел.
–Вы как будто уже почиваете, Владимир Федорович?
Из дальней комнаты раздался глухой удушливый кашель.
–Потрудитесь привести себя в порядок, я хочу вас познакомить со своей подругой! – продолжала Маргарита Олеговна невозмутимо.
–Ну как, готовы? – спрашивала она через минуту, раздвигая занавески на двери, за которыми предполагалось местонахождение Владимира Федоровича, только-только справившегося с приступом кашля; прошла туда и включила там свет. – Прекрасно, лучше все равно не будет, – дала оценку Маргарита Олеговна увиденному. – Антонина Анатольевна, прошу вас, знакомиться, – пригласила она подругу следовать за ней.
Антонина Анатольевна казалась смущенной.
–Прошу вас, – повторно предложила Маргарита Олеговна, наблюдая в своей гостье нерешительность. – Со своей стороны Владимир Федорович уже наперед чрезвычайно рад.
Антонина Анатольевна повиновалась.
Комната, в которую вошла Игнатова, оказалась большой комнатой, достаточно меблированной (в отличие от предыдущей комнаты, полупустой, из которой она проследовала), но с тяжелым и неприятным воздухом, какой бывает в помещениях, покоящих в себе лежачих больных. В комнате в этой, как и вообще в доме, сколько до сей поры было открыто для глаз Антонины Анатольевны, стоял порядок безупречный, строгий и без лишних принадлежностей. Узнавалась рука Маргариты Олеговны, у которой и в кабинете ее, школьном, директорском, все также было щепетильно аккуратно и сдержанно. С тем большим контрастом на фоне общей чистоты выдавался угол, в котором размещался хозяин дома и собственно сам Владимир Федорович. Самое неприятное впечатление с первого же взгляда произвел на Антонину Анатольевну Маргариты Олеговны муж. Даже чувство брезгливости непроизвольно зародилось в ней, которого она мгновенно устыдилась и поспешила отвести глаза, ужасно испугавшись, как бы это чувство уже не было ею выказано.
Сколько Маргарита Олеговна казалась моложе своих лет, столько, и сверх того, муж ее выглядел старше. На вид это был уже старик, но предполагалось, что ему лет должно быть до шестидесяти (Антонина Анатольевна запомнила из какого-то мимолетного замечания Маргариты Олеговны, что на три года она младше своего мужа). Лицо было совершенно беззубое, болезненно одутловатое, желтое, с малюсенькими слезящимися глазками (впрочем, оттого, может, приходилось ему щуриться, что не успел привыкнуть еще к включенному свету человек). Кроме того, Владимир Федорович вторую неделю, кажется, был не брит, и его редкие, густо посеребренные волосы были гладко и отвратительно прилизаны. Одет он был в выцветшую пижаму, в бледно сине-голубую вертикальную полоску, какие в прошедшие времена выдавались стационарным больным в больницах. Постель была в беспорядке: скомканная простынь, обнажая матрац, сосредоточивалась на середине кровати, одеяло было тоже перекручено и одним лишь углом своим закрывало место, где предполагалась левая нога Владимира Федоровича (исходя из слухов, у Антонины Анатольевны на этот счет была одна неприятная догадка); правая его нога, свесившись вниз, была на виду. К стене у кровати были приставлены костыли (наличие которых только подтверждало слухи), здесь же стояла табуретка, усыпанная различными медикаментами; кроме того: стакан, бутылка минеральной воды, сигареты. В комнате, впрочем, не было накурено.
–Вот, Владимир Федорович, моя коллега и подруга, очень хороший человек, пользуйтесь честью быть представленным… Антонина Анатольевна, мой муж, – продолжила Маргарита Олеговна, не предоставляя возможности, как следует, «воспользоваться честью» Владимиру Федоровичу, между тем, все же успевшему что-то невнятное крякнуть. Антонина Анатольевна, тоже смешавшись, однако сумела, в свою очередь, выразить удовольствие.
–Удовольствие, представляю, колоссальное, – вдруг, вся покраснев, не обращаясь ни к кому в особенности, как мысли вслух, сказала Маргарита Олеговна. – Ну все, довольно! – отрезала она. – Владимир Федорович с некоторых пор ведет аскетическую жизнь. Пойдемте, Антонина Анатольевна, ко мне, не будем ему мешать.
Через минуту были уже у Маргариты Олеговны, во флигеле. Здесь было также все чисто и на своем месте, но от обилия принадлежностей, предусмотренных в обиходе женщины, а также гардероба, и ввиду ограниченности занимаемой территории, казалось чрезвычайно уютно во флигеле. А в холодные месяцы, когда топится печь, по представлениям Антонины Анатольевны, в таком укромном уголке находиться, наверно, еще приятнее.
Маргарита Олеговна, как будто предвосхищая мысли своей подруги, ответила:
–Зимой топить утомительно, – и пригласила жестом присесть Антонину Анатольевну на раскладной диван. Сама она разместилась на пуфике возле трюмо.
–Ему, слава Богу, – кивнула в сторону дома Маргарита Олеговна, – лет с пять, как газ провели. А то на две печи надрывалась. Он у меня калека. Без ноги (часть слухов, которыми располагала Антонина Анатольевна, с этим сообщением Маргариты Олеговны, оправдалась) – Теперь проще, когда он на автономии; помещение мое – видишь, – провела Иванова глазами вокруг себя, – угля много не требует… А с ним мы порознь живем уже лет двадцать, больше, двадцать пять, наверное. Да и всю жизнь я от него бегала… Я его никогда не любила и не хотела, скрутил он меня тогда в своей Власовке, натурально скрутил. Говорили, кричать нужно было. Да, что кричать? Кто бы откликнулся! Пустая школа, почти ночь, одиннадцатый час. Прогулялась под звездами! Сама виновата. К жизни совершенно оказалась неподготовленная, на романах воспитывалась. Тургенев, Куприн, «Браслет гранатовый». Я себя для другого мужа готовила. И смотрел ведь на меня, там же, во Власовке, – после мне уже «люди добрые» рассказывали, когда со мной покончено было, травили сердце, – интересовался мной инженер, главный инженер завода комбикормового, скромный, порядочный, еще молодой человек. Жалел меня, говорили, когда узнал обо мне, что я потерянная…
Впоследствии, размышляя о проведенном ею времени в компании Маргариты Олеговны у нее во флигеле, Антонина Анатольевна в первую очередь удивлялась – не столько содержанию повествования своей подруги, – хотя, в общем-то, историю Ивановой нельзя было отнести к разряду обыкновенных, – сколько месту и самой возможности этого повествования. До сих пор Маргарита Олеговна избегала «прямо» и слово молвить о себе. А тут, вдруг пересказала всю свою жизнь. Опять же: у себя, у себя дома! Хотела ли она, наглядным образом продемонстрировать ей, Антонине Анатольевне, что «бывает и хуже»? Такое было возможно, но слишком все это было не похоже на поучительный пример. Слишком это было бы жестоко по отношению к себе самой для рассказчицы. Да и слишком мало походила на педагога Маргарита Олеговна в тот момент. Могла существовать и другая причина, могло быть так, что и давно Маргарита Олеговна испытывала острую потребность открыться, высказаться, вылить все, что у нее было на душе, в конце концов, пожаловаться, на судьбу, на незавидную участь. Антонина Анатольевна могла смело предполагать, что ближе, чем она, у Ивановой могло не быть человека, а стало быть, не стоило удивляться, что, в таком случае, именно ей надлежало рано или поздно произойти в конфиденты. Но, по крайней мере, семь лет отсрочки? Неужели столько времени понадобилось ей, чтобы заслужить доверенность своей подруги? Или же, раньше, когда ее, Игнатовой, личная жизнь не подвергалась смуте, Маргарита Олеговна, из особенной гордости, не могла себе позволить показать себя несчастною перед своей во всем счастливой подругой, и только теперь, пока «свежо предание», когда контраст едва уловим, она нашла в себе внутреннюю возможность?.. – но так думать было неприятно Антонине Анатольевне, и она назначала мыслям другое направление. В конце концов, она разрешала для себя, что просто совпала минута открыться Маргарите Олеговне перед ней, и этой, вероятнее всего, что справедливой мыслью целиком удовлетворялась. И только с тем, впоследствии, сосредоточивалась Антонина Анатольевна уже непосредственно на жизненной истории своей подруги, между прочим, немало тоже ее в ту ночь поразившей, и крепко запечатлевшейся в памяти.
Но все это было уже много после повествуемых нами событий, когда все улеглось внутри у Антонины Анатольевны и в сознании ее упорядочилось. Тогда же, в тот вечер, или даже уже в ночь, преисполненную для нее переживаний, она лишь только поспевала слушать и подсознательно собирать в общее то, что ей предлагалось к вниманию. Иванова как-то вдруг тогда заговорила о себе, и продолжала свой рассказ как-то отрывочно, не по порядку.
Грустная история Ива́новой
«Мне и до сих пор, бывает, снится эта улица, – говорила Маргарита Олеговна, не пряча взгляд, а глядя прямо в глаза сидящей напротив Игнатовой, – длинная такая, через все село, широкая, темная, – мне снится, что я ночью по ней иду и, присматриваясь, все ищу глазами дом тот, в котором мы жили. И не нахожу. И радуюсь, что не нахожу; иду и страшно мне идти одной среди ночи. Вот уже и самая окраина села, где надлежало дому тому стоять, а дальше поле, поле… А мы даже без ограждения жили, – так, заходи, кому вздумается: хоть татары целой ордой, никаких препятствий. И запирать смысла никакого не было, – в крыше дыра была: детвора соседская лазила, прячась друг от друга, или за вареньем. А когда дождь шел, переносили кровать на кухню… И то в таких условиях мне лучше жилось, чем у свекрови…»
«Беспорядочная женщина была, моя свекровь. Я не привыкла к такому. У меня мать, та последнюю соринку, было, выметет из дому. Эта же: мыши по столу пешком ходят, доедают за нею; паутина на голове висит. А она все помадится, раз по пять на день… Свекор – добрый человек был, но совершенно без характера, пьяница горький. Я сколько убеждаюсь, если мужчина безобразник, но супруга его добросовестная женщина – это распространенное явление: ничего, послужит слабый пол опорой. Только, если женщина безалаберная, никакого порядка не будет в семье и непременно опустятся оба. Уже более двадцати лет как нет их. Сгорели от водки. Даже не ездили ни одного хоронить: этому некогда было – тоже и похожим путем на тот свет готовился, а мне на что? Там Витя… Одно светлое пятно во всей семье, его брат Витя. Вот, подумать, как среди такого содома мог вырасти порядочный человек? Казалось бы, два брата, да? – от одного отца и от одной матери произошли, в одной среде росли и воспитывались, но рядом поставь: небо и земля, – какое там, земля? – подземелье. Тот и на гитаре играл, и все село у него друзей было, в школе хорошо учился. Этот – бешеный был какой-то. В армию провожали, свекровь где-то заняла что ли – полкабана, котлет наделала, столы накрыла, этот взял, столы перевернул. Злился. Знал, что только он за порог, я убегу от него. Можно ли было не убежать от такого?..»
«Вот, для примера, история. Я в детском саду, там, во Власовке, с детьми вожусь. Заходит ко мне, говорит, пойдем. Я говорю, сейчас детей брошу и пойдем. «Ну ладно я тебя жду, – отвечает, – в «Ивушке». А «Ивушка» – это заведение питейное, прямо напротив детского сада. Клоак редчайший. Вот, последнего ребенка у меня забрали, я выхожу, зову его: пойдем. «Сейчас все брошу, и пойдем», – говорит, в присутствии собутыльников своих, всякой сволочи, насмехается. Ладно, я в дет. сад вернулась, сижу, жду. Заходит, подбородок трусится, хорош уже. «Пойдем, я готов». – «Вижу, что готов, только я не готова, – отвечаю ему. – Я тебя звала час назад домой идти, а теперь не пойду». А рядом, дорогу переходить не надо, поселковый совет. Он камней в руки нагреб и шарах по стеклам. Светло, шесть вечера, еще день-деньской на дворе, конец семидесятых годов, советская власть – еще крепкая, еще без поползновений к развалу. Окна бьет в поселковом совете. Представляешь? Это он меня так воспитывал. Наутро, еще спим мы, участковый: добрый день, пожалуйте. А за ним уже значилось. Ему «химия» уже назначалась за хулиганство. У свекрови тогда была возможность откупить его, сумма была посильная, чтоб собрать, да не стала с ним и голову морочить, с пропащим, отпустила «на перевоспитание». Это он мне еще в дни знакомства нашего на мать свою жаловался. Теперь, следовательно, ему светила тюрьма. Отпросился он на крыльцо, с женой, со мной, якобы, проститься, – только я ему еще не жена была. Учит меня, иди, проси за меня, в ноги кланяйся, говори, что жена. Я и пошла. Зашла к судье, реву. Видный такой старичок был, осанистый, но с добрыми, замечательно добрыми глазами, хоть и нахмуренными, для важности. «Что ревешь? – спрашивает. – Муж?» Я киваю. «Так и что? Ребеночка ждете?» Я голову наклонила, реву, толи от стыда, толи от страха, толи и впрямь жаль мне стало этого своего. Отпустили, благодаря вранью моему, какие-то там работы только назначили…»