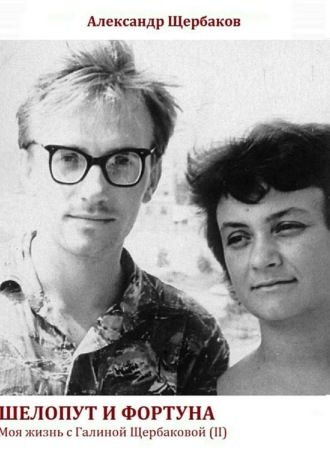 полная версия
полная версияШелопут и фортуна
…А с утра надо было собирать чемодан, костюмы и прочее к ночной поездке в Ленинград, на спектакль тамошнего театра имени Ленинского комсомола «Роман и Юлька», куда мы и отправились втроем – Галина, наша дочь и я. Времени на переживание ночного происшествия, так получилось, не было. И умиротворение установилось быстрее, чем можно было ожидать. Кроме способствующих этому обстоятельств, тут проявился и ум жены, о котором я не раз упоминал в данном сочинении. И недаром. Всякий человек единственный в своем роде. Меня личность Галины увлекала, быть может, в первую очередь сочетанием природной, непосредственной эмоциональности с основательным благоразумием. Первое – по определению недоступное мне самому – веселило мое сердце. Второе же было родственно моему рассудку. Как это помещалось и смешивалось в одном флаконе, трудно понять.
Кстати, внимательные читатели, ценители прозы Галины, часто отмечали в ее произведениях взаимопроникновение взаимоисключающих начал. Вздымание ладоней перед непостижимостью – по ее понятиям – абсолютно обыденного, как всем представляется, повседневного случая, – и почти афористичность определений, легко раскрывающих, казалось бы, заведомые многотрудности…
…Интригующая неожиданность ждала меня, когда я просматривал письма, перемещаемые из тумбочки в антресоль. Оказалось, на обороте одной из моих цидул Люся сделала карандашную запись:
«Самое дорогое, что у меня было, что я так глупо потеряла. Что бы я отдала, чтобы это все вернулось снова! Но увы… Глупость не наказывается – она сама наказывает себя. И все-таки этот сон был самым приятным из всех сновидений. Какое прекрасное время БЫЛО!»
Когда это написано? Теряюсь в догадках. По смыслу контекста – когда все ушло безвозвратно. Но ведь она вернула мне мои письма раньше, в Свердловске, где мы еще строили совместные планы… Но коль скоро они, эти планы, еще были, для чего я, как бы загодя, просил вернуть письма?
Или все тут не поддается логике, или… мы оба, в неясных ощущениях опережая события, предчувствовали невозможность, неосуществимость единения?.. Подобные случаи, кстати, не такие уж редкие, порождают гипотезы об экстрасенсорном предвидении. История явления в моей жизни Галины тоже, мне кажется, подтверждает их. Откуда с самого начала взялась твердая, как победитовый резец (реминисценция рабоче-токарного эпизода моей биографии), уверенность в ее благом исходе? Когда бывало трудно и сами собой опускались руки, она, и только она охраняла неразрывность нашей пары.
Ох, Галя, Галя! Снова вспоминаю твое поверье: не пиши – сбудется. Зачем живописала героев, пытавшихся вернуться к былой любви? Вот и сбылось. Я, конечно, не туповатый мэн, как твои мужские персонажи, и никогда бы не поехал в «город, в котором тепло» и где оставил свою юность вместе с жившей там любимой девушкой. Нет, я вернулся в него не в вульгарной действительности, а в памяти, неподконтрольной рассудку, избежав шока от порчи коварным временем всего сущего, включая и некогда обожаемую пассию. Но такое разочарование бывает иной раз и спасительным, оно от противного свидетельствует: все у тебя-то сложилось хорошо, правильно… А я вот сейчас вынужден разбираться в смутности мыслей и чувств, смущающих покой поношенной нервной системы.
«Мы в ответе за тех, кого приручили». Эта максима Лиса из повести Сент-Экзюпери «Маленький принц» стала такой же расхожей, как начальная мелодия сороковой симфонии Моцарта. Я разделяю мнение безымянного участника некоего интернетовского обсуждения: «Эта фраза давно знаменита и слишком часто используется не по назначению. А именно, говоря ее, люди часто имеют в виду вовсе не домашних животных, а… своих близких. Тех, кто их любит. И знаете, что люди, которые употребляют эту фразу по отношению к своим близким, как правило, вообще не могут и не желают «быть в ответе» не то что за близких, а даже за себя. Потому что не могут принять ответственное решение в нужный момент».
«Приручал» ли я Людмилу? Да, в течение лет, и с большой энергией.
«Ты не пишешь, и я боюсь: неужели ты снова обиделась на меня за что-нибудь? Если так, то значит моя судьба – делать все против своих желаний. Во всяком случае я жду твоего письма, и если бы знала, как жду, то уже бы написала… Вся моя теперешняя жизнь состоит из кучи мелочей и ожидания письма от тебя. Если хочешь, то отнимай эту половину моей жизни, но пусть тебя хоть совесть грызет».
«Я тебе хочу пожелать, чтобы ты не делал все против своих желаний, потому что я-то на тебя ни за что не сержусь».
«…утешитель из меня выходит очень плохой. Но ведь я для тебя ничего не могу сделать, когда ты так далеко. А мне всегда так хочется помочь тебе, когда тебе тяжело, и мне самому тяжело, когда я не могу сделать это. А иногда и самому требуется моральная, душевная поддержка, которую только ты мне можешь дать. А все, что я в состоянии сделать для тебя, я всегда сделаю».
«Прошел всего один день, как я приехал, а я без тебя уже скучаю очень. Совсем другое дело, когда хоть тебя и не видишь, но знаешь, что ты где-то близко. А когда тебя нет в городе, то и город кажется пустым и скучным. …У меня на душе сейчас столько много слов, и некому их высказать, потому что все они – для тебя и о тебе».
Это ли не «тотальное» приручение?
Да, но разве она не учиняла того же в отношении меня?.. И кто первым пренебрег ответственностью за «прирученного»? Кто, грубо говоря, вышел замуж?.. Всякий непредубежденный человек подтвердит мою правоту.
Но нет. Почему-то не утешают резонные доводы. И свербят в душе упреки истеричной и великой Марины Цветаевой:
Вчера еще – в ногах лежал!
Равнял с Китайскою державою!
Враз обе рученьки разжал, –
Жизнь выпала – копейкой ржавою!
…Я глупая, а ты умен,
Живой, а я остолбенелая.
О, вопль женщин всех времен:
«Мой милый, что тебе я сделала?!»
Сотни стихов и песен разнообразят грани этой темы, но все они без изъятия подпадают под Цветаевскую формулу.
Истинный поэт способен – нет, не объяснить! – зафиксировать (и удивить ими!) извечные противоречия жизни. Вот и у Цветаевой:
Само̀ – что дерево трясти! –
В срок яблоко спадает спелое…
– За всё, за всё меня прости,
Мой милый, – что тебе я сделала!
Поражает не только рассекающая сердце эмоция, но и точность хирургии. Любовь – не просто личная, а сугубо собственническая субстанция, на которую никто, даже Господь Бог, не в силах посягать. Взаимная любовь – это две любви, счастливо совпавшие по времени и месту. И, может быть, при этом очень отличные друг от друга. Тебе дано познать только свою и за нее же быть ответственным… перед собой. Поэтому «что тебе я сделала» – это насколько упрек, настолько и вопрос самой себе. Единственный честный ответ на него – итоговые строчки: «за все меня прости, мой милый, что тебе я сделала».
Прости – за обоюдное, взаимное приручение. И перед кем тут может быть ответственность?.. В лучшем случае она – категория желательная. С чем приходится, увы, смириться, судя по финалу, и автору стихотворения.
Но… Автор не злоупотребляет словом «любовь», используя его только дважды.
Не мать, а мачеха – Любовь:
Не ждите ни суда, ни милости.
И:
Где отступается Любовь,
Там подступает Смерть-садовница.
Вопрос: разве это корректно – так о любви, да еще с заглавной буквы? Ведь та, как мы помним, всегда «долготерпит, милосердствует, …не раздражается, не мыслит зла». Восприятие же ее в этих четырех строках, сдается, сродни представлениям прекрасной, но донельзя легкомысленной девушки из оперы – не «мыльной», а классической, – распевающей о том, что «у любви, как у пташки, крылья».
Я рад, что мое необязательное и непритязательное изложение вновь напомнило про податливость и смысловую приблизительность слов. Так вот, приручение – еще не любовь. В Послании Павла такие состояния определяются словечком – «отчасти». «Когда же настанет совершенное, тогда то, что̀ отчасти, прекратится». А любовь-то – «никогда не перестает»…
В стихотворении Цветаевой есть такой акцент:
«О, вопль женщин всех времен:
«Мой милый, что тебе я сделала?!»
«И стон стоит вдоль всей земли:
«Мой милый, что тебе я сделала?»
«Всех времен»… «Всей земли»… «Всехность» – это даже ни массовость, а, можно сказать, поголовность. И мой запоздалый сердечный дискомфорт, вызванный делами давно минувших дней, – это обыденность, если не сказать банальность. Но если задуматься, на банальности тратится львиная часть нашей жизни. Какие-то пиковые, уникальные моменты в ней бывают раз или два (если вообще случаются). Нет, конечно, если в вашей судьбе одно несчастье погоняет другое, тут, понятное дело, большой простор для своеобычности. Нормальное же, а тем паче счастливое существование, как правило, состоит из череды не блещущих оригинальностью, элементарных эпизодов, ситуаций, состояний.
С удовольствием приведу пример, иллюстрирующий, пусть косвенно, мысль.
Я, считая «Анну Каренину» лучшим произведением Толстого, не раз говорил окружающим, что это «самый романный роман» в литературе. Многие при этом пожимали плечами, однако многие согласно кивали. Я сам до конца не мог понять этого своего определения, пока однажды не услышал в телепередаче «Белая студия» мнение прекрасного кинорежиссера Валерия Тодоровского.
– Знаете, почему эта книга гениальная? Потому что она вся абсолютно банальна. В смысле, она не пытается рассказать ничего оригинального, не пытается поставить людей в какие-то исключительные обстоятельства…
Я впоследствии мысленно прикладывал эту парадоксальную мерку ко многим любимым произведе-ниям, и в большинстве случаев она к ним подходила.
Вот «Живой труп», драма того же Толстого. Чего там только нет: имитация самоубийства и само самоубийство, цыганский разгул и жизнь «на дне». Но это только сохраняемые требования жанра. А истинная пружина действа столь же гениально банальна, как и в «Анне Карениной».
«Семейная жизнь? Да. Моя жена идеальная женщина была. …Но что тебе сказать? Не было изюминки, – знаешь, в квасе изюминка? – не было игры в нашей жизни. А мне нужно было забываться. А без игры не забудешься. А потом я стал делать гадости. А ведь ты знаешь, мы любим людей за то добро, которое мы им сделали, и не любим за то зло, которое мы им делали. А я ей наделал зла. <…> Она беременная, кормящая, а я пропаду и вернусь пьяный. Разумеется, за это самое все меньше и меньше любил ее».
Это исповедь Федора Протасова, главного дейст-вующего лица. Но я-то решил вспомнить его здесь главным образом за откровения иного рода. «…Были у меня увлечения. И один раз я был влюблен, такая была дама – красивая, и был влюблен, скверно, по-собачьи, и она мне дала rendez-vous. И я пропустил его, потому что счел, что подло перед мужем. И до сих пор, удивительно, когда вспоминаю, то хочу радоваться и хвалить себя за то, что поступил честно, а… раскаиваюсь, как в грехе». Я за фигурой Феди Протасова в таких случаях непременно вижу придумавшего ее писателя. И, полагаю, он тоже испытал отраду своего героя, оставленную следом минувшего чувства: «…Всегда я на нее смотрел снизу вверх. Не погубил я ее просто потому, что любил. Истинно любил. И теперь это хорошее, хорошее воспоминание. <…> Всегда радуюсь, радуюсь, что ничем не осквернил это свое чувство… Могу падать еще, весь упасть, все с себя продам, весь во вшах буду, в коросте, а этот бриллиант, не брильянт, а луч солнца, да, – во мне, со мной».
И, конечно, не мог я не приложить «критерий Тодоровского» к рассказу «Темные аллеи»…
Шестидесятилетний, но еще крепкий господин из военного сословия, колеся на тарантасе по одной из больших тульских дорог, заворачивает в постоялую горницу при почтовой станции. И неожиданно узнает в ее хозяйке свою бывшую, тридцатилетней давности, любовь. Вот их разговор.
– <…> Небось помните, как я вас любила.
Он покраснел до слез и, нахмурясь, опять зашагал.
– Все проходит, мой друг, – забормотал он. – Любовь, молодость – все, все. История пошлая, обыкновенная. С годами все проходит. Как это сказано в книге Иова? «Как о воде протекшей будешь вспоминать».
– Что кому бог дает, Николай Алексеевич. Молодость у всякого проходит, а любовь – другое дело.
Он поднял голову и, остановясь, болезненно усмехнулся:
– Ведь не могла же ты любить меня весь век!
– Значит, могла. Сколько ни проходило времени, все одним жила. Знала, что давно вас нет прежнего, что для вас словно ничего и не было, а вот… <…>
– А! Все проходит. Все забывается.
– Все проходит, да не все забывается.
– Уходи, – сказал он, отворачиваясь и подходя к окну. – Уходи, пожалуйста.
И, вынув платок и прижав его к глазам, скороговоркой прибавил:
– Лишь бы бог меня простил. А ты, видно, простила.
Она подошла к двери и приостановилась:
– Нет, Николай Алексеевич, не простила. Раз разговор наш коснулся до наших чувств, скажу прямо: простить я вас никогда не могла. Как не было у меня ничего дороже вас на свете в ту пору, так и потом не было. Оттого-то и простить мне вас нельзя.
И вот тот же мужчина на той же дороге.
Низкое солнце желто светило на пустые поля, лошади ровно шлепали по лужам. Он глядел на мелькавшие подковы, сдвинув черные брови, и думал: «Да, пеняй на себя. Да, конечно, лучшие минуты. И не лучшие, а истинно волшебные! …Но, боже мой, что же было бы дальше? Что, если бы я не бросил ее? Какой вздор! Эта самая Надежда не содержательница постоялой горницы, а моя жена, хозяйка моего петербургского дома, мать моих детей?»
И, закрывая глаза, качал головой.
Вот уж один из «самых рассказных рассказов». Четыре, всего четыре страницы! Он написан в год моего рождения. Ивану Алексеевичу Бунину было под семьдесят.
«Лезвие бритвы». Так назвал свой роман Иван Ефремов. А по ходу его действия, сложного и прихотливого, автор развил теорию существования… всего сущего на том самом лезвии. Оно – как канат под цирковым куполом. Но есть разница: сорвавшись с лезвия влево, падаешь в одну бездну, а вправо – совсем в другую, полярную первой. Там сгораешь на костре, тут превращаешься в сосульку. Норма, обыкновенность могут существовать лишь на очень узком и остром лезвии между крайностями. С тех пор, как узнал этот образ, то и дело обнаруживаю его жизненность. В частности, он подходит к разнообразным психологическим состояниям.
Не успел отойти от неясного, неопределенного чувства давнишней вины, как от всего того же – вот уж «бритвенная» тесность – породилось какое-то обратное беспокойство: не урод ли я? Можно ли представить, что мужики «всех времен всей земли», утратив любовные чувства к женщине (-нам), испытывают такого рода внутренние неудобства? Что за дурость! – взывает к чистому разуму моя гендерная солидарность. Про одного доблестного Дон-Жуана сколько замечательных книжек написано. Да и наши современники, имевшие только в браках по 3-7 женщин, с легким сердцем рассказывают о них и в мемуарах, и по телеку. Не будем уж вспоминать фольклористику курилок и саунных предбанников.
Так стоит ли бередить себя стародавними пережива-ниями, пытаясь выстроить их (зачем?) в причинно-следст-венную связь? Конечно, не стоит. И я впрямь в них выгляжу отщепенцем славного мужского рода.
…Как вдруг вспоминаю…
Вспоминаю, нет, не роман или рассказ, а случай из жизни Федора Михайловича Достоевского. Он легко всплывает в памяти, поскольку фамилия его участницы проста, как подоплека случившейся истории – Иванова.
Елену Павловну Иванову и Федора Михайловича одно время связывали нежные отношения. Жена писа-теля Анна Григорьевна Достоевская (Сниткина), стара-ясь быть предельно объективной, рассказывает об этом в своих воспоминаниях.
«Елена Павловна Иванова (1823-1883) была belle-soeur Веры Михайловны, т.е. жена брата ее мужа. Вера Михайловна, желая счастья Федору Михайловичу, мечтала о том, чтобы он женился на Елене Павловне, когда скончается ее муж, многие годы больной и смерти которого ждали со дня на день. Ф.М., мечтавший о семейном счастии, склонялся на уговоры сестры, признавая многие достоинства Елены Павловны. Живя летом 1866 г. в Люблине вблизи Москвы, вблизи дачи Ивановых и встречаясь иногда с Еленой Павловной, Ф.М. спросил ее однажды, "пошла ли бы она за него замуж, если б была свободна?" Она не ответила ничего определенного, и Ф.М. не считал себя с нею связанным никаким обещанием. Тем не менее Ф.М. очень тяготила мысль, что он, может быть, внушил ей надежды, которым не суждено осуществиться».
Дело в том, что этот эпизод был совсем незадолго перед тем, как в отношениях между Федором Михай-ловичем и Аней, пребывавшей в девичестве, случился кардинальный поворот, и они приняли решение о женитьбе. Хорошо зная натуру Достоевского по его сочинениям, можно представить, какого рода мысли могли тяготить его в этой ситуации.
Их тем более можно почувствовать, прочитав такую запись Анны Григорьевны об Елене Ивановой: по ее мнению, Достоевский ту «представил за ужасную страдалицу и за удивительно нежную и добрую особу (потом, когда мне пришлось увидеть ее, она мне вовсе не показалась такой, так что я решительно думаю, что он это придумал)».
А вот отрывки из писем Федора Михайловича к Ане, еще невесте.
«Москва, 29 декабря/66.
Не сердись на меня, мой бесценный и бесконечный друг Аня, что я пишу тебе на этот раз несколько строк единственно с целью поздороваться с тобой, поцеловать тебя и уведомить тебя только о том, как я доехал и приехал, не более, потому что еще никуда и носу не показывал в Москве. Ехал я благополучно. <…>…в половине первого был уже у наших. Все очень удивились и обрадовались. Елена Павловна была у них. Очень похудела и даже подурнела. Очень грустна; встретила меня довольно слегка. <…> Я с Соней (племянница Достоевского. – А. Щ.) остались на полчаса одни. Сказал Соне все (о предстоящей свадьбе. – А. Щ.). Она ужасно рада. <…> Спросил ее: что Елена Павловна в мое отсутствие вспоминала обо мне? Она отвечала: о, как же, беспрерывно! Но не думаю, чтоб это могло назваться собственно любовью. Вечером я узнал от сестры и от самой Елены Павловны, что она все время была очень несчастна. Ее муж ужасен; ему лучше. Он не отпускает ее ни на шаг от себя. Сердится и мучает ее день и ночь, ревнует. Из всех рассказов я вывел заключение: что ей некогда было думать о любви. (Это вполне верно). Я ужасно рад, и это дело можно считать поконченным».
«Москва 2 января/67.
<…> Вчера, в Новый год, Елена Павловна позвала всех к себе на вечер. Стали играть в стуколку. Вдруг Александру Павловичу подают письмо…, а он передает его мне. Кое-кто стали спрашивать: от кого? Я сказал: от Милюкова, встал и ушел читать. Письмо было от тебя; оно очень меня обрадовало и даже взволновало. Воротился я к столу в радости и сказал, что известия от Милюкова неприятные. Через четверть часа почувствовал как бы начало припадка. Пошел в сени, намочил голову и приложил к голове мокрое полотенце. Все несколько взволновались. Я дал поутихнуть и вызвал Соню, которой и показал твой поклон. Затем, когда приехали домой, прочел все твое письмо вслух Соне и Маше. Не сердись, моя радость, они видели и свидетельницы, как я тебя люблю – как я бесконечно тебя люблю и тем счастлив!
Елена Павловна приняла все весьма сносно и сказала мне только: «Я очень рада, что летом не поддалась и не сказала Вам ничего решительного, иначе я бы погибла». Я очень рад, что она все так принимает, и с этой стороны уже совершенно теперь спокоен».
А вот письмо Достоевского, написанное самой Елене Ивановой через семь с половиной лет.
«Эмс 5/17 июня/75.
Многоуважаемая и любезнейшая Елена Павловна, пишу Вам из Эмса (близ Рейна), где лечусь от моей грудной болезни здешними минеральными водами. Послали доктора хором и предсказывали самый дурной исход, если не поеду (вроде как с П.М. Леонтьевым, покойником, который тем же самым был болен). В прошлом году мне Эмс помог ужасно, и, конечно, вижу теперь ясно, что если бы прошлым летом не был в Эмсе, то наверно бы прошлою зимою умер. От этой болезни умирают иногда вдруг, от малейшей простуды, от насморка, если уж болезнь овладела до того организмом.
Здесь я сижу, пью воду и скучаю до того, что боюсь с ума сойти. Не думайте, дорогая Елена Павловна, что я взял перо от скуки: у меня и без того работы как у каторжного с моим романом, который теперь пишу. А просто я давным-давно хотел уведомить Вас и напомнить Вам о себе, с тем чтобы вызвать и Вас хоть на самый маленький отзыв. <…>
Если захотите мне черкнуть хоть две маленькие строчки, то вот адрес… <…>.
А если и ничего не пришлете, то всё по-прежнему буду о Вас так же думать и вспоминать и за Ваше счастье богу молиться. А теперь крепко жму Вашу руку.
Ваш весь Ф. Достоевский».
Тем летом раз в каждые три дня Федор Михайлович писал жене подробные письма, исполненные любовью, тревогами, домашними заботами.
«Целую и обнимаю тебя чрезмерно, но любишь ли ты-то меня, голубчик, вот вопрос! Я об вас думаю беспрерывно. Детей целуй и пиши мне об них подробности. Хорошо, кабы ты всякую подробность, которую мне пишешь о детях, вписывала бы и для себя, на память, в особую тетрадку. Для этого можно бы особую книгу купить. <…>
Милая Аня, верь моей любви бесконечной, умоляю, береги себя и детей. Кстати, не подумай обеспокоиться моим насморком. Все это вздор. А может, прочтя это, засмеешься и назовешь меня фатом. Я потому написал: не беспокойся, что знаю доброе, милое сердечко моей женки, без которой, увы, живу вот уже две недели. Аня, милая, люби меня и думай обо мне иногда, от мысли о том мне будет веселее».
Любовь к Анне и эту семейственность он пронес до конца жизни. Но вот же не забывал, помнил душой женщину, которая когда-то тронула его сердце и которой он сделал, может быть, по неосторожности, предложение.
«Так то ж Достоевский», – говорю я себе и в оправдание, и в утешение. А в ответ в памяти звучит детское – забавное и насмешливое: «Ученые, ученые, кругом одни ученые. А я кто? Никто!»
Вот именно.
И как раз в день завершения этой главы, которая, так сложилось, в основном про любовь, мне на глаза попался номер еженедельника «Собеседник» с интервью Евгения Цыганова, превосходного актера, а к тому же еще обладателя крутой мужской харизмы, по мнению многих женщин. В ряду его мнений я прочитал и это:
– Любовь либо есть, либо ее нет. Я уже давно понял, что слово «любовь» – это одно, а действие – совсем другое. Можно любить животных, можно любить профессию. Есть родительская любовь. Есть любовь к Богу. В нашей жизни, помимо логических вещей, есть вещи необъяснимые, непостижимые, и я за эту необъяснимость.
И не поспоришь.
Третья глава
I
«Не может не быть бессмертия души. Иначе – бессмыслица. Расточительность и идиотизм», – так начинается Галин журнальный мемориальный очерк «Жизнь не обидела меня… Памяти Лизы Кремневой». Я уже упоминал о нем в этой книге.
«Умирают гениальные мастера, которым не дали в руки дела. Мудрецы, которым кляпом заткнули рот. Умирают многодетные матери, не родившие ни одного ребенка. Трагедия невоплощенности, не завершись она справедливо где-то там, должна была бы разорвать человечество в клочья. Но мы живем. И уходим так часто, не сделав и толики того, что билось в душе. Для чего-то билось!
Мы суетимся на пути к себе,
По сторонам глазеем то и дело,
И прозреваем, не достигнув цели,
Когда душа донашивает тело.
Умерла Лиза Кремнева, журналистка, когда-то работавшая в «Крестьянке», и сейчас, когда я пишу эти строки, думаю, какое счастье, что она в ней работала, а потому и имеет право на эти несколько прощальных страниц. Не будь «Крестьянки», куда бы я с ними подалась?
Лиза оставила после себя четыре странички аккуратно перепечатанных стихов – разве она писала стихи? Просьбу отпеть ее в церкви – представляю и понимаю некую неловкость для райкома КПСС, в котором она работала. Письмо-записку, в котором мельк-нули слова: я жила хорошо! – и наше, поверьте, всеобщее сочувствие по этому поводу. <…>
Я вот и девять, и сорок дней ее отмолила, а несколько отмеренных мне страниц написать не могу. Будто дышит она у меня за спиной и не то что одергивает – она сроду никого не одергивала, – а вот мешает мне сказать какие-то вполне правдивые, искренние слова о том, как она подняла на ноги племянников, оставшихся без матери, как была нежна со своей старенькой мамой, как возилась с моими малыми детьми, а потом с другими малыми других своих подруг, их целая куча, чужих, обласканных ею и уже выросших детей.



