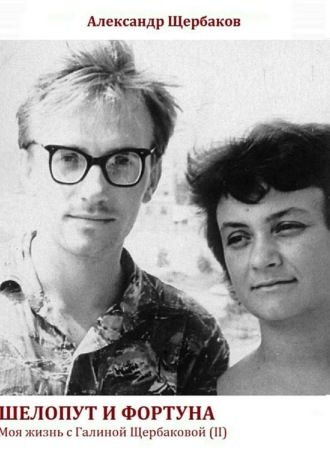 полная версия
полная версияШелопут и фортуна
Впрочем, перевоплотившись, она могла в какой-то мере стать украшением нашего скромного жилища, и начальная работа правдинских спецов явно сулила это. Но – не стала. Я совершил грубую и глупую ошибку. Обрадовавшись, что на сей раз удалось залучить действительно мастеров, желая их поощрить и простимулировать, я взял и выдал им некий денежный аванс. И… больше их уже не видел. Они с чисто русской широтой оставили прекраснейшие свои инструменты, которыми я пользуюсь по сию пору, и полоски замечательной фанерной филенки в таком количестве, что я ими украсил торцы всех стеллажных полок, и мое ДСП хоть в какой-то мере приобрело мебельный вид. За что я весьма благодарен двум этим раздолбайским мужичкам. Но сами они так и не появились. А я не счел возможным еще раз выискивать их. Не хотелось создавать какую-то неловкость.
Однако же они успели сделать симпатичный хозяйственный шкаф с вместительной антресолью. Она-то и имеет отношение к теме этой главы.
В конце 1976 года мы купили первый (и последний) в нашей жизни письменный стол: для него появилось место. Галине, нашей писательнице, тогда, между прочим, было 44 года. Поскольку он был один на двоих пишущих, то и его ящики были честно поделены поровну: левая тумбочка (3 ящика) Га̀лина, правая – моя. Галя к тому времени перевела много писчей бумаги: два романа, несколько рассказов, парочка пьес, повести – в том числе «Вам и не снилось»… Ко времени, когда у нас появился коридорный шкафчик, я уже не раз подумывал, что пора расширить жилплощадь Галиных рукописей. Естественной оказалась мысль воспользоваться появившейся новой ёмкостью: обе тумбочки стола предоставить Гале, а мои бебехи поместить в коридорную антресоль.
«Решение есть действие», как сказал один англи-чанин. В магазине «Школьник» на Нижней Масловке я закупил папки со шнурками и в ближайший выходной стал собирать в них «архив». Кто занимался этим хотя бы раз, знает, какое это утомительное занятие. Невольно что-то перечитываешь, соображаешь, представляет ли это какую-то ценность или лучше сразу выкинуть… Стараешься соединить однородное, поближе положить то, что может понадобиться в ближайшее время… Расстраиваешься из-за того, что напрочь забыл нечто важное, очень необходимое, но бывшее нужным… позавчера.
Через два часа таких разбирательств голова – как чугунный котел. А уж к вечеру… Именно в таком состоянии я добрался к пакету на дне нижнего ящика с моими давними письмами к Люсе и ее ответами. Пусть мне будет стыдно, но признаюсь: они для меня не представляли большого интереса. Мог вообще выбросить не читая. Мое собственное прошлое не очень занимало меня. Как, впрочем, и будущее. Настоящим было переполнено мое существо, конкретными, календарными вчера и завтра. Но, несмотря на отяжелевшую голову, выработанная профессией привычка чтить письмена взяла верх, более того, заставила сверхбегло пробежать глазами старозаветные, как тогда казалось, малоинтересные полудетские послания. Ни о какой предположительной книге и краешка мысли не было. Иначе я бы не сделал того, о чем сейчас сожалею.
А именно: взял и выкинул в урну несколько своих писем. И одно Люсино. Мотивы? Я над ними тогда не очень задумывался, хотелось быстрей покончить с этой канителью, но сокровенным было подспудное сообра-жение: вдруг кто-то прочтет и узнает обо мне нечто, что самому мне не то что стыдно, а… неприятно знать. О моей прежней глупости. Непросвещенности. Недалекости. Толстокожести… Да мало ли о чем. Не говоря уж о риске непонимания из-за какой-нибудь случайной житейской двусмысленности.
За час или полтора до тех минут я выбросил почти все мои… стихи. Время от времени, как крапивная лихорадка, меня посещал этот зуд. Я не без удовольствия и легко (признак бесталанности) сочинял стишки, посвященные женским чарам, любви или неким философическим материям. Именно такие темы, по моему тогдашнему вахлацкому представлению, имело смысл загонять в рифморитмоформу. В прочих случаях, считал я, ее возможности безнадежно уступают нормальной письменной речи.
Помню, как окидывал оценивающим взором сочинения, признавая их (в условиях дефицита площа-дей хранения) ненужность для чего бы то ни было. Но от одного из них я торопливо избавился еще и по некой конкретной причине.
Одно недолгое время в нашей редакции работала курьером прелестная девочка восемнадцати лет. Ее звали Лера, Валерия. А у меня случилась стихотворная аллергия. И опус, посвященный ей, оканчивался так:
…оторопей.
Но Валериевы ручки,
Ах, Валериевы ножки…
Муза, муза, будь скромней!
Перечитав это, я улыбнулся, вспомнив шуточки, которыми мы перебрасывались, встречаясь в служеб-ном коридоре с девочкой Лерой. И вдруг меня бросило в жар. В одночасье вспомнил, что имя жены нашего сына Саши – Валерия! И что ее люто невзлюбила дочь Катя, подозревая, что новый член семьи приворовывает у нее, Кати, полагающуюся ей родственную любовь. Я почти въяве услыхал ее голос: «Ага, Лерища, я всегда знала…» А Сашка, сын, услышав его, может поду-мать… А сама Лера, действительно привлекательная женщина, к которой я тепло относился…
Это я все к тому, что могли быть разные причины, побуждающие избавиться от как бы «компромети-рующих» писем. Дурак, чуть ли не сорокалетний, но – дурак. И, повторю, не имевший намерения сочинять какую-либо книгу. Потому как даже и дурак сообразил бы: именно такие свидетельства представляют ценность для живописания портрета.
…Перекочевав из правой тумбочки письменного стола в новую коридорную антресоль, старые письма залегли еще на 35 лет. И разве кто знал, что снова могут налиться пульсом жизни (пусть и истекающей), неразрешенных вопросов, неосуществленных надежд.
Вот я и объяснил, почему в собрании юношеских эпистол отсутствуют некоторые их них. А также одно письмо Людмилы.
В нем она сообщала, что вышла замуж. За того парня, которого я однажды увидел, придя в ее общежитие. Еще она призналась, что во время оформления брака ждала, что я откуда-то вдруг нагряну и «попорчу весь уют».
Как это могло произойти, если я вообще ничего не знал о мероприятии? И как это могло взбрести в голову Люсе, всегда трезво мыслящей? Она знала меня и не должна была бы подозревать во мне склонности к таким абрекским (гусарским?) вспышкам.
Во мне клубились разнонаправленные эмоции. Неприятно сознаваться, но первым переживанием было оскорбленное чувство собственника. Ощущение потери. Нет, не потери – ограбления. Какое, по моим представлениям, должен был испытывать Михаил Хо-дорковский, когда понял, что у него отнимают «Юкос». Он, Михаил Борисович, намечтал фирму, основал, а главное, вложил в нее душу, ум незаурядого интел-лектуала. И все забирает неизвестно откуда взбухший чекистский прыщ с представлениями и манерами, будто позаимствованными у Сергея Сергеевича Скалозуба…
Именно в тот день и даже час мне открылось, что, оказывается, мы можем незаметно для себя что-то мучительно свое поместить в иного, и именно это свое в ином и будет тебе дороже всего.
Это же моя Люся! Оказывается, ощущение собст-венности – моя – не исчезало все это время, даже когда соседствовало с кружащим голову узнаванием красивой девушки Эвы. И вот оказалось: уже не моя. Я не чувствовал за собой вины. Любимые французские романы подсказывали утешительное экзистенциальное объяснение – так устроена жизнь.
Но нет, впрочем, меня посещало некое предположение… Наши отношения были платонические, не случилось, грубо говоря, «низменного» единения мужчины с женщиной. И я помнил, как еще в десятом классе наш, мой и Люсин, хороший приятель Эдик однажды, понизив голос, сказал: «Имей в виду, Люся уже развилась как женщина. Понял?» Эдик жил без родителей, со старшим братом, и, будучи не намного старше нас, имел гораздо больший жизненный опыт.
Я, конечно, понял, и тема эта не могла не волновать меня. Так сказать, глобально. Но конкретно, в отношении к предмету любви, я не считал ее первостепенной, предпочитая в этом положиться на волю обстоятельств. Образ действий средневекового рыцаря по отношению к прекрасной даме. Сейчас, с высоты (или «низины»?) лет, я склоняюсь к тому, что это оказалось благом. А в момент получения «рокового» письма испытал подобие именно вины – за что-то не так, как следовало, сделанное, за некое житейское неумение.
Сегодняшним молодым стоит пояснить. Ныне мужчина и женщина в общественном сознании абсолютно равноправны во всех вопросах сексуальной жизни. Тогда же, помимо того, что ее обстоятельства вне семьи были, прямо скажем, многосложны, бытовала неписаная норма: мужчина должен не только первенствовать в процессе, но и в его инициировании и, так сказать, организации.
Мне ясно, почему я в состоянии некоторой тупости выбросил Люсино письмо о замужестве. Оно мне казалось пронизанным мыслью о недочете у меня мужской доблести (не в пошлом понимании этих слов, но отчасти… и в нем). И это – почти на пороге сорокалетия! Ну, а в девятнадцать-то лет?..
Это надо было претерпеть, смириться и… жить дальше.
Продолжение истории снова будет пунктирным, то есть состоять из записок и писем Людмилы. И снова я надеюсь, что читательское воображение дорисует необходимую полноту реальности.
«Саша! Если ты еще можешь – приди, пожалуйста. Куда и когда – не знаю. Если ты сможешь, то сам сообщишь мне об этом. Я сейчас сдаю экзамены, так что всегда бываю дома. Я хочу сказать, что располагаю временем вечерами. Знаю, тебя вероятно занимает вопрос: «Зачем все это?» На него я и хочу тебе ответить при встрече. Саша, только в любом случае ответь мне. При возможности поскорее, т. к. в первых числах июня у меня будет практика, и по всей вероятности меня не будет в Свердловске в это время. Пока все.
Люся».
Мы встретились у оперного театра. Из неловкого разговора на лавочке близ памятника Якову Свердлову я уяснил одно: это было глупое замужество. Запомнилось свойственное ей ироническое выражение лица, с которым она определила свое новое состояние: «Дама!»
«Нахожусь в Свердловске с 15 числа, т. е. приехала в субботу, была целое воскресенье дома, а в понедельник намеревалась ехать снова в лес не практику. Но ситуация изменилась – меня оставили работать в Свердловске. Так что теперь охраняю свои хоромы совсем одна. В среду приедут все остальные обладатели сего храма. Думаю, писать мне не о чем, кроме того, что известная вам особа прибыла в свою резиденцию.
Л.К.».
Эту «памятную записку» я получил позднее упомянутой среды, поскольку не ждал вестей и не заходил на почтамт. Я ведь все же работал, но главное – каждый день ходил на спектакли гастролировавшего у нас Большого Драматического. Для меня это было Событие.
«Приехала я в Свердловск 13 сентября сего года. Приехала в 3 часа ночи, дрожала до 6 на вокзале. Потом съездила к одной знакомой девочке и т. п. Твое послание мне случайно вручили в техникуме, куда я забежала уже вечером. Искать тебя я уже не имела времени, т. к. поехала к родителям. Потом, пока я не особенно хотела с тобой встретиться. Не обижайся. Понимаешь, Саша, столько разных впечатлений от всего моего путешествия, и основное – почти все очень неприятные. Главное, я поняла то, что была тысячу раз права, уезжая к нему. Больше чем уверена, что если бы я не съездила, я бы всю жизнь жалела о разрыве с ним. Теперь меня волнует только то, как я все улажу более прилично.
В одном я убедилась окончательно – так, как сложились наши отношения при моем продолжительном визите, дальше продолжаться не могут. Не хочу распространяться, жаловаться и т. п., только скажу одно: когда я отъехала от станции, где он меня проводил, мне дышать стало значительно легче.
Вот от всего этого я и хотела отделаться одна, ни с кем не разделять всего, что было на душе, ну а тебя тем более пока мне не хотелось видеть. Это еще и потому, что ты-то ведь с определенной целью хочешь меня видеть. Поверь, Саша, я больше НЕ ХОЧУ так жестоко наказывать себя, ошибаясь в самом драгоценном – чувствах близкого человека.
Правда, я была вынуждена кое-что рассказать директору техникума, т. к. он заметил по моему виду, что у нас что-то неладно. Из его разговора я поняла, что бросать техникум мне нельзя, а значит, в таком случае с концом, о котором мы говорили с тобой, ничего не получится. Я не знаю, какие придумать веские доказательства, чтобы бросить техникум. В-ий наверное месяца через полтора приедет тоже окончательно в Свердловск. А если он еще увидит меня, мне ни за что не решиться на развязку.
Сейчас приеду домой, немного подготовлю родителей, и тогда дам знать тебе. А ты пиши свои соображения, только побыстрее. Если куда-то уезжать, то нужно до 28 сентября, т. к. у нас с этого числа начнутся занятия. А мне хочется распутать всю кашу до того момента, пока приедут девчонки. И еще загвоздка – ни о каком разводе он и слышать не хочет, и не даст мне его в любом случае. А это опять-таки против меня. Без этого я не смогу ни за что согласиться на твое предложение. Ты сам понимаешь, почему.
Ну все. Ой, заварила же кашу!! Что делать – не знаю!»
«Почему не пришла – ты уже знаешь. В тот же вечер приехал В-ий. Что я решила? Остаюсь в Свердловске до окончания. Сама спокойна, в чем – ты знаешь. Если ты не помешаешь, надеюсь, все будет хорошо до конца. Ты поезжай, чем скорее, тем лучше. (Речь о моем переезде в Челябинск, где меня ждала новая работа в газете «Комсомолец».)
Напиши, когда поедешь, приду провожать.
К октябрьским приеду.
Пиши на почтамт. Только не приходи. Счастливого пути. Пока».
«Почему я молчала? Не имела возможности написать, а позвонить, честное слово, не догадалась. Мне из общежития звонить не хочется, а на почтамт я не могла пойти.
Был ли у меня серьезный разговор? И да и нет. Его неожиданный приезд был вызван моим посланием. Безусловно, в тот же вечер, когда я звонила тебе а придя домой через час или два встретилась с В-ем, у меня решения оставались прежние. Мысль, которую я высказала ему, была та же, что и в моем письме. Но сколько я ни пыталась втолковать ему, что я с ним не буду больше вместе, он так и не понял этого, вернее, не хотел слышать об этом. Естественно, он говорил, что все понял и т. д. Ну, а ты ведь знаешь, сердце женщин – оно слишком мягкое. Я до сих пор продолжаю втолковывать ему все ту же мою идею, но он надеется, что я передумаю.
Но главное я не сказала – это о тебе. При одном упоминании о тебе он не может оставаться прежним, моментально изменяется весь… В общем я сейчас не знаю, как мне с ним держаться, говорить или нет ему о тебе. Думаю, не стоит. Я решила так: постараюсь донести до его сознания то, что нам с ним вместе больше нельзя быть, а там его уже не будет касаться, с кем я буду, правда?
Буду кончать свою академию, а когда кончу, приеду в Челябинск, где ты уже уйдешь с головой в свою работу. Осталось четыре месяца до моего окончания. Не так уж много.
Может, еще черкнешь на почтамт. Я приду за письмом.
Пока».
«Здравствуй, Саша!
Получила твои «ругательства»… Большое спасибо. Я ожидала большего (в смысле ругани за мое молчание). На твоем месте я бы, вероятнее всего, натворила, как всегда, каких-нибудь глупостей, т. к. на своем я уже их натворила довольно много. В общем, я не обижаюсь ничуть и даже принимаю их со склоненной головой.
…Саша! Я сама ничего не пойму! Одно поняла – запуталась окончательно и притом запутала несколько человек вдобавок. А как распутать узел – не знаю. Посторонняя помощь вряд ли поможет, правда? Ведь как говорится: что посеешь, то и пожнешь. Так вот посеять-то я посеяла, а какой урожай буду пожинать?..
Я знаю, Саша, это жестоко с моей стороны не писать так долго. Хоть тебя и возмутило то, что я не знала, о чем писать, но это действительно так. Видишь ли, мне очень приятно, что ты мне верил, да верил, но, кажется, верил очень слабому человеку. Ты ждал, а этот слабый человечек «думал» очень долго и очень много. А что он придумал? Ничего, как ты и понял из молчания.
Очень больно хлестнула фраза: «Если какой-то расчет, то не слишком ли его много и не слишком ли он холоден и жесток?» Сашка! Ну, зачем ты так? Неужели ты так обо мне все-таки думаешь? Это обиднее всего. Но с истиной спорить нельзя. Тебе лучше знать, что я из себя представляю.
Не скрою, что натура моя непонятная. Обо мне можно сказать: себе на уме девица. Не спорю. Вот даже и моя бесчеловечность, жестокость – черт знает, отчего это. Но верь, пожалуйста, что я хочу быть человеком во всем. И если это у меня не получается – в этом я не очень повинна. Почему? Потому что я об этом думаю, анализирую свои поступки и действия, но вот… не получается.
О своей глупости написал зря. А вообще не знаю, смотря что ты под этим подразумевал. Но кто-то из нас, вероятно, заслуживает это «звание» в некоторых случаях.
Отвечаю, Саша, не потому, что хочу убедить тебя в том, что во мне осталось из того, что ты раньше во мне видел и любил. Отвечаю потому, что нахожу это нужным.
Люся.
Неужели все-таки из-за расчета я не хочу терять тебя? Но в чем, интересно, он заключается, этот расчет? Напиши. Ты как-то делал попытку объяснить мне это».
Никаких попыток я больше не делал. Потому что за считанные дни до получения этого письма наступило ДРУГОЕ. Другой город – Челябинск. Другая судьба, другая любовь. Другая женщина – которая и есть судьба.
Бывают фильмы, снятые в двух режимах – черно-белом и цветном, сменяющих друг друга. В одних случаях режиссер плавно, незаметно переходит от ч/б к краскам, в других же, напротив, добивается внезапной слепящей колористики – впору зажмуриться. Самый высокочувствительный «кодак», вероятно, применили в ленте моих дней, дабы ошеломить контрастом между ч/б (что было) и явившимся цветом – до умопомрачения иным, открывавшим новую, неведомую будущность. От нее захватывало дух. У этой будущности было имя – Галина.
Я и представить не мог, что такое возможно: поменялось вмиг все, как декорации в уникальном чешском театре «Laterna magica», возникшем как раз в ту пору. Вот, оказывается, что бывает за словами «перемена судьбы». И ничто уже не могло отмотать ленту назад. Эту необратимость я остро почувствовал, получив еще одно письмо – через четыре месяца после только что приведенного здесь.
«Вот я и снова пишу. Чувствую эту потребность давно, но никак не могу решиться, главное, не знаю что писать. Сейчас мне ничего бы не хотелось ни писать, ни говорить, но как страшно хотелось бы просто увидеть тебя, побыть рядом! Только. Все остальное… не стоит.
Плохо мне, Саша! И опять свои стоны к тебе обращаю.
Сашка, милый, ну что мне делать? Ты же меня преследуешь и днем, и ночью. В дни моей двухмесячной болезни я уже опасалась за свой рассудок – все ты и ты перед глазами. Ну почему так? Не могу я тебя забыть, и все тут.
Я тебе очень признательна, что ты остался все таким же хорошим. То, что ты разрешил мне писать тебе – превзошло мои ожидания. До этого у меня много раз менялись мнения и о тебе, и о себе и обо всем случившемся.
Почему не писала раньше? Написала бы подобное, а такое тебе неприятно получать. Но сейчас кульминационная точка, поэтому написала.
Саша, поздравляю с весной, праздником, желаю всего доброго в твоей жизни! Тебе я всегда этого желала и желаю, но так уж получается, что не могу это по-человечески сделать.
Не знаю, где ты и что с тобой, но надеюсь, что находишься еще в Челябинске.
Л.К.».
Если бы это был конец книги, я мог бы в качестве эпилога еще раз прибегнуть к самоцитированию.
«Время от времени, и даже после четырех десятков лет совместной жизни, Галина пыталась завязать со мной разговор на такую тему.
– А ведь я тогда узнала, что ты, когда пришел в редакцию, сказал, что к тебе приедет жена…
– Так, предупреждал на всякий случай. Не приехала же.
– Представляю себе…
Я отвечал жене, что вся эта материя покрылась ржавчиной по давности лет и я не хочу тратить на нее драгоценное время нашего общения…» («Шелопут и Королева»).
За всю историю этого общения Гале удалось выудить из меня ровно одно слово, относившееся к изложенному здесь сюжету, а именно – имя Люся. Но даже оно, вымышленное, послужило благодатным материалом для творческой фантазии сочинительницы.
«Лю-у-ся! Люсенька» – и некий мужчина в три прыжка преодолел разделяющий две бетонные дорожки газон.
…Людмила смотрела на него так, будто через газон к ней прыгал какой-нибудь Квазимодо».
«Скоро двадцать лет минет, как они прятались в подъездах. Чего только не было после: и этот сумасшедший летчик, который привозил ей коробки конфет из всех городов Советского Союза. И их скоропалительная свадьба. И какая она была тощая и измученная, когда ждала мужа из полетов. И как она его выгнала, имея пятимесячную дочь, когда узнала о многочисленных перелетных романах. И у него, у Кости, тогда был пятимесячный сын, но он побежал к ней, потому что вдруг отчаянно на что-то понадеялся. Целую неделю он надеялся, одновременно аккуратно выполняя все отцовские и мужние обязанности: ходил в молочную кухню, искал Вере необходимый для кормления лифчик с пуговицами впереди, носил в мастерскую обувь и покупал детский манеж. Он потому так это хорошо запомнил, что жил какой-то нелепой, противоестественной надеждой на то, что Людмила его примет, что он ей будет все-таки нужен». («Вам и не снилось»).
Не раз и не два в сюжетах ее сочинений использовался мотив не имевшей счастливого продолжения юношеской любви. Есть даже два разных рассказа, в основе которых одна и та же коллизия: овдовевший мужчина делает попытку найти новое счастье с женщиной, бывшей, еще в девчонках, объектом его увлечения. Я диву давался: великая умница, она ревновала меня, можно сказать, к фантому и, я ощущал, даже обижалась за то, что какие-то чувства я легкомысленно успел растратить на кого-то «чужого». И только врожденное благоразумие удерживало ее от того, чтобы выставить пожизненный моральный счет за эту растрату и превышение «служебных полномочий». Это была одна из немногих ситуаций, где ей отказывал юмор.
Две предыдущие фразы пробудили в памяти незабываемую сценку. Она связана с моей «кризисной» романической историей.
Помня о патологической ревнючести Галины, я все признаки знакомств с «посторонними» женщинами, пусть и самых невинных, хоронил в недосягаемо глубоком подполье. То, что однажды произошло между нами, – уникальное отступление от моих незыблемых канонов, можно сказать, от самого себя. Как это объяснить?
Видимо, в моей влюбленности в красивую девушку-машинистку (хотя там, выражаясь языком школьных работников, «ничего такого не было»; а, впрочем, может быть, как раз поэтому) на самом деле заключался риск взрыва, как при перевозке нитроглицерина. И «плата за страх», возникший задним числом, взымалась неопределенным, туманным чувством вины. За что? Наверно, за чуть было не случившееся…
Было так. В кинотеатре «Космос» Илья Фрэз устраивал премьерный показ своего очередного фильма по сценарию Галины. Не помню точно, то ли «Карантина», то ли «Личного дела судьи Ивановой». После сеанса, как принято, приглашенные собрались в кабинете директора на фуршет. Он оказался продолжительным, горячительных напитков было с избытком, так что домой я пришел в хорошем подпитии и почему-то в возбужденном состоянии. Чтобы гарантированно успокоиться и как следует выспаться, я стащил из Галиной аптечки таблетки седуксена, принял их и стал ожидать наступления блаженного покоя.
Но почему-то вместо него из глаз окончательно улетучились намеки сна, зато голова каменно отяжелела, и в этом состоянии я принялся рассказывать Галине про то, что наш с нею союз прошел полосу, чреватую Бог знает чем, но… все хорошо, что хорошо кончается, и т. д., и т. п.
Галя не слышала, не хотела слышать про «все хорошо», она, сидя на кровати, раскачивалась из стороны в сторону и причитала: это же надо, до чего она дожила; она должна была все предвидеть и разбить горшок к чертовой матери, а теперь дошла до этого позора; как она могла такое допустить; а ведь все знала, знала наперед, и какая она дура, что связалась с мальчишкой моложе нее; что она теперь скажет детям…
Так было до утра. Я свой дурацкий образ действий в ту ночь долгое время относил на счет неудачного совмещения седуксена с алкоголем. Ибо в листовке к препарату, с которой ознакомился после, вычитал среди противопоказаний следующее: острая алкогольная интоксикация с ослаблением жизненно важных функций. Когда человеку отказывает ум, разве это не чудовищное ослабление жизненно важной функции? К тому же, если оно сопровождается такими «парадоксальными», как они поименованы в инструкции, реакциями: психомоторное возбуждение, спутанность сознания, тревожность, бессонница… Все это я испытал той ночью.



