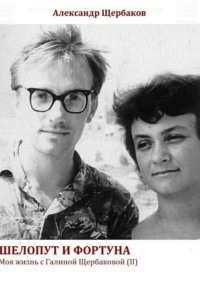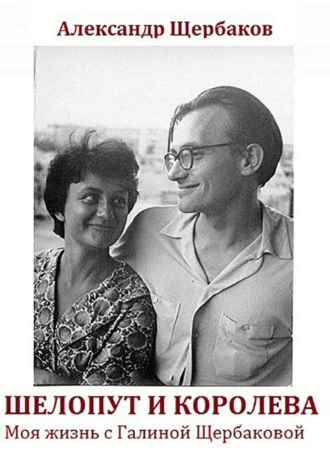 полная версия
полная версияШелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой
Есть много примеров, когда простые люди, столкнувшиеся со стечением неблагоприятных обстоятельств и отчаявшиеся найти в российском (советском) антигуманном государстве хоть какой-то отклик, обращаются к известным журналистам, – не чтоб написали, а чтобы помогли. И знаете, помогают. И очень часто – не пишут.
А среди неофициальной профессиональной корпорации коллег есть (по крайней мере, до недавнего времени было) неафишируемое, никем не объявленное содружество взаимопомощи. Как минимум, тебя с любой кручиной внимательно, можно сказать, профессионально выслушают. В суровые времена – и то хлеб.
…Однажды с сослуживцем по «Комсомолке» мы из «комсомольской деревни» (так в обиходе называли несколько жилых домов, построенных хозуправлением ЦК ВЛКСМ по Второй Новоостанкинской улице) ехали на работу в троллейбусе номер 13.
– Сашка, – вдруг сказал он, – беда у меня с моим Витькой. Врачи определили у него шизофрению. Что делать?
Понятно, об этой напасти мы молча думали всю дорогу. А под конец ее вспомнили, что у нашей коллеги Елены муж – известный психиатр. И, прибыв на наш шестой этаж, сразу пошли к ней. Она бросила все, начала по телефонам лечебницы разыскивать своего именитого супруга. И облегченно вздохнула только тогда, когда тот назначил время и место встречи с новым пациентом. Нет необходимости описывать эту историю дальше, скажу только: видели бы вы этого Витьку сейчас – образец успешного, одаренного, умного русского мужика.
Да, чуть на забыл. Был еще один ее эпилог, я бы сказал, трагикомический. Много лет мы не общались с витькиным отцом. И вдруг – звонок.
– Сашка, знаешь, меня скоро не будет. И я очень прошу тебя: возьми шефство над моим Витькой.
– Дорогой, ты в своем уме? Твой Витька достиг положения, что может взять шефство над десятком таких, как я.
– Ну, Сашка, ты ведь знаешь, какой он баламут. Мне будет спокойнее, если буду знать, что ты за ним приглядываешь.
Я пообещал. И иногда за ним приглядываю – когда его показывают по телевизору.
…Прожив уже четверть века в Москве, через тринадцать лет после опубликования прославившей ее повести «Вам и не снилось» в одном телевизионном интервью Галина сказала:
– Переехать в Москву не в молодые годы, а в достаточно взрослые – это все равно как сейчас переехать в Америку, в Израиль, во Францию. Потому что Москва – это совершенно другое государство в России. Когда я сюда переезжала, я об этом не подозревала, я очень рвалась, как всегда рвется интеллигент из провинции в Москву, и верила, что когда приеду в Москву, начнется новая жизнь. А началась мука, началось страдание, которое в глубине души и осталось.
В какой-то степени это страдание, его видимая часть, поначалу было связано с устройством на работу. До того времени она была редактором волгоградской областной молодежной газеты, и сектор печати ЦК ВЛКСМ хотел ее оставить в сфере своего внимания. Тамошние ребята с прямотой римлянина сказали Галине: начальству не нравится заместитель редактора «Московского комсомольца», чтобы занять это место, ей надо сначала прийти в редакцию в качестве завотделом. Галя отказалась – по причине не понравившейся ей конечной цели «операции». Тогда ей предложили должность главного редактора журнала «Воспитание школьников». Перед назначением нужно было встретиться с заместителем министра просвещения. От этой встречи Галина была в глубоком потрясении.
– Санечка, – растерянно рассказывала она, – я и представить не могла, что на свете существуют такие заскорузлые люди. Я даже не знаю, о чем с такими можно говорить.
Потерпев фиаско с устройством на работу «своего кадра», ЦК комсомола каким-то образом сплавил его сектору печати ЦК КПСС. Там быстренько его, кадр, сосватали редакции женского журнала (на сей раз Гале более деликатно намекнули: издание ждут кадровые перемены).
Новенькая проработала там один день.
Ей с ее провинциальными манерами показалось удивительным многое. То, что сотрудницы приходят к полудню и тут же заводят коллективное чаепитие. Через час после него сговариваются, кто с кем и куда пойдет на обед. Не очень-то Галину вдохновили и пересуды столичных дам. И вообще все…
– Мне повезло, – рассказывала она, – секретарша еще никому не передала мою трудовую книжку, я ее потихоньку стянула со стола, и больше туда не пойду.
Одно она забыла в редакции – свои офисные туфли, мне пришлось их выручать и рассказывать ее несостоявшимся сослуживцам о своей жене что-то не слишком правдоподобное.
Борис Панкин, главный редактор «Комсомолки», однажды спросил меня, чисто дежурно: как дела? Я точно так же ответил: нормально. И еще добавил «как бы в стиле юмора» (можно сказать, положение обязывало: я ведь, кроме прочего, был посажен в газете и на фельетоны, и на раздел «Улыбка») кое-что о московских приключениях Галины. И как же был удивлен, когда на другой день Панкин вызвал меня и сказал:
– Пусть твоя Галина идет к моей Валентине. Думаю, там ей будет хорошо.
Валентина Панкина была членом редколлегии «Литературной газеты», руководила отделом изящной словесности братских республик. Она была очень независима, «не боявшаяся спорить с начальством и смело отстаивать свою точку зрения. «А чего мне бояться? – не раз говорила она. – В случае чего, Борис меня прокормит» (Григорий Кипнис, бывший собкор «ЛГ» по Украине).
И вот оно передо мной, литгазетовское удостоверение Галины, подписанное Виталием Сырокомским. Одно могу сказать: эта поддержка Панкина была для меня очень своевременна.
…После написания предыдущей фразы мне вдруг открылось: тема житейской журналистской взаимовыручки настолько обширна, что… Из памяти посыпались разнообразные случаи моей (только моей!) биографии.
Вот обстоятельства появления на свет нашего первого внука. Его родители, молодые медики, слишком много чего знают из учебников и обнаруживают уйму признаков риска в предстоящем важнейшем для семьи событии. Что делать, куда бежать? Без вариантов – в журнал «Здоровье», к главному редактору Марии Дмитриевне Пирадовой, очень известной тогда личности. Я вперся в ее кабинет прямо во время какого-то редакционного совещания. Выслушав меня, Пирадова обратилась к высокому собранию:
– Ну, куда будем адресоваться?
– К Чернухе, наверно.
– Да, да, только к Чернухе! – поддержали и другие.
Пирадова покопалась в большой кипе справочников, нашла нужный номер…
– Евгений Алексеевич? Пирадова говорит. Надеюсь у вас, как всегда, все в порядке?.. Надо бы у еще одной хорошей девочки роды принять.
Затем, видимо, отвечая на вопрос собеседника, она назвала с десяток каких-то медицинских терминов, а под конец добавила:
– Она сама будущий врач, и муж ее тоже наш коллега.
И, как положено, разговор завершился припоминанием общих знакомых и просьб передать, кому нужно, приветы.
Профессор Чернуха – один из лучших специалистов ведения родов у женщин высокого риска.
…Когда в здоровье нашей дочери возникла проблема неврологического свойства, я, как это не покажется странным, в первую очередь обратился к знаменитому репортеру и очеркисту Геннадию Бочарову. Прославившийся рассказами о чрезвычайных событиях и поведении людей в экстремальных ситуациях, он всегда притягивает к себе как магнитом самых различных специалистов самой высокой квалификации. Только я назвал свою проблему, как он сходу предложил:
– Так пусть Федин займется Катей (Гек, как все зовут его в Москве, знал мою дочь: она брала у него интервью для «Московского комсомольца»).
– А это кто?
– Ну, началось: слоны идут на водопой (в то время у него была такая присказка – от журналистской баечки про нелепые заголовки. – А.Щ.)… Главный невропатолог Москвы. Годится?.. Тогда я ему звоню…
…И снова невропатолог. На сей раз – детский. К недавно родившейся внучке (она вместе с ее мамой жила у нас, отец был на инженерной стажировке в Японии) пригласили опытного, можно сказать, матерого педиатра. Та осмотрела, прослушала, прощупала, простукала девчонку, сказала, что все очень хорошо, но… на всякий случай не плохо было бы показать ее и педиатру-невропатологу.
Конечно, в редакции «Журналиста», где я работал, все, особенно женщины, многое знали о наших радостях и тревогах, связанных с появлением малыша. И когда я было собрался идти со своей новой задачей к бывшей коллеге по «Комсомолке», ставшей главным редактором популярного издания, ко мне зашла Ираида Авалиани, наш технический редактор. Она рассказала, что у маленького сына ее знакомой обнаружился некий мозговой недуг, и с ним не удавалось справиться, пока не нашли удивительного врача, который подобрал ключ к излечению.
– Я вам дам телефон мамы этого мальчика, и вы сами все выясните.
Так мы узнали замечательного Виталия Григорьевича, не просто талантливого невропатолога, а детского врача от бога. Помню такую нашу общую радость. Девчонка наша, еще ползунок, шустро передвигается по дому. Доктор цепко следит за ней, окликает ее, смотрит, как она разбрасывает игрушки. И весело улыбается:
– Ну, что, больше меня можете не звать.
– А вы не видите, что она сначала подползает вперед, а потом подтягивает ножку? – тревожно спрашивает Галина.
– Ну, и что? – смеется Виталий Григорьевич. – Пусть, раз ей так удобнее.
В память врезалось его участие в драматической истории, случившейся, когда маленькой было всего четыре месяца. Они с мамой уже жили в своей квартире. И случилось злоключение. Малышка с весов, стоявших на столе (ее как раз поутру взвешивали), упала на пол. Она была в том возрасте, когда младенцы имеют свойство время от времени подпрыгивать, как мячики.
О происшествии мне сообщила с телефона-автомата девушка, которая делала в квартире Климовых уборку. Я спросил, вызвали ли врача. «Вроде, нет». Я позвонил в неотложку детской поликлиники, написал записку Гале (она была, кажется, в издательстве) – с малопонятным текстом. И побежал ловить «левака».
Я приехал раньше неотложки. Ребенок лежал спокойно на родительской кровати. Рядом с безумными глазами сидела Катя, раскачивалась из стороны в сторону и без конца повторяла: «Я убила ее! Я убила ее!»
Пришла старенькая докторица из неотложки с добрым озабоченным лицом. Первым делом осторожно приподняла головку попрыгуньи, погладила шейку и затем с видимым облегчением не спеша стала осматривать и прослушивать ее.
– Ничего трагического я не нахожу, – наконец сказала она. – Но надо, чтобы еще посмотрели в больнице, сделали рентген.
Мы схватили такси, и началось наше странствование по лечебницам. В одной не работал рентген. В другой не могли заниматься таким маленьким ребенком. Третья была наполовину в ремонте. Четвертая не была предназначена ни для каких экстренных случаев. Нас хмуро согласились принять лишь в Морозовской больнице. У кабинета, куда нас направили, была безбожно безнадежная очередь. Умаянные дети, их ошалелые родители. Изредка появляющийся из кабинета молодой, далеко не Айболит, а злой-презлой работник здравоохранения.
Когда мы, уже вечером, попали к нему, он, почти не глядя на виновницу нашего переполоха, заявил, что ее нужно оставить в больнице. На все наши просьбы просто посмотреть ее на рентгене и с миром отпустить у него был один не слишком медицинский, прямо-таки обывательский ответ: а если она сегодня умрет?
И я в ответ на это подался, можно прямо сказать – струхнул. Согласился оставить нашу малышку. Может быть, никогда у меня в жизни не было так тяжело на сердце. Но я понимал, что Катьке еще тяжелее, и, конечно, поехал к ней. В доме как будто бы осиротевшем без главного жильца уже был ее муж, возвратившийся с работы.
Мы вместе вышли к телефону-автомату, стоявшему у них во дворе, и наконец дозвонились до Виталия Григорьевича. В течение дня по ходу дела мы с разных таксофонов пытались сделать это, но не смогли поймать его ни по одному номеру клиники, где он работал. Наш доктор все выслушал и сказал, что самое плохое в этой истории то, что мы оставили ребенка в больнице.
Уже втроем – мы снова в такси, опять мчимся на Добрынинку, стучим в уже запертый на ночь кирпичный корпус. Вестибюль едва освещен дежурным светом, внутри была бы абсолютная тишина, если бы не одинокий надрывный плач младенца. Мы просим отдать нам нашего ребенка, показываем паспорта родителей, а нам говорят, что так не положено. Однако нас, вдохновленных словами нашего доктора Виталия Григорьевича, уже ничто не может поколебать. Мы готовы сами пойти в палату и отвоевать по праву принадлежащее нам.
Все переговоры, процедура подписания родителями соответствующей бумаги сопровождались все тем же криком неспящего малыша. Когда нам, наконец, вынесли нашу драгоценность, мы поняли, что именно она была горластым бунтарем, она страдала от страха перед незнакомыми людьми или от обиды, что ее предали свои. Она увидела нас и в ту же секунду замолчала, а в следующую ее мордаха расплылась в неповторимо смешной улыбке.
Мы ехали домой все той же дорогой, но с прямо противоположным чувством, чем какие-то полтора часа назад. Не просто с легкой душой, а с ощущением, что мы спасли человека.
И это ощущение, это приближение к дому, удаление от чего-то опасного, угрожающего вдруг живо напомнило похожее движение, тоже связанное с ребячьей невзгодой, но – с дочерней.
Ей было четыре года, и она ходила в так называемый цековский детский сад по улице Кондратюка. У садика была летняя дача «Елочка» поблизости от города Звенигорода. Закончив «первый курс» своего садиковского образования, наша дочь в организованном порядке должна была поехать туда. Из-за этого и у меня, и у Гали душа была не на месте. Казалось бы, опытные родители: Сашка аналогичным образом уезжал с детским учреждением из Ростова аж в абхазский Гантиади. Впрочем, мы и тогда брали одновременный отпуск и проводили его там же, рядышком с летней дислокацией ростовского садика. Потому что как-то боязно отпускать столь маленького человека с чужими, по сути, людьми.
На этот раз на нас влияла успокаивающе именно дочка. Она была, казалось, счастлива от чего-то ожидаемого, неизвестного, но интересного. В день отъезда возле автобуса, на котором они должны были ехать, она выкаблучивалась перед своими одногруппниками, пританцовывала и выводила на разные лады какую-то дразнилку, состоявшую из одной фразы: «А у меня в подъезде вышка живет! А у меня в подъезде вышка живет!» Вышкой она называла Останкинскую телебашню, та была действительно недалеко от дома, дочь считала ее нашей принадлежностью, порой включала ее в свои игры и в таких случаях нередко вступала в диалог с ней. Иногда мне не удавалось избежать всеобщей игровой мобилизации и приходилось утробным басом «озвучивать» речь Вышки, чаще всего неумную – так полагалось по предписанному сценарию.
Все сели в автобус, и дочь весело в окне махала нам ручкой. Галя как бы даже немного обиделась:
– Гляди, как весело от нас уезжает.
Я было хотел сказать: «Вот и хорошо, что без страданий», но тут автобус тронулся, и в последние секунды я заметил, как внезапно изменилось лицо девчонки, как на нем отразилось что-то вроде страха или, скорее, недоумения. Я ничего об этом не сказал Галине. Возможно, она это тоже заметила. Во всяком случае мы в ближайший выходной день поехали в Звенигород, нашли эту «Елочку».
Она была обнесена высоким глухим забором из покрашенных зеленью досок. Зайти за него родителям было строжайше запрещено – об этом было объявлено задолго до дачного сезона. Нам удалось найти доску с маленьким отверстием от выпавшего сучка. И надо же: приникнув к нему, я сразу вдалеке, возле большого дачного дома увидел свое маленькое чадо. Было непонятно, чем занимались дети. Вот вдруг они стали звать какого-то Алешу. И наша девочка, приставив к щеке ладонь, тоже стала кричать: «Алеша! Алеша!» Но все, что она ни делала, было какими-то автоматическими, замедленными действиями, производимыми вроде с неким отставанием, будто, выполняя их, она думает о чем-то другом.
Мы возвращались в Москву в каком-то похожем состоянии. Был подсознательный порыв – забрать дочь из «Елочки», но останавливали, казалось, разумные соображения: пообвыкнется – и сама будет довольна; разве наша – не сможет, как другие дети? А вдруг вся проблема – в нашей собственной мнительности?..
В понедельник, придя пораньше на службу, я сразу стал звонить в «Елочку». К тому времени на нашем шестом этаже с легкой руки работавшей в моем отделе Али Грамоткиной я прослыл как «папа Кати Щербаковой». Дома у нас не было телефона, и все дела с обустройством семьи в Москве я «утрясал» со служебного. И как-то получалось, что всего больше звонить приходилось по поводу дочки: детский сад, поликлиника, лечение зубов, согласования по всем таким поводам с финхозсектором ЦК комсомола и завредакцией Николаем Васильевичем Зайцевым и т. д. Чаще всего при повторных звонках кому-нибудь я так и представлялся: «С вами говорит папа Кати Щербаковой». А Аля, наша подруга еще с Ростова, разнесла это, как забавную информацию, по конторе.
Вот и в тот раз я отрекомендовался детсадовской сотруднице как «папа Кати». Мне ответили, что с Катей все в порядке, вот только сегодня у нее оказалась немного повышенная температурка и ее перевели в изолятор, но не надо волноваться, завтра-послезавтра все будет замечательно. Я тут же пошел к секретарю главной редакции Любови Даниловне Антроповой, сказал, что мне немедленно нужна машина на полдня, и через двадцать минут уже катил по Минскому шоссе.
– Когда вы нам вернете ребенка? – спросили меня в «Елочке».
– Скорее всего, через неделю, – ответил я, точно зная, что – никогда.
К осени мы перевели дочь в другой садик. В первую очередь потому, что он был рядом с домом. Ну, и отчасти, что у него на лето не было «Елочки». Больше Катя не была ни на одной общественной даче, ни в одном лагере, ни в пионерском, ни в каком другом.
Вот о чем мне напомнила обратная дорога из Морозовской больницы. Было такое же ощущение избавления маленького человека от какой-то неясной, но… несомненной угрозы. На этот раз нам помог ее отвести Виталий Григорьевич. Он и по сей день есть в заветной записной книжечке у ближних мне чад и домочадцев. А я всегда благодарен за это моей милой сослуживице Ираиде Авалиани. Как часто мы на фото, открытках, каких-нибудь подарках надписываем: на долгую память… и т. д. На самом деле она нередко получается совсем недолгой. Но вот такая человеческая услуга остается в душе навсегда, пока ты жив.
Волшебно написал Давид Самойлов:
Шумит, не умолкая, память-дождь,
И память-снег летит и пасть не может.
Этот снег не должен пасть, чтобы не превратиться просто в скрипучий наст. Пока он парит, сквозь него, например, проступают лица коллег-журналисток «Работницы» 1977 года. Тогда Гале понадобилась срочная операция, и они вывели нас на самого лучшего в Москве и Московской области хирурга нужного профиля. Александр Васильевич Зубеев работал в то время в Щелковской районной больнице. Он как профессионал все сделал на наивысшем уровне, а как исключительно занятная личность расширил рамки нашего понятия о русской натуре.
Или вот вдруг в памяти-снеге, пока он живой и пасть не может, прорисовывается еще одна история. Сестра Галины вышла на пенсию, и выяснилось, что ее, пенсию, почему-то существенно занижают. Причастные к инциденту бюрократы этого не оспаривали, но и ничего не делали для восстановления справедливости. Не делали месяц, полгода, год… Об этом узнал Владимир Владимирович Шахиджанян, психолог, педагог и т. д. И не только известный журналист, но и преподаватель дисциплины «Технология журналистского мастерства». Ну, так вот, с помощью данной технологии он решил эту неподъемную проблему за один день. Посадил в свою машину Галю и ее сестру и привез прямо к тому начальнику в городе Болшево, к которому уже не раз приходила эта самая сестра.
Технология сработала.
Можно диву даваться устройству нашей жизни: сколь свинцово непосильны обыкновенному человеку едва ли не любые житейские затруднения, если он доверится предписанному гражданам казенному порядку, и как они могут быть пухово легкими для обитателя, полагающегося не на провозглашаемые государственно-вертикальные гарантии, а на дружески-горизонтальные взаимосвязи.
Одному нашему близкому человеку, решившему уехать на ПМЖ, отказали в выдаче выездной визы. Более того, сказали, что он ее не получит еще по крайней мере шесть лет. Почему? «Не волнуйтесь, найдем, почему».
Помните мое правило решать вопросы с главным по иерархии? Я стал искать среди коллег выход на министра иностранных дел. Нашел только – на заместителя министра. Но зато! Коллега, исключительно милый человек, был школьным приятелем этого зама. Он прямо при мне и позвонил ему. «Дима! Тут такое дело…»
Через неделю была получена долгожданная виза.
Вот я почти и подхожу к рассказу о парадоксально возникшем моменте рождения во мне нового чувства. Ощущения душевной близости к выросшему сыну, уже совсем не похожему на милого (впрочем, бывало, и противного) мальчугана.
Он уже был врачом, успешно работал и решил поступить в аспирантуру. Вдруг почему-то ему отказали в праве участвовать в конкурсе на поступление, не помню, к чему придрались – то ли к сроку подачи документов, то ли еще к чему. Кто должен был восстанавливать справедливость? Конечно, батюшка.
Естественно, я стал искать коллег, имеющих выход на министра здравоохранения. И нашел – но опять не министра, а его зама. Но зато нашел быстро – через коллегу в своей же редакции. А время в этом случае играло большую роль.
«Журналист» выработал во мне привычку, читая газеты и журналы, собирать вырезки по темам, почему-либо интересующим меня. Часто без всяких целей – вдруг пригодится. И вот по этому случаю заглянул в большой конверт с публикациями о сохранении здоровья. Там оказалась россыпь аспектов проблемы. Их было слишком много для телефонного разговора. И для его продолжения заместитель министра пригласил меня прийти к нему.
На сей раз я с самого начала раскрыл карты: рассказал о несправедливости, проявленной по отношению к моему сыну, и попросил помочь. Собеседник взглянул на настольный календарь:
– Боюсь, сроки прошли. Ну, ладно, там у меня знакомый ректор, спрошу у него.
Затем два часа мы говорили на темы здоровья и об их освещении в прессе. Как обычно в таких случаях, я пообещал ему, доктору меднаук, кандидату философии, заслуженному врачу РСФСР, через два дня прислать предварительный текст его статьи.
Уже нынче, почти через тридцать лет, я раскопал эту статью под названием «Здраво о здоровье» и с удивлением подумал: ее и сейчас можно опубликовать, было бы и интересно, и полезно.
Но рассказ о другом. О том, как поутру Саша пришел к нам принять душ, как он всегда делал после суточного дежурства в инфекционной больнице на Соколиной горе, чтобы не дай бог не притащить в свой дом какую-нибудь заразу: там был младенец, наш первый внук. Я уходил на работу, когда он, справившись, не забыл ли я про его просьбу, сказал с недоброй усмешкой:
– Ну-ну, посмотрим, какой у тебя журналистский авторитет.
Я в спешке только махнул на него рукой. И вспомнил эту фразу через сутки, когда на следующее утро взял в руки гантели. Без гантелей в этой истории не обойтись. Однако они ни в коей мере не свидетельствуют ни о какой моей спортивной сущности. Совсем наоборот. Физкультура была моим самым нелюбимым, после черчения, предметом и в школе, и в университете.
В 32 года у меня прихватило спину. Да так, что даже в постели не повернуться. Кое-как на такси доехал до поликлиники. Сжав зубы, взобрался на стол для рентгена. Пока – долго! – проявляли пленку, в голове клубились страшные мысли. Наконец, помахивая гибкими черными листами с изображениями моего костяка, появилась врачиха и весело объявила:
– Грыжа Шморля!
– И что же делать?
– А ничего, ждать, когда следующая появится. И впредь не поднимать более двух килограммов.
Галю тогда устрашило всего больше само название «грыжа Шморля», а меня предупреждение насчет двух килограммов. Как только прошел приступ, я тут же купил гантели. И надо же – угадал! Как многократно выражались авторы очерков из моего тематического конверта, «болезнь отступила». Конечно, в отличие от их героев я не полюбил физкультуру как родную, но от гантелей как от счастливо найденной панацеи боялся отказаться, принимал возню с ними как медицинскую необходимость.
Так вот, в тот день в руках у меня были гантели, а в голову абсолютно по-новому влетела вчерашняя фраза: «Посмотрим, какой у тебя журналистский авторитет». Вдруг все мое существо захватила волна такой всепоглощающей обиды… Во-первых, мне в голову не приходило как-то связывать семейные заботы с бесчувственным понятием «авторитет», хотелось верить, все идет от любви. А главное, подумалось, вот она, цена всех отношений: ты мне – я тебе. И где – в нашем доме. Было так горько!
Уже потом, вспоминая об этом, я оценил меткость расхожих русских фразеологизмов. Например, «убийственное слово». Или: «опустились руки»; «все валится из рук». Именно так и было. Сначала руки без моего ведома опустились. Потом из них вывалилось все, что было – гантели. А затем и я сел на пол. Тут еще можно было бы сказать: «ноги не держат». Но это было бы неправдой. Ноги – они устойчивые. Просто сел, как обиженный ребенок.