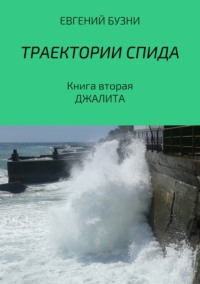полная версия
полная версияЛитературное досье Николая Островского
Описанное событие не является в прямом смысле восстанием дивизии против Советов, как писал Островский в письме, но другого случая «подавления» шестой дивизии, по-видимому, не было. Имелась, правда, в гражданскую войну ещё одна шестая дивизия – стрелковая, которая тоже принимала участие в наступлении на бело-польском фронте, но и у неё историки не упоминают восстаний. Стало быть, речь всё же идёт о шестой дивизии конармии, где больше, чем у других, допускались случаи насилия и мародёрства, что заставило применить к ней самые жёсткие репрессивные меры.
Где же был в это время Николай Островский? Трудно поверить, что в то время ещё шестнадцатилетний мальчишка оказался в особой бригаде, которой поручалась нелёгкая операция по разоружению полков. Но и предположить, что знал он о делах дивизии понаслышке трудно, когда читаешь в письме гневную характеристику: «это шкурники, жестокие люди, один из них отличался потому, что хорошо рубал головы, хорошо, не разбираясь за что». Да и в восьмой главе романа Островский предлагает читателю рассказ красноармейца Андрощука о том, как конный разъезд бывших махновцев, приставших к конармии, во время наступления захватил костёл, и там трое солдат хотели изнасиловать жену польского офицера.
И вот тут писатель очень верно, может быть, именно глазами очевидца подметил, как в пылу жестокой борьбы одно беззаконие рождало другое не только из-за нехватки времени одуматься, но и по принципиальным соображениям. В момент насилия над женщиной в костёл врывается рота латышских красноармейцев. Дальше в книге повествуется следующее:
«Латыш, как это всё увидел, да по-своему что-то крикнул. Схватили тех троих и на двор волоком. Нас, русских, двое только было, а все остальные латыши. Фамилия командира Бредис. Хоть я по-ихнему не понимаю, но вижу, дело ясное, в расход пустят. Крепкий народ эти латыши, кремниевой породы. Приволокли они тех к конюшне каменной. Амба, думаю, шлёпнут обязательно. А один из тех, что попался, здоровый такой парнища, морда кирпича просит, не даётся, барахтается. Загинает до седьмого поколения. Из-за бабы, говорит, к стенке ставить! Другие тоже пощады просят.
Меня от этого всего в мороз ударило. Подбегаю я к Бредису и говорю: «Товарищ комроты, пущай их трибунал судит. Зачем тебе в их крови руки марать? В городе бой не закончился, а мы тут с этими рассчитываемся». Он до меня как обернётся, так я пожалел за свои слова. Глаза у него как у тигра. Маузер мне в зубы. Семь лет воюю, а нехорошо вышло, оробел. Вижу, убьёт без рассуждения. Крикнул он на меня по-русски. Его чуть разберёшь: «Кровью знамя крашено, а эти – позор всей армии. Бандит смертью платит».
И расстрел состоялся».
Действительно, если молодой красноармеец Островский был свидетелем сцен насилия, то тогда совсем не удивляют строки его не публиковавшегося ранее письма, написанного 3 октября 1922 года Людмиле Беренфус:
«Люси, не считайте меня, мой друг, за мальчика, который, сидя, ничего не делая, вздумал разочаровываться и мечтать о воздушных замках, и идеальной свободе, равенстве и братстве. Порыв того желания жить своей мечтой бросил меня в армию в 1920 году, но я быстро понял, что душить кого-то – не значит защищать свободу, да и многое другое».
Друзья Островского писали в своих воспоминаниях о нём, что в 1920 году Николай исчез летом из Шепетовки и появился осенью мрачный, подавленный, никому не рассказывал, где был. Стало быть, если он оказался в тот период на фронте, то увиденное там произвело на него тяжёлое впечатление.
Интересно, между прочим, что рассказ Андрощука в рукописи романа вызвал спор красноармейцев по поводу того, стоит или не стоит жалеть расстрелянных насильников. Этот спор не попал в опубликованный вариант книги, но он любопытен неоднозначным отношением людей к вопросу любви и насилия. Вот как описал это Островский:
« – Но это чересчур – подал голос Матвичук, – чтобы из-за бабы бойцов истреблять? Это я несогласный. Можно и наказание придумать. Это латыш у тебя тоже пули просит. Подумаешь какое несчастье! Офицерскую жёнку обидели. Кабы нашу какую, ну туда-сюда. А то что ж мы не люди что ли? По свету кой год шатаемся, от дому отбились. Сголодались до краю без женского внимания. А тут на тебе! Чуть тронул, в «штаб Духонина». Это знаешь ли к чертям!
Матвичук обвёл всех взглядом, ища сочуствия, но взгляды всех были устремлены в огонь. И наталкиваясь на глаза Пузыревского, слегка прищуренные, его изучающие, Матвичук осёкся.
– Конечно отвечать должон, но не так.
К нему повернулся Середа.
– А мне этих совсем не жаль, – начал он резко. – Тебе это, конечно, не с руки, ты с бабами иное отношение имеешь. У тебя и прохвессия эта, как поберушка. Везде урвёшь, где плохо лежит. Таких артистов только страхом и держать. А то дай волю – не одна заплачет.
Матвичук озлился:
– Ну, ты, репа черниговская, разиндючился. Свою сознательность показываешь. Тоже комиссар нашёлся.
Разнимая их, Андрощук командовал:
– Наступай на чай, ребята, прекращай агитацию, Середа.
Из круга потянулись руки к чайнику. Стучали вынимаемые чашки. И вскоре послышалось аппетитное сербание и крепкие челюсти заработали. Но Середа всё ещё пытался дать Матвичуку отбой и вперемежку с чаепитием возвращался к прерванной теме:
– Дивчина, аль баба ласку любит. От ней ответ получить можно и без бандитизма. Только надо по душевному. У них ведь тоже понятие есть. Народ за войну с толку сбился: бабы без мужей, мужики без баб. Да и девчата на раздорожьи. И ни к чему здесь нахальничать, али обижать. Ежели ты парень неплохой, то всегда и накормит, а то и в мужья приймет.
Матвичук презрительно тюкнул:
– Довольно, слыхали. Где ты этой морали нахватался? Настоящий прохвесор. Замолол как тот оратель, дивизионный «борьба с борьбой борьбится, борьба борьбу борьбёт».
Прекратились голоса лишь поздней ночью. Выводит трели носом уснувший Середа. Спал, положа голову на седло, Пузыревский, и записывал что-то своё в записную книжку Крамер.
Конная разведка полка спала».
Редакторы романа, очевидно, не хотели видеть в книге примеры несознательных красноармейцев, поддерживающих преступные деяния махновцев, и потому не допустили к публикации процитированный отрывок.
Не оспаривая действия редакторов, мы рассматриваем этот кусок текста с точки зрения творческого процесса Островского. Спор у костра выглядит весьма жизненным, то есть писатель старался преподнести жизнь такой, какой он её видел. Махновские замашки несомненно были среди красноармейцев, о чём говорит и пример с шестой дивизией.
В архивных документах Первой Конной Армии есть немало жалоб населения на незаконные действия красноармейцев, которые порой вызывались, разумеется, необходимостью, скажем, когда в момент преследования противника нужно было срочно сменить уставших лошадей, накормить бойцов, достать фураж и т.д. Но всякий раз в подобных ситуациях следовало улаживать вопрос по-доброму, компенсируя крестьянам потери. Этого требовало от всех руководство Красной Армии, об этом гласили приказы командования, но не всегда они исполнялись. Вот, например, одно из заявлений уполномоченного Учпрофсоюза станции Ольшаница в штаб 6-й дивизии 1-й Конной Армии, написанное 11 октября 1920 года, как раз в тот день, когда происходило разоружение провинившихся полков:
«Последние дни участилось поступление заявлений о том, что красноармейцами реквизируется у них без всяких мандатов и предписаний имущество и скот. Между тем сегодня 11/Х к дежурному пом. Нач. Ст. Тов. Ковалевскому явились 4 вооружённых красноармейца и потребовали у Ковалевского лошадей и, если бы не подоспели на этот случай служащие, то лошади были бы взяты».
Этот действительно имевший место случай очень напоминает эпизод седьмой главы первой части романа "Как закалялась сталь", когда в Шепетовку прибывают эшелоны Кавказской краснознамённой дивизии, но не опубликованный вариант, а тот, что был в рукописи и, вероятно, более жизненный:
«В ревком приехали трое смуглых командиров. Высокий, худой, перетянутый чеканным поясом, наступал на Долинника:
– Ты менэ ничаго не гавары. Давай сто подвод сэна. Лошид дохныт. Воеват с белым нелза. Ны дашь, рубат всэх будэм.
Долинник возмущённо разводил руками:
– Откуда я тебе, товарищ, сто подвод сена достану в полдня? Ведь это ж на сёла ехать надо доставать. На это два дня мало.
Высокий заблестел глазами.
Я тэбе говору. До вэчэр сэна не будет, всем башка рубаем. Контрреволюцию делаишь, – и он грохнул кулаком по столу.
Долинник вскипел:
– Ты меня на испуг не бери. Я сам брать умею. А раньше завтрашнего дня сена не будет. Понял?
– Вэчэр, чтоб сэна был, – сказал, уходя, кавказец.
Серёжа был послан с двумя красноармейцами добывать сено. В одном селе нарвался на кулацкую банду. Красноармейцев разоружили и избили до полусмерти. Серёже попало меньше других, его пощадили по молодости. Привезли их в город комбедовцы.
А вечером того же дня, не получив сена, отряд кавказцев окружил ревком, арестовал всех, даже уборщицу и конюха. Изредка награждая нагайками, повели на Подольский вокзал и заперли в товарный вагон. В саду ревкома стоял кавказский патруль. Плохо пришлось бы ревкомовцам, если бы не энергичное вмешательство военкомдива, товарища Крохмаль. После ультиматума латыша всех выпустили».
Это сопоставление действительных, документально зафиксированных событий с эпизодами романа показывает, что писатель сумел удивительно точно отразить жизнь на страницах своей книги. Но для большей убедительности начинающий писатель стремился порой к точности абсолютной. Только с этой целью, описывая гражданскую войну, он безошибочно указывает номера армейских частей, на самом деле принимавших участие в том или ином сражении, фамилии реальных советских и польских командиров, точные даты начала операций, места дислокаций и т.п. Но именно эта безошибочность в описании событий одиннадцатилетней давности (Островский работал над первой частью романа в 1931 году, а гражданская война шла в 1920 году) навела меня на мысль о том, что шестнадцатилетний красноармеец Островский, если бы и принимал участие во всех описываемых в книге событиях, то всё равно, будучи простым солдатом, не мог знать всех дат наступлений, номеров частей и прочее.
Особенно поразило меня и окончательно развеяло все сомнения наличие в рукописи двух приказов реввоенсовета, хоть и не вошедших в опубликованную книгу, но записанных в рукописи с указанием на одном номера приказа, соответствующего нумерации приказов РВСР того периода. Меня заинтересовало, где могли быть опубликованы приказ номер 358 /сек 89/ пол. II п. И второй приказ, отрывок из которого Островский дал в рукописи без указания номера документа.
Обратился к мемориальной библиотеке Островского в Московском музее писателя. Ничего подходящего не обнаружил. Зато в фондах музея нашёлся небольшой список книг, некогда изъятых почему-то из библиотеки писателя. В числе нескольких книг о гражданской войне в этом списке оказалась и книга Н.Е. Какурина «Война с белополяками» 1928 года издания. Эта маленькая книжица, найденная мной в Исторической библиотеке, ничем не помогла, зато попутно в картотеке я обнаружил книгу с тем же названием, но выпущенную в 1925 году, и авторами её оказались тот же Н.Е. Какурин и В.А. Меликов. В отличие от первой книжечки это оказался объёмный капитальный труд о гражданской войне.
Сопоставление страниц этой книги со страницами восьмой главы первой части романа «Как закалялась сталь» привело к подлинному открытию. Приведу эти сопоставления. Для удобства читателя книгу Какурина и Меликова «Война с белополяками» буду называть коротко «книга Какурина». Страницы восьмой главы романа Островского «Как закалялась сталь» буду цитировать по сс «Н.Островского», М., «Молодая гвардия», 1989 г., т.I. Строки полного, частичного или смыслового совпадения в книгах Какурина и Островского буду выделять почёркиванием.
Историк Какурин подготовку к главным событиям на Юго-западном фронте так описывает на стр. 113-114 своей книги:
«Опасаясь нежелательного для будущих операций конной армии привлечения внимания противника к Уманскому району, Командюз указал командарму XIY, чтобы 45 стр. Дивизия не выдвигалась севернее района, указанного им в приказе…
Конная армия заканчивала свой свыше чем 1000-километр. Переход.
… Следуя на Украину, армия уже 30 апреля вступила в район действий банд Махно, причём дивизиям были поставлены задачи уничтожения встречающихся банд.
… Переправившись через р. Днепр в районе Екатеринослава, конная армия к 25 мая начала подходить в район Умани.
18 мая 4-ая и 6-ая кав. дивизии этой армии находились уже в районе ст. Фундуклеевка, 11 кав. дивизия была в Елисаветграде, 14-ая кав. дивизия достигла с. Федосеевка (20 кил. Юго-западнее Елисаветграда). Армии оставалось сделать ещё 200 километров до линии своего развёртывания, при чём этот путь она должна была пройти в 6 дней, чтобы начать свои операции 27 мая. Боевой состав этой армии определялся в 16.700 сабель при 284 пулемётах…»
А вот как описывает те же события Островский в начале восьмой главы на стр. 163:
«С далёкого Северного Кавказа беспримерным в военной истории походом перебрасывались на Украину закалённые в боях дивизии 1-й Конной армии. Четвёртая, шестая, одиннадцатая и четырнадцатая кавалерийские дивизии подходили одна за другой к району Умани, группируясь в тылу нашего фронта и по пути к решающим боям сметая с дороги махновские банды. Шестнадцать с половиной тысяч сабель, шестнадцать с половиной тысяч опалённых степным зноем бойцов.
Всё внимание высшего красного командования и командования юго-западным фронтом было привлечено к тому, чтобы этот подготавливаемый решающий удар не был предупреждён пилсудчиками…
В узенькие полоски телеграфных лент отстукивали "морзянки" шифрованные приказы: "Не дать привлечь внимание поляков к группировке Конной армии».
В книге Какурина на стр. 156 мы читаем:
«Главный удар конной армии обрушивается… на 3 кав. бригаду генерала Савицкого… Но сопротивление этой бригады может быть продолжительным и на её плечах красная конница прорывается далее по направлению к м. Ружин… 1-й кав. дивизии Корницкого приказано следовать по пятам за конной армией и ударить ей в тыл под Казатином.
Таким образом Польский фронт на Украине был фактически прорван первой конной армией на стыке VI и III польских армий к концу дня 5 июня».
У Островского в романе этот факт записан на стр. 170 следующим образом:
«Пятого июня 1920 года после нескольких коротких ожесточённых схваток 1-я Конная армия Будённого прорвала польский фронт на стыке 3-й и 4-й (должно быть 6-й. Это техническая ошибка либо переписчиков, либо при перепечатке, когда вместо римской VI написали арабское 4. Прим. моё) польских армий, разгромив заграждавшую ей дорогу кавалерийскую бригаду Савицкого, двинулась по направлению Ружин…
По пятам 1-й Конной бросилась кавалерийская дивизия генерала Корницкого. Ей было приказано ударить в тыл 1-й Конной армии, которая, по мнению польского командования, должна была устремиться на важнейший стратегический пункт тыла поляков – Казатин».
Затем чуть дальше на стр. 157 книги Какурина читаем:
«Оценивая отход полков на Бердичев, как панический, получив сведения от пленных о том, что в Житомтре находится штаб армии (на самом же деле там даже был штаб фронта) и имея сведения о первых признаках эвакуации Киева, командарм конной в течение 7 и 8 июня решил захватить важные железнодорожные узлы и административные центры Житомир, Бердичев. Выполнение этой задачи возлагалось на 4 и 11 кав. дивизии. Первая должна была выступить с утра 7 июня, произвести налёт на Житомир».
У Островского на стр. 170 видим почти дословное переложение этого текста:
«Получив от пленных сведения о том, что в Житомире находится штаб армии – на самом деле там был даже штаб фронта, командарм Конной решил захватить важные железнодорожные узлы и административные центры – Житомир и Бердичев. Седьмого июня на рассвете на Житомир уже мчалась четвёртая кавалерийская дивизия».
Здесь Островским лишь два последних предложения Какурина заменены одним более экспрессивным и литературным, после чего идёт рассказ об участии Корчагина в сражении, когда он скакал в одном из эскадронов правофланговым на месте погибшего Кулебяко. Затем в романе даётся эпизод освобождения заключённых из тюрьмы.
Но у Какурина тоже говорится об этом на стр. 157:
«Житомир был захвачен после небольшого сопротивления местного гарнизона в 18 часов 7 июня…
(Кстати, интересно, как эта небольшая информация преобразилась под творческим пером писателя:
«Развернулись веером у Житомира, не осаживая горячих коней, заискрились на солнце серебряным блеском сабель.
Быстро-быстро бежала под ногами земля. И большой город с садами спешил навстречу дивизии. Проскочили первые сады, ворвались в центр, и страшное, жуткое, как смерть, «даёшь!» потрясло воздух.
Ошеломлённые поляки почти не оказывали сопротивления. Местный гарнизон был раздавлен», стр. 171)
… причём, кроме некоторого количества военного имущества и трофеев, захваченных на путях, несравненно более ценной добычей для дивизии явилось освобождение 5000 наших военнопленных и 2000 военных политработников, томившихся в местной тюрьме».
Островский на стр. 172 рассказывает, как красноармейцы врываются в тюрьму, освобождают заключённых и как какая-то женщина бросается к Павлу с объятиями. Дальше идут следующие строки:
«Дороже всех трофеев, дороже победы было для бойцов дивизии освобождение пяти тысяч семидесяти одного большевика, загнанных белополяками в каменные коробки и ожидавших расстрела или виселицы, и двух тысяч политработников Красной Армии. Для семи тысяч революционеров беспросветная ночь стала сразу ярким солнцем горячего июньского дня».
Совпадения очевидны. Не ясно только, почему Островский увеличил на 71 число освобождённых большевиков.
У Какурина после процитированных ранее строк сразу следует:
«Бердичев сопротивлялся более упорно: в самом городе завязался горячий уличный бой, в результате которого противник был выбит из города, станция железных дорог захвачена и подвергнута разрушению, взорван артиллерийский склад противника с одним миллионом снарядов».
Островский после описания освобождения тюрьмы предлагает рассказ Самуила Лехера о казни Вали Брузжак, о котором мы уже говорили, вводит эпизод гибели шепетовского комсомольца Миши Левчукова, сражавшегося вместе с Серёжей Брузжаком в ударной группе Голикова, о которой тоже есть информация у Какурина, и только после этого на стр. 178 Островский рассказывает о взятии Бердичева:
«Одиннадцатая дивизия, направленная на захват Бердичева, встретила в городе ожесточённое сопротивление белополяков.
На улицах завязался кровавый бой. Преграждая дорогу коннице, строчили пулемёты. Но город был взят, и остатки разбитых польских войск бежали. На вокзале захватили поездные составы. Но самым страшным ударом для поляков был взрыв миллиона орудийных снарядов – огневой базы польского фронта».
Заимствование фактов не вызывает сомнений. А через пару десятков строк, посвящённых ощущениям Корчагина и ещё одной атаке со страшным "Даёшь!", в романе на стр. 179 описывается взятие Новоград-Волынского:
«Утром 27 июня, переправившись в конном строю через реку Случ, будённовцы ворвались в Новоград-Волынский, преследуя поляков по направлению местечка Корец. В это же время сорок пятая дивизия Якира перешла реку Случ у Нового Мирополя, а кавалерийская бригада Котовского бросилась на местечко Любар».
Почти дословно то же самое читаем у Какурина на стр. 176:
«Конная армия в день 27 июня имела крупный успех: её главные силы утром 27 июня переправились через р. Случ и овладели г. Новоград-Волынском и начали преследование противника в направлении на Корец, в то время как 45 стр. Дивизия форсировала р. Случ на участке Урля Нов. Мирополь, направив кавалерийскую бригаду Котовского на м. Любар».
И, наконец, заключительная часть восьмой главы – ранение Павла Корчагина, то самое ранение, которое становится первопричиной всех последующих бед Корчагина, но не Островского, как полагали многие.
Мне жаль огорчать тех, кто свято верил в подлинность описанных писателем событий, они и были таковыми, но не всегда с Островским. Сам Островский, скорее всего, был ранен, если был, в другом месте и при других обстоятельствах. Ведь в той же книге Какурина мы читаем всего лишь одну фразу:"19 августа в районе Львова убили Летунова", но именно она позволила Островскому написать на стр. 180:
«19 августа в районе Львова Павел потерял в бою фуражку. Он остановил лошадь, но впереди уже срезались эскадроны с польскими цепями. Меж кустов лощинника летел Демидов. Промчался вниз к реке, находу крича:
– Начдива убили!
Павел вздрогнул. Погиб Летунов, героический его начдив, беззаветной смелости товарищ. Дикая ярость охватила Павла».
Далее идут строки о том, как Павел врезается в гущу схватки и взрывом его выбрасывает из седла.
Но тут есть одна важная деталь. Фамилия начдива в книге Какурина ошибочно напечатана через букву «е», тогда как правильно его фамилия была Литунов, то есть через букву «и». Эта ошибка пошла и в книгу Островского. Кроме того, в то время Литунов Фёдор Михайлович был временно исполняющим обязанности делами начальника 4-й кавалерийской дивизии, и о гибели его С. Орловский так писал в своей книге «Дневник конармейца» на стр. 93:
«21 августа. Получено печальное известие, что в бою под Львовом убит начдив 4 т. Литунов Фёдор Михайлович. Отдавая приказание по дивизии, он был сражён пулей противника. Его временно сменил комбриг 2 Тюленев, которому приказано сдать дивизию бывшему начдиву 6 т. Тимошенко».
Кстати, чуть дальше в этой книге Орловский пишет:
«Наши потери у Львова громадны. Особенно велики потери от аэропланов, эскадрильи которых с утра до вечера бомбили части и их обозы».
Будь Островский очевидцем этих событий, то при его памяти и пунктуальности в отражении фактов вряд ли бы он забыл упомянуть аэропланы.
Внимательный читатель романа Островского, конечно, обратил внимание на упоминание писателем фамилии Голикова и сразу задался вопросом – а не тот ли это Голиков, что известен нам по имени Аркадий Гайдар и который тоже воевал в гражданскую войну примерно в тех же местах и может даже в то же время? Но приходится отвечать, что нет, не тот. Голикова Островский упоминает лишь однажды и весьма конкретно обозначив его, так что ошибиться невозможно.
На стр. 177 он пишет:
«В то время, когда четвёртая кавалерийская дивизия взяла Житомир, в районе села Окуниново форсировала реку Днепр 20-я бригада 7-й стрелковой дивизии, входящая в состав ударной группы товарища Голикова.
Группе, состоявшей из двадцать пятой стрелковой дивизии и Башкирской кавалерийской бригады, было приказано, переправившись через Днепр, перерезать железную дорогу Киев-Коростень у станции Ирша».
Все эти данные и фамилия Голикова взяты из той же книги Какурина, где на стр. 162 мы видим:
«Ударная группа Голикова должна была переправиться через Днепр на участке между устьями рр. Припять и Тетерев. К исходу 3 июня в районе переправы Печки… сосредоточились из ударной группы Голикова 73 стр. Бригада 25 стр. Дивизии и Башкирская кав. бригада, которые и начали переправу через р. Днепр 4 июня…