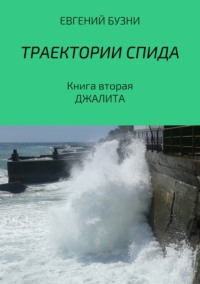полная версия
полная версияЛитературное досье Николая Островского
Она молчала. Лица её он не видел.
– Сейчас в парке концерт Эрденко, идём, Мурочка, – сказал Павел, но Волынцева выдернула руку и негодующе отказалась:
– Павел, сознаёшь ли ты, как мне обидно? Ведь я тебя ещё девчонкой любила. Тогда ты не обращал на меня внимания и сейчас оттолкнул, как аристократ какой-то. Я такого, как ты, ждала, о таком желала, а ты меня отшвырнул, как ненужную вещь. Ведь это же так обидно. Можешь уходить, я тебе не скажу больше ни слова. Когда-нибудь и тебя отшвырнут так же. Тогда вспомнишь обо мне, – и она пошла к аллее.
– Одну минутку, Мура, – он задержал её силой. – Не моя вина во всём происшедшем. В чувствах нельзя лгать себе, надо быть откровенным. Я не ушёл бы от страсти, если за ней стоит глубокое чувство. Но его у меня нет. Только за это ты рвёшь со мной товарищество? Что же, поступай, как для тебя лучше. Очень жаль, что нечаянно причинил тебе боль. Только не создавай трагедии там, где её нет. Нам надо набирать силёнок. Зачем же будоражить нервы? Давай лапу, чудачка. Долго сердиться вредно.
Но Мура ускользнула из его рук, и скоро он увидел её в освещённом кругу близ бассейна.
В этот вечер партнёр Корчагина по шахматам, высокий и худой как жердь тамбовский губпрокурор едва успевал отбивать свирепые атаки кавалерии противника, разгромившей его фланги непрерывными двойными ударами.
– Это же не игра, а какая-то партизанщина, ходы вне всякого гамбита. Ты чего это взбесился? – недовольно ворчал тамбовец.
– Ничего, играй, старина, играй. Мне только что объявили шах королю, гарде королеве, а мат я не получил только из вежливости.
Тамбовец не понял».
При сопоставлении этого отрывка из рукописи с процитированным ранее письмом Островского Марии Родкиной вполне очевидно, что под Мурой Волынцевой имеется в виду Валентина Лауринь. При этом обращает на себя внимание тот факт, что, если в реальной жизни ситуация с девушкой у Островского была весьма обычной и отказ в любви Вале объяснялся более сильными чувствами Островского к Родкиной, то в рукописи этот отказ объясняется принципиальным нежеланием Корчагина просто играть в любовь, когда нет сильного чувства, нет истинного влечения, уважения и так далее. Здесь уже выстраивается определённая авторская линия отношения к любви, начатая в самом начале романа, когда арестованный юноша Павка отказывает в любви Христине только по причине его любви к Тоне Тумановой, а затем эта же ситуация как бы повторяется, но в более сложной форме, более совершенной. Автор взрослел, взрослели и его понятия.
Таким образом перерабатывались многие фактические жизненные ситуации, обретая форму поучительных историй, о чём мы узнавали из писем.
Книжногазетные кирпичики
Теперь поговорим о том, почему же роман «Как закалялась сталь» нельзя называть автобиографией Островского, но биографией его поколения. Часть романа сложена действительно из кирпичей фактов его собственной жизни. Но другая – строилась из материала совершенно иного, но тоже фактического.
Мы знаем практически все книги, попавшие в личную библиотеку Николая Островского в тот нелёгкий период его творчества, когда он уже будучи автором знаменитого романа, готовился писать второе произведение – «Рождённые бурей». Известны имена помощников, достававших книги, и чуть ли не все прочитанные ему страницы. А что же читал Островский, готовясь к работе над первым романом, публикация которого сразу же вывела его в ряды писателей чуть ли не самого высокого ранга?
Первый редактор романа «Как закалялась сталь» Марк Колосов писал в воспоминаниях, что «если Достоевский в своё время сказал: «Все мы вышли из шинели Гоголя», то Николай Островский мог бы сказать, что он вышел из «Тараса Бульбы».
Колосов заметил влияние Гоголя «в ритме повествования, в структуре фразы с инверсией, подчинённой ритму, в безбоязненном обращении автора к сложным периодам с причастным и деепричастным оборотам, свойственными напевному складу украинской речи».
Однако это оценка стилистики, а нас в данном случае интересует смысловое содержание, его составные компоненты, то есть откуда и какой брался раствор для строительства романа, а не способ его замешивания.
По свидетельствам многих друзей Островского, их товарищ, будущий писатель, обладал замечательной памятью. Вполне возможно, что именно она цепко выхватила из тайников когда-то виденное название книги А. Бусыгина «Закалялась сталь» и позволила творческому воображению добавить всего лишь одно слово и выплеснуть на страницу почти невидящей рукой заголовок «Как закалялась сталь», утверждая тем самым, что хочет описать именно процесс закалки стального характера.
Впрочем, А.Бусыгин, рапповский писатель из Ростова-на-Дону, в своей повести «Закалялась сталь», изданной в его родном городе ещё в 1926 году, затем издательством «Московский рабочий» в 1928 году и переизданной в 1931 году уже под другим названием «Бронепоезд «Вперёд за Советы», тоже преследовал цель показать, как постепенно формировался под воздействием комиссара Клинкова необузданный характер командира бронепоезда Карагодина.
Колосов, высказывая Островскому сомнения по поводу названия редактируемого романа, сообщил о повести Бусыгина, что заставило автора задуматься, но не изменило решения сохранить «Как закалялась сталь».
Может быть, именно памяти Островского, а не случайному совпадению, которое удачно подметил Е.Балабанович в книге «Николай Островский», мы обязаны появлению знаменитой фразы «самое дорогое у человека это жизнь. Она даётся ему один раз и прожить её надо…». Ведь у Чехова в «Рассказе неизвестного человека» есть слова: «Жизнь даётся один раз, и прожить её надо бодро, осмысленно, красиво».
Совпадение очевидное, но, если оно и случайное, то его величество случай, оказался весьма удачным, ибо фраза одного из героев великого писателя прекрасно была дополнена и осовременена Островским, сделав упор на то, что жизнь важно прожить не просто «бодро, осмысленно и красиво», а именно «так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жёг позор за подленькое и мелочное прошлое и, чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире – борьбе за освобождение человечества». Это поистине золотое добавление, ибо, благодаря ему, фраза-призыв о смысле жизни, рекомендация, которой сам писатель следовал всю жизнь неукоснительно, засияла и обрела крылья, чтобы облететь весь мир, чтобы стать для миллионов людей пусть не всегда досягаемой, но путеводной звездой, за которой можно идти неустанно.
И не удивительно, что в наше сумбурное время смены или подмены идеалов, ломки представлений и понятий, даже самые отъявленные хулители революционного прошлого, а вместе с ним и творчества Николая Островского, почти ежедневно вспоминают со страниц печати или экранов телевизоров слова не Чехова, а Островского «Самое дорогое у человека это жизнь», подразумевая за ними то самое продолжение, которое им недоступно, но о котором в тайне мечтается практически каждым.
Между тем не все литературные заимствования Островского, а их было не мало, прошли в романе легко. Любопытен эпизод с рецензией Верхацкого, о которой почти ничего не известно читателям. Дело в том, что, готовя третье издание романа «Как закалялась сталь», вышедшее на украинском языке в издательстве «Молодой большевик» в 1934 году, Островский помимо включения многих неопубликованных в русском варианте страниц рукописи произвёл и некоторые изменения в тексте, на одно из которых в числе прочего отреагировал в своей разгромной рецензии романа харьковский литератор Верхацкий. Ответ Островского на эту рецензию является характерным примером того, как автор к тому времени уже популярного романа боролся за правильность каждого слова и чистоту мыслей в книге. Вот что он писал в письме редактору И.А.Гориной 28 июля 1935 года:
«Завтра вышлю Вам спешной почтой контрреволюционную рецензию Верхацкого о «Как закалялась сталь» для информации.
Прочтя её, Вы сами увидите, какие места надо вычеркнуть в 4-ом издании (ленинградском), чтобы враг не мог использовать этих строк, даже перевирая и извращая смысл, против нас. Особо важно зачеркнуть речь Петлюры (часть 1, глава 6) и снять слова Корчагина: «чем ночь темней, тем ярче звёзды». (Корчагин не знал следующих строк стихотворения: «Чем глубже скорбь, тем ближе бог», а враг использовал ошибку автора)».
Что же такое написал сам Верхацкий, причисляя писателя к классовым врагам и предлагая изъять его книгу из продажи? Одно из антисоветских проявлений Островского в романе он увидел в том, что «Павел два раза повторяет (стр. 371 и 374) «чем ночь темней, тем ярче звёзды». Вспомните продолжение этой первой строки стихотворения А.Н.Майкова… «чем глубже скорбь, тем ближе…бог», и вам станет понятен этот «пропагандист» Павел Корчагин, коммунист».
Тот факт, что Островский явно не знал стихов А.Майкова, уже говорит о том, что он не мог иметь в виду в подтексте продолжение, связанное с богом. Однако, использовав это выражение, он доказал, что, по крайней мере, слышал его, если не читал. Кстати, впервые Островский применяет его не в романе, а в письме от 23 февраля 1932 года своим друзьям Тамаре и Петру Новиковым, которым сообщает о победе на литературном фронте – принятии к печати рукописи романа редакцией журнала «Молодая гвардия», и пишет в связи с этим:
«Петя, Мара! Пожмите руку старому бандиту…
«Чем ночь темней, тем ярче звёзды…» Это, по-моему, сегодня подходит».
Парадокс ситуации заключается в том, что как раз сам рецензент Верхацкий проявил явную безграмотность в том, в чём обвинил молодого писателя. Ведь рассматриваемое выражение, записанное Островским по памяти, он мог прочитать не обязательно у А.Майкова, но хотя бы у Ивана Бунина в «Архивном деле», где тот писал: «Время было тёмное: но ведь уж известно, что, чем ночь темней, тем ярче звёзды», и никакого религиозного смысла писатель в эти слова не вкладывал. Более того, А.Майков тоже не сам изобрёл эту строку, поскольку до него ещё в 1835 году П.А.Катенин писал почти то же самое в своём сонете: «Чем гуще мрак кругом, тем ярче блеск звезды». Словом, фраза «чем ночь темней, тем ярче звёзды» давно стала расхожей, и потому Островскому не стоило так волноваться и уж тем более исправлять текст из-за неграмотности рецензента, усмотревшего в народной мудрости антиреволюционный смысл.
Для нас же важен этот момент в плане проникновения в творческий процесс Николая Островского. Работая над романом, автор как бы прокручивал в памяти прочитанное и услышанное, интуитивно отбирая нужные в данный момент строки, события, факты, вплетая их творчески в ткань художественного замысла.
Но на место интуиции часто приходил и сознательный отбор нужного материала и нелёгкий поиск литературы, о котором обычно говорили лишь при упоминании работы Островского над романом «Рождённые бурей». Один из маститых биографов Островского Н.Венгров приводит в своей книге о писателе любопытное сопоставление эпизода из романа «Как закалялась сталь» и статьи из газеты «Правда». Материал Б.Галина «О тех, кто строил» был опубликован 17 июня 1930 года. В нём рассказывалось о том, как молодые рабочие самоотверженно в трудных погодных условиях поднимали корпуса завода. В статье были и такие строки:
«На высоте пятнадцати метров надо было остеклить корпуса. Раскалённые жаровни пылали днём и ночью. Артель стекольщиков наотрез отказалась работать в такой мороз. Ветер бил в пустые провалы железных рам, жаровни пылали дни и ночи.
Две сотни комсомольцев пошли на железные пустые окна. Их вёл старый безыменный стекольщик, ушедший от своих. Двести взошли на леса и впервые алмазами врезались в стекло, пригоняя, вставляя его в железные рамы окон».
А в девятой главе второй части романа читателю, как пишет Венгров, «Дыхание невиданного народного подъёма легко ощутить» в таких строках:
«Когда луч антенны принёс из Магнитогорска весть о подвигах юной братвы, сменившей под кимовским знаменем поколение корчагиных, Павел был глубоко счастлив.
Представлялась метель – свирепая, как стая волчиц, уральские лютые морозы. Воет ветер, а в ночи занесенный пургой отряд из второго поколения комсомольцев в пожаре дуговых фонарей стеклит крыши гигантских корпусов, спасая от снега и холода первые цехи мирового комбината».
Действительно в этих двух отрывках ощущается одно дыхание времени, один ритм и даже один сюжет. Более того, старый безыменный стекольщик из статьи Б.Галина сразу вызывает образ старика Токарева, возглавившего в романе комсомольскую стройку Боярской узкоколейки. Любопытны даже стилистические совпадения. В статье Галина мы встречаем предложения: «Двести взошли на леса…», «Двести, которых ветер рвал…», и как они узнаются, когда мы читаем в первой главе второй части романа Островского: «Шли триста по безлюдным улицам».
Дальше Венгров приводит воспоминания добровольного секретаря Галины Алексеевой:
«… Когда я прочла Николаю заголовок статьи в «Комсомольской правде» – «Сплав в Котласском бассейне находится под ударом. Комсомол, на линию огня!», он прервал меня и взволнованно сказал: «Знаешь, о чём напомнило мне это сообщение? Вот так же десять лет назад киевские комсомольцы боролись с паводком на Днепре, спасая штабеля брёвен, которые грозила унести разбушевавшаяся река. И спасли».
Читая эти воспоминания внимательно, думается, что Галина Алексеева не совсем точно воспроизвела детали разговора. Ведь по прочитанному заголовку ещё нельзя было понять, о чём именно пойдёт речь в статье. Скорее всего, Алексеева прочитала не только заголовок, но и всю статью или хотя бы часть её, что и вызвало у Островского воспоминания или родило у писателя воображение, которое вылилось впоследствии в строки четвёртой главы второй части романа:
«Перед самой зимой запрудили реку дровяные сплавы, разбивало их осенним разливом, и гибло топливо, уносилось вниз по реке. Соломенка опять послала свои коллективы, чтобы спасти лесные богатства.
Нежелание отстать от коллектива заставило Корчагина скрыть от товарищей жестокую простуду, и, когда через неделю на берегах пристани выросли горы штабелей дров, студёная вода и осенняя промозглость разбудили врага, дремавшего в крови, – и Корчагин запылал в жару».
Вполне возможно, что не случайно к моменту разговора, описанного Алексеевой, относится письмо Островского к Р.Ляхович от 14 июня 1931 года, в котором есть такие строки:
«… В ближайшую неделю мне принесут напечатанную на машинке главу из второй части книги, охватывающей 1921 год (киевский период, борьба комсомольской организации с разрухой и бандитизмом)…».
Эти слова говорят о том, что Островский, далеко не закончив ещё первую часть романа, уже пишет главу из второй части и как раз по той теме, что отражена в статье из «Комсомольской правды», которую ему читала Алексеева. Интересно также отметить, что по воспоминаниям Алексеевой Островский не говорит ей, будто он сам с киевскими комсомольцами спасал лес и заболел после этого, а ведь это было бы естественным, случись подобное с ним на самом деле и приведи это к тяжёлой болезни на всю жизнь.
Обращает на себя внимание и другой факт не автобиографичности, а фактографичности романа, о котором тоже рассказывает Венгров в примечаниях к своей книге «Н.Островский»:
«В конце 1949 года научным сотрудником Шепетовского музея Н.Островского т. Яновской в Изяславском архиве было обнаружено «Объявление полевого суда» 13-й дивизии пехоты белополяков о расстреле 20 марта 1920 года семи революционеров-подпольщиков в Шепетовке. Этот документ и воспоминания большевика-подпольщика И.Штейнберга, которому смертная казнь в последний момент была заменена двадцатилетней каторгой, в деталях воспроизводят это трагическое событие, очевидно, положенное в основу известной сцены в романе. Среди казнённых была юная девушка Анна Нисензон, обратившаяся перед расстрелом с речью к польским легионерам».
Вспомним страницу восьмой главы первой части романа Островского, раскрывающую этот эпизод:
«Вывели из тюрьмы, наконец, Валю и тех товарищей, что к повешению. Взялись они все трое под руку. Валя в середине, сил у неё идти не было, товарищи поддерживали, а она прямо идти старается, помня Степановы слова: «Умирать надо хорошо». Без пальто она была, в вязаной кофточке.
Шварковскому, видно, не понравилось, что под руку шли, толкнул идущих. Валя что-то сказала, и за это слово со всего размаха хлестнул её по лицу нагайкой конный жандарм.
Страшно закричала в толпе какая-то женщина, забилась в крике безумном, рвалась сквозь цепь к идущим, но её схватили, уволокли куда-то. Наверно, мать Вали. Когда были недалеко от виселицы, запела Валя. Не слыхал никогда я такого голоса – с такой страстью может петь только идущий на смерть. Она запела «Варшавянку»; её товарищи тоже подхватили. Хлестали нагайки конных; их били с тупым бешенством. Но они как будто не чувствовали ударов. Сбив с ног, их к виселице волокли как мешки. Бегло прочитали приговор и стали вдевать в петли. Тогда запели мы:
Вставай проклятьем заклеймённый…
К нам кинулись со всех сторон; я только видел, как солдат прикладом выбил столбик из подножки, и все трое задёргались в петлях…
Нам, девятерым уже у самой стенки прочитали приговор, в котором заменялась смертная казнь генеральской милостью – двадцатилетней каторгой. Остальных семнадцать расстреляли».
В романе эпизод казни рассказывает Павке Корчагину его товарищ, наборщик типографии из Шепетовки Самуил Лехер. Как и в какой степени познакомился с реальными событиями Николай Островский, был ли сам свидетелем подобной сцены, ведь он жил в Шепетовке в то время, или только слышал об этом, пока не известно, но зато сегодня мы можем с полной уверенностью сказать, что восьмая глава первой части писалась Островским с максимальным приближением к действительности. Тому есть много оснований.
Островский и Корчагин в гражданской войне
Восьмая глава первой части романа «Как закалялась сталь» давно привлекает к себе внимание многих исследователей, да и просто читателей. Именно в ней Павел Корчагин предстаёт перед нами в героическом свете бойца Красной Армии, участника боёв гражданской войны на Украине. Немало энтузиастов, убедивших себя в том, что роман есть точная автобиография писателя, пытались по описаниям мест боевых сражений определить боевой путь самого Островского. Нашли даже, сопоставляя страницы романа с действительным маршрутом передвижения Первой конной армии Будённого, место легендарного ранения Павки Корчагина и установили там памятную стелу, указав на ней, что здесь был ранен Николай Островский, хотя никаких документальных подтверждений тому найдено не было.
Первоначально тем же ошибочным путём пошёл и я, углубившись в толщу документов Центрального государственного архива советской армии, где перекопал существенную часть архивного фонда под номером 245, то есть фонда Шестой кавалерийской конармии Будённого. Правда, я основывался не на тексте романа, а на письме Островского Жигиревой, датированного 26 ноября 1928 года, которое является, пожалуй, единственным документальным источником, где рукой самого Островского написаны строки, говорящие более-менее определённо о его участии в событиях гражданской войны. Вот что он пишет:
«Только несколько минут, как сосед по коридору, партиец (краснознамёнец) избивал свою жену, работницу Зою…
Это, между прочим, один из тех партийцев здесь живущих, про которых я писал в первых письмах. В вопросе классовой борьбы здесь занимаются штрейкбрехерством, а их идейная сущность станет тебе ясна фактом систематического избивания жён – таких беззащитных работниц.
Это шкурники, жестокие люди, один из них отличался потому, что хорошо рубал головы, хорошо, не разбираясь за что. Это я могу говорить, так как сам участвовал в 1920 году в усмирении их шестой дивизии, восставшей против советов при наступлении на Варшаву».
Последние строки процитированного отрывка письма навели на мысль узнать, какое отношение мог иметь Николай Островский к шестой дивизии.
Из книги бывшего начальника политуправления Конармии И.Вардина "Ворошилов – рабочий вождь Красной Армии", вышедшей в 1926 году, я узнал суть того, о чём, по-видимому, упоминал Островский в письме Жигиревой. Очевидец этих событий писал следующее:
«Начиная с средних чисел сентября, после рейда на Замостье, уставшая, измученная, ослабленная конная армия частями отводится в тыл для влития пополнения, для приведения в порядок. Фактически лишь в начале октября последние части конармии отрываются от неприятеля и уходят в тыл.
И здесь наступает период тяжёлого внутреннего кризиса. Порядок и дисциплина, установленные в условиях боевой жизни, сразу ослабевают; шкурнические, бандитские, провокаторские элементы поднимают голову. Возникает опасность разложения армии…
Боец конной армии, случалось, присваивал чужую «собственность», в особенности, когда он неделями не получал снабжения. Против этого нужно было бороться, чтобы «присвоение» не вышло из рамок «естественной нормы», чтобы оно не превратилось в цель и главное занятие.
В рассматриваемый нами период в конной армии, в особенности в шестой дивизии, выплыл наверх слой, который именно пытался из грабежа сделать главное занятие. Шестая дивизия – наиболее крупная по численности и наименее сильная политически – дольше всех других частей оставалась на позиции и больше всех была оторвана от центра армии.
… Шестая дивизия совершила ряд тяжких преступлений. В 31 полку был убит военкомдив т. Шепелев, застреливший бандита. Она устроила ряд погромов. Но где, какие именно в точности никто не знает. Не подлежит лишь сомнению, что именем шестой дивизии злоупотребляли обычные украинские банды…
В первых числах октября Реввоенсовет и Политуправление решительно взялись за дело оздоровления армии. После короткой энергичной кампании все части, за исключением 6-й дивизии, были приведены в порядок. 6-я дивизия потребовала тяжёлой операции. Она была произведена 11 октября южнее Белой Церкви у ст. Ольшаница. В этот день были разоружены три полка 6-й дивизии…
На одной стороне выстроены «преступные» полки, на другой «невинные». Реввоенсовет обходит «невинные» полки, успокаивает, убеждает, что честным бойцам бояться нечего и т.д.
Части, выстроившиеся в конном строю, удаётся спешить, устанавливается некоторый порядок, нам подают коней и мы садимся верхами.
В балке оставлена особая бригада. Доступ туда преграждён. На противоположной горке установлена артиллерия. Бронепоезда подходят и становятся тут же. Несколько лиц бегут к поездам, что-то кричат… Снова происходит некоторое замешательство. Но порядок скоро удаётся установить.
Начинается чтение приказа – этого сурового обвинительного акта. Читает Минин – громко, отчётливо. Огромная вооружённая масса стоит – не шелохнётся. Когда Минин, назвав полки, произносит раздельно, «по-складам»: «Ра-зо-ру-жить и рас-фор-ми-ро-вать» – впечатление получается потрясающее, по дивизии словно проносится дыхание смерти.
Чтение приказа наполовину решило дело. Дивизия подавлена, её угнетает тяжесть преступления. Она не успела притти в себя, как по трём полкам раздаётся команда: «Снимай оружие, клади перед собой!»
Две-три слабые попытки ослушания. Растерянные лица. Плач. Через несколько минут оружие лежит на земле.
33-й полк имел знамя от ВЦИК. Ворошилов объявляет, что полк не достоин красного знамени, что он опозорил его и оно должно быть отобрано у полка. Ворошилов берёт знамя и торжественно передаёт двум присутствующим членам ВЦИК…"
Не менее драматично этот момент разоружения описан у С. Орловского в книге «Дневник конармейца»:
«… Затем раздалась команда: «Клади оружие!» Это была жуткая минута. Казалось вот-вот дивизия дрогнет и не выполнит команды. Однако части повиновались. Комсостав и бойцы плакали навзрыд, отдавая оружие и знамёна. После этого дивизии было предложено выдать активных участников в бандитских действиях. Полки выдали 107 человек. Однако около 300 человек, догадавшись, в чём тут дело, не построились вместе с дивизией и ушли в лес. Расформированные полки называются теперь маршевыми полками. В первую маршевую бригаду командиром назначен т. Губанов, во 2-ю – т. Колесов. Из скрывавшихся людей поймано около 60 человек. Срочно в полном составе в полевой штаб прибыл трибунал, которому дано задание немедленно рассмотреть дела арестованных в связи с бандитизмом».