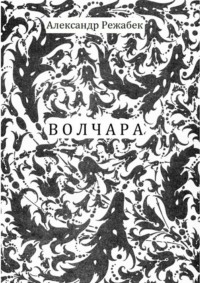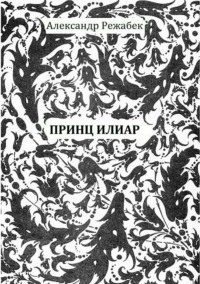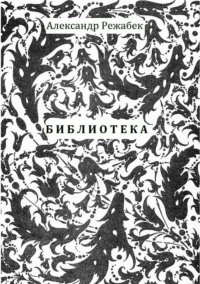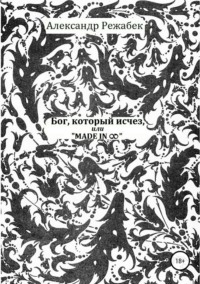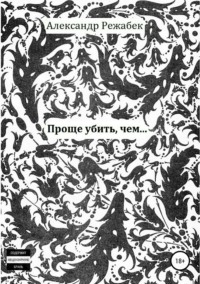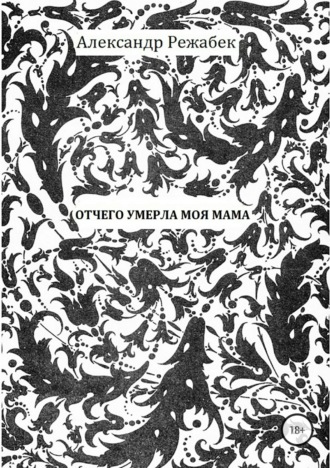 полная версия
полная версияОтчего умерла моя мама
Я, убей бог, не понимаю, как все это происходит, хотя описал простую реакцию на щекотку. А что же тогда происходит в мозгу, когда мы думаем, рассуждаем, создаем образы и понятия? Я ведь сомневаюсь, что даже при обыкновенном щекотании все задействованные в процесс электрохимические реакции настолько быстры, чтобы вызвать практически мгновенный эффект. Хотя, может, и не прав. Да и не это главное. Если все-таки продолжать сравнивать мозг с компьютером, то последний действует на основе заложенных в него извне программы и информации и не способен выйти за их рамки. Естественно, и человек пользуется своими знаниями, опытом и навыками, которые он получает извне, взаимодействуя с внешним миром, но ведь, кроме этого, он способен сам создавать программы, только косвенно зависящие или вообще не зависящие от его прежнего опыта, другими словами, абстрактно мыслить. И какое, к черту, к этому имеют отношение нейроны, синапсы и медиаторы? Это, в конце концов, пресловутый вопрос, что было раньше, курица или яйцо. Возникает ли вначале мысль, которая активирует в мозгу упомянутые электрохимические процессы, реализующиеся в действие, эмоцию или и в то и другое, или же нейроцит (то же, что нейрон, нервная клетка) «стреляет» в другой нейроцит каким-то из нейромедиаторов – неизвестно почему, так сказать, от лукавого? А последние, к тому же, различны для разных групп нейронов и отделов мозга. То есть нейрон обуславливает не только сам «выстрел», но еще и определяет, из какого отдела и чем. Так кто же тогда решает, какую часть мозга задействовать, когда в комфортных условиях, в отсутствие внешних раздражителей человек праздно, как я, просто мыслит или воображает, что делает это? Кто подает первичный сигнал и как? Трудно как-то поверить, что где-то выделяется некая субстанция Х, которая инициирует рождение мысли. Поэтому мне строго научный (т. е. механистический) подход к мышлению кажется неубедительным. Но дуракам, вроде меня, свойственно ошибаться…
В итоге мне некуда было деваться, и я пришел к предположению, что у человека есть «думалка», некий непонятно как работающий и неизвестно из чего состоящий надмозговой центр мышления. (Только, ради бога, не подумайте, что я «открыл» существование души в религиозном ее понимании.) В свое время я увлекался научной фантастикой, и однажды мне самому пришла в голову некая фантастическая мысль. Представьте, что существует цивилизация, которая живет в условиях радиоактивности и воспринимает мир только в жестком рентгеновском излучении. Земля как планета была бы ей абсолютно враждебна, но интересна, поскольку на ней обнаружилась бы странная жизнь. Биологические объекты оказались бы для пришельцев невидимы, и за жизнь они приняли бы автомобили, которые, проявляя признаки живого существа, куда-то, соблюдая порядок, движутся, а также воспроизводятся, ремонтируются, зачем-то собираются в неподвижные группы, которые впоследствии непонятно почему распадаются. Вряд ли бы гости нашей планеты посчитали такую жизнь достаточно разумной, чтобы пытаться вступить с ней в контакт, но в какой-нибудь свой каталог Землю, как любопытный феномен, наверняка внесли бы.
Вот и человек – это биологическая машина, «хозяина» которой мы не видим. А может, и не увидим никогда.
Впрочем, лишать мозг «права» на какую-то способность к мышлению я не могу. Это было бы несправедливо. Но это мышление ситуационно, то есть направлено на конкретные вопросы выживания, добывания пищи и воспроизведения. А большинство людей, как бы они не надували щеки и не воображали себя центром вселенной, в течение жизни ничем иным, кроме поиска бутерброда с самым толстым слоем масла, не занимаются. Как это ни смешно, но мозг – единственный орган в организме, которым человек не пользуется и не тренирует его. То, что давно сформулировано Картезиусом (Декартом) как cogito ergo sum («мыслю, следовательно существую»), да простят меня латинисты, провокационное утверждение. Умение выживать и приспосабливаться как следствие ситуационного мышления присуще всем живым организмам без исключения. Но я полагаю, это не то мышление, которое подразумевал Декарт. А поскольку «думалкой» мы не пользуемся, то, по Декарту, мы не существуем, то есть «мертвы». Собственных мыслей у людей практически не бывает, они прекрасно пользуются чужими, иногда считая себя при этом умными и образованными, собственной же, так сказать, «соображалки» вполне хватает на то, чтобы максимально удобно жить, кушать и спать. Но ведь «думалка» к «соображалке» никакого отношения не имеет. И ее, «думалку», нужно упражнять, иначе она чахнет, как и любой неиспользуемый орган подвергается атрофии. Для меня все разновидности возрастных деменций человека – результат неиспользования «думалки», которая деградирует, что в конечном итоге на макроскопическом и на микроскопическом уровне приводит к болезни мозга. Никакой изначальный статус пораженного деменцией человека роли не играет. Надо просто больше пользоваться «думалкой», а не только «соображалкой». Не забывайте, что в развитии деменции в первую очередь страдает способность к абстрактному мышлению, за которое отвечает «думалка», а практические навыки жизни, контролируемые «соображалкой», сохраняются намного дольше, что позволяет людям со старческим слабоумием довольно долго не представлять серьезной проблемы для окружающих.
Человеческий мозг – одна из разновидностей «соображалок» в природе. И в данном случае его аналогия с компьютером уместна. Чем больше накоплено информации и приобретено навыков, тем «соображалка» эффективнее. Но не подумайте, что я отношусь к «соображалке» с пренебрежением. Ничего подобного. Люди с хорошо развитой «соображалкой» часто большие эрудиты и лидеры в коллективах. Так оно и должно быть с точки зрения выживания человека как биологического вида. Я просто говорю о том, что существуют два уровня мышления. И если функции мозга как «соображалки» как-то можно описать с точки зрения нейрофизиологии, то как работает и что такое «думалка», мне непонятно. А если вы в этот момент хмыкнули или цыкнули зубом, посмотрите заглавие статьи.
А в этом месте мне бы хотелось вообще отвлечься от «человека разумного». Многие ученые десятилетиями бились и бьются, чтобы понять, насколько разумны наши меньшие братья. В результате этих исследований не могла не сложиться определенная градация разумности живых существ. Человек, как венец творения, естественно вне конкуренции. А дальше по степени нарастания глупости в сравнении с ним идут высшие приматы, дельфины, собаки и по нисходящей: птицы, рыбы, медузы, растения и микроорганизмы. Конечно, я не упомянул всех, но принцип, очевидно, понятен. Никому и в голову не придет считать медузу или микроба хоть капельку разумными. Но в таком представлении не отражено ничего, кроме антропоморфического подхода и катастрофической амбициозности человека. Если живое существо не поступает или не пытается поступать как человек, не вступает с ним в контакт, значит, оно не разумно. И в то же время каждое живое существо в природе находится на своем месте и преуспевает (если не случится беда и не придет человек разумный) в своей экологической нише. Вот просто так преуспевает себе потихоньку, а мозгов-то нет. Странно, не правда ли? Но для большинства критерием разумности является не успешность сосуществования различных видов на планете, а степень развитости головного мозга и, конечно же, его наличие. Как будто природа, демонстрируя человеку многообразие живых существ и тем самым неиссякаемость своей фантазии, не намекает достаточно прозрачно, что она могла бы придумать и иные биологические механизмы получения, хранения и обработки информации, помимо головного мозга, в том виде, в котором он сформирован у млекопитающих или рыб.
Я снова вынужден вернуться к тому, с чего начал. Мы познаем мир в наших ощущениях. То есть через органы чувств. Вот тут-то и зарыта собака. Для того чтобы добиться взаимопонимания с другими существами, мы должны одинаково с ними воспринимать мир. А это невозможно. Диапазоны, в котором видят, слышат, ощущают запахи другие существа в значительной степени отличаются от человеческих. И то, что для человека выглядит как разумный организованный сигнал, для нечеловека – каша из зрительных или слуховых раздражителей. Удивительно, например, что собаки с их острым слухом, для которого человеческая речь, вероятно, подобна скрежетанию ножа по алюминиевой миске, научились в какофонии звуков окружающего мира различать какие-то команды. Но мало того, что тот сигнал, который мы пытаемся передать другому существу трансформируется в его мозгу в неизвестно что, скорее всего, маловразумительное, так человек еще никогда и не задумывается над тем, что ситуационное мышление должно быть адаптировано биологической сущности объекта. А тот, как и человек, проходит те же самые стадии развития: рождается, взрослеет, достигает зрелости, стареет и умирает. Другими словами, этот процесс должен быть приспособлен к продолжительности жизни существа. Пчела – сложно организованное насекомое. Большую часть роя составляют рабочие пчелы, и их продолжительность жизни в активный сезон (не зимой) составляет приблизительно два месяца. Но ведь невозможно представить, чтобы природа человеку дала возможность прожить полноценную «счастливую» жизнь, а пчеле почему-то нет. А это значит, что эти два месяца для пчелы те же семьдесят человеческих лет с ее пчелиными терзаниями, взлетами и падениями. Из этого следует, что из расчета 60 пчелиных дней на 70 человеческих лет разница в ритме жизни составляет 1:420. Но это было бы невозможно, если бы скорость получения и передачи информации у пчел равнялась бы таковой у человека. И следовательно, можно предположить, что миг жизни пчелы равен 420 мигам человека. А теперь представьте, что какая-то слишком умная пчела решила, что и человек тоже разумен, и какому-то праздному прохожему задала вопрос, как люди себя как вид называют. И чудо, человек даже понял, что от него хотят. И, очумев на секунду от удивления, все-таки ответил. А это 420 пчелиных секунд, или 7 минут. И пчела, скорее всего, поблагодарив, тут же улетела бы от ошарашенного прохожего куда подальше. А вы бы захотели иметь дело с существом, у которого ответ на простейший вопрос занял 7 минут? У вас хватило бы терпения столько ждать? Мы для пчел – полные кретины. Одно из явлений природы. Но, впрочем, ситуация, при которой мы поняли бы вопрос пчелы, нам не грозит, потому что она теоретически должна передавать информацию в 420 раз быстрее. Мы вопрос просто не заметим. (Хочу, на всякий случай, напомнить, что мои расчеты носят гипотетический характер, и поэтому бессмысленно искать их научные источники).
Мы не знаем, как живые существа передают информацию, и каждый раз, изучая вопрос, самих же себя ставим в тупик, пытаясь впихнуть способность животных и прочих к коммуникации в рамки понятия о человеческой второй сигнальной системе. А это означает, что единственными средствами передачи и приема осмысленной информации могут являться только зрение и слух. Другими словами, если живое существо не способно понять произносимые человеком слова или зрительно воспринять знаки, которые рисует человек, то оно в уровне развития разума, по меньшей мере, ниже своего «господина».
Человек в ряду других видов возник, вероятно, в результате случайного сбоя в эволюционной программе как беспомощное создание, лишенное силы, острых зубов, нюха, ловкости и даже (а это-то почему?) шерсти. Но в компенсацию природа не лишила его «соображалки», которая в отсутствие врожденных физических преимуществ не могла не искать выход в виде использования посторонних предметов – как средств нападения, шкур животных – как одежды и укрытия от холода и т. д. Все это никоим образом не выходит за рамки способностей «соображалки», «выданных» для выживания каждому живому существу. Лось живет как лось, медведь как медведь, а человек как человек. И нет ни в первом, ни во втором, ни в третьем случае никакого разума с большой буквы. Может, единственное, что отличает человека от других, это нахальство. Впрочем, это все-таки скорее проявление генетического родства с приматами. Точнее, с мартышковыми или собакоголовыми обезьянами.
Но вернемся ко второй сигнальной системе, которая, по мнению ученых, является основой разумности. Другими словами, если бы мы не говорили, то и не думали бы. Хотя интересно, можно ли говорить, не думая? Я знаю, что последнее умеют делать многие, но я имею в виду доисторическую эпоху. Как мог заговорить первый человек со своим соплеменником, если бы у него перед этим не возникла мысль, что с помощью звука можно передавать информацию? А значит, человек вначале подумал, а потом заговорил.
Мне однажды удалось услышать одно совершенно гениальное, но смешное научное объяснение лучшего развития мозга человека по сравнению с его родственниками-приматами и другими млекопитающими. Оказывается, дело в том, что в процессе эволюции и мутаций у части наших с приматами предков появились особи с недоразвитой жевательной мускулатурой. Двумя основными жевательными мышцами высших млекопитающих и человека являются mm. masseter и temporalis, которые вы легко можете на себе прощупать, имитируя жевание, в височной области и в месте сочленения челюстей. У животных они намного более развиты, поэтому они и кусаются сильнее. Но, поскольку жевательные мышцы крепятся к костям свода черепа, их напряжение в процессе жевания ограничивает рост черепной коробки и, следовательно, мозга. Так вот, недоразвитие этих мышц у предка человека привело к тому, что череп, а вместе с ним мозг, могли достичь больших размеров. Человек «разумен», потому что когда-то плохо жевал?!
Итак, речь, неважно устная или письменная, – краеугольный камень разумности. Другие, «глупые» существа, не говорят. Они не обладают соответствующими анатомическими особенностями речевого аппарата, а орган слуха по диапазону различаемых частот отличается от человеческого, и, следовательно, мы не можем знать, в каком виде сигнал доходит до нашего меньшого брата. Нет соответствия и в зрительном восприятии человека и других существ. Мы передаем им то, что понятно нам. А у животных возникает другой вопрос: что от них хотят. Наш по-человечески упорядоченный сигнал для существа с иным восприятием может выглядеть хаотичным и бессмысленным. Можно долго пытаться научить человека летать, но он вряд ли это когда-нибудь сделает, так и ни одно животное невозможно научить адекватно понимать человеческие сигналы, особенно, если они будут касаться отвлеченных понятий. Хотя многие существа, вне зависимости от того, спровоцировано это контактом с человеком или без него, доказывали, что ведут себя даже с человеческой точки зрения разумно. Но, кроме непродолжительного удивления сообразительностью питомца, это никогда ни к чему не приводило. А эффективность всяких якобы научных методов проверки способностей находящихся в неволе животных к аналитическому мышлению, основанная на поощрении-наказании, а не на сознательном участии испытуемого, вообще сомнительна в силу нечистоты эксперимента. Если бы какой-нибудь не в меру любопытный, но могущественный пришелец поймал группу людей и за еду или спаривание заставил бы их проходить лабиринты, разбирать пирамидки и заниматься прочей ерундой, вы повели бы себя не слишком отлично от лабораторных крыс. Кстати, крысы – очень умные существа.
Для того чтобы общаться с другими существами, у нас с ними должна оказаться одинаковой, если можно так выразиться, система координат, т. е. порядок приема и передачи взаимно понятных сигналов, а также совпадение скорости их восприятия. А это практически невозможно. Ведь даже с заведомо «умными» и анатомически близкими созданиями возможности взаимопонимания ограничены. Так свидетельствует ли это о том, что человек умнее? Или, наоборот, глупее? Взаимоотношения хозяин-раб, которые, в сущности, определяют ситуацию в экспериментах над животными, как бы зоологи не верещали, что обожают своих подопечных, не способствуют пониманию, кто из участников более разумен.
Человек – малюсенький элемент эволюции и общей картины мира, и, как и все другие элементы, участвует в процессе естественного отбора как внутри вида, так и между ними. И никакой исключительной роли не играл и не играет. И так же, как он использует другие живые существа в своих интересах, так используют и его самого. Я имею в виду не только микроорганизмы, клещей, комаров и прочие божьи твари, питающиеся его плотью и кровью, или животных, паразитирующих на человеческой цивилизации, вроде крыс. Однажды я задумался, каким образом животные попадают в питомники и зоопарки? Очевидно, что, подобно другим хищникам, человек вне зависимости от цели охоты убирает из популяции самых слабых, больных и глупых. Но, если принять во внимание то, что я считаю все живые существа не менее разумными, чем человек, то полагаю, что определенный (может, и немаленький) процент оказывающихся в неволе животных попадается охотникам сознательно, в расчете на гарантированные питание и уход, потому что сами по тем или иным причинам не могут обеспечить себе выживание на воле. Естественно, такая добровольная сдача в плен несет в себе немалый риск, но, видимо, нередко окупается. Человек в большинстве сердоболен к других живым существам, особенно, симпатичным, что нельзя сказать об его отношении к себе подобным.
Мне всегда оставалось неясным, почему человек считает, что исключительно он обладает способностью к передаче осмысленной информации. Это ведь чистейший обратный антропоморфизм. Если ты не можешь, как я, человек, значит, не можешь вообще. Я не знаю, как и какую осмысленную информацию передают друг другу живые существа, но вряд ли кто-то сомневается, что у них иная система перцепции, сходная с человеческой только по аналогии. А следовательно, методы коммуникации могут быть иными. Но, как всегда, амбициозный человек разумный, признавая, что существует внутривидовое общение живых существ между собой, тем не менее отрицает, что это может происходить осмысленно. И все потому, что сам он предмета разговора понять не может.
Я не знаю, как общаются «нелюди», но звук для части из них, вероятно, не играет роли в передаче осмысленной информации и служит только для выражения эмоций или самоидентификации на территории обитания, а для части, если и используется для передачи осмысленных сигналов, то в диапазонах частот, недоступных человеческому уху или же со скоростью, при которой человек не успевает различить нюансы и воспринимает звук просто как шум.
Мне всегда казалось необыкновенно таинственным такое сложное чувство восприятия, как обоняние. Ухо воспринимает колебания воздуха. И все. Глаз – свет. И все. А нос умеет не только воспринимать молекулы веществ, но и различать их. (Но только не нос человека, способности которого примитивны и ограничиваются, за некоторым исключением, в основном делением запахов на приятные и неприятные.) Мне не хотелось бы принижать эффективность зрения и слуха в анализе информации, я просто хочу подчеркнуть, что существует их принципиальное отличие от перцепции обонянием. Прежде всего, и глаз, и ухо воспринимают информацию не прямо, а косвенно, или как свет, отраженный от объекта, или как звук, издаваемый объектом сознательно или случайным образом. И физическая основа сигнала для этих органов чувств всегда одна и та же – свет и звук, которые внутри самих себя различаются только в количественном отношении или в соответствии со специфическими для их природы характеристиками, такими, как спектр или частота. Нос же или другой орган обоняния (змеи, например, «нюхают» языком) различает сигналы качественно, непосредственно реагируя на молекулы вещества, составляющие сущность самого объекта.
Живые существа также, вероятно, делят запахи на приятные и неприятные, но способность к их распознаванию в разы превышает человеческую, и отношение к ним иное. Животные, в отличие от человека, принюхиваются друг к другу. И таким образом общаются. Но есть ли в запахах осмысленная информация? С нашей точки зрения, процесс выделения веществ, формирующих запахи, чисто рефлекторный, и дальше уровня феромонов человек в понимании запаха как источника информации не продвинулся. А значит, и обнюхивание, с его точки зрения, носит ознакомительный, но бессмысленный характер. Но так ли это? А кто его знает. Но если представить, что животные сознательно умеют регулировать свои запахи выделением микроскопических количеств тех или иных веществ, то запах как источник и способ передачи информации становится уникален, а обоняние как средство анализа куда более эффективным, чем зрение и слух.
Органы обоняния (в том числе и человека) совершенны настолько, что способны учуять единичные молекулы веществ. И представляете, сколько информации можно на молекулярном уровне закодировать в запахах. Естественно, человек вряд ли придет в восторг от такого способа общения, зная, какими способами запахи «создаются» живыми существами, но он человек, и ограничен рамками своего человеческого восприятия. А я не вижу причин не видеть в запахах аналогию со звуком. Они, как и звук, не только могут быть просто сигналом присутствия того или иного существа, выражением эмоции или физиологической потребности, но и нести осмысленную информацию. В конце концов, такая «мудреная» и недоступная нашим меньшим братьям речь – это всего лишь механический процесс сокращения-расслабления нескольких групп мышц, происходящий в фазе выдоха, и движения воздуха через изменяемый «струнами» голоса, голосовыми связками, просвет гортани.
Я предвижу хохот читателей, которые скажут, что мои аргументы абсурдны. Человек ведь доказал превосходство своего разума тем, что господствует на планете и создал неуклонно прогрессирующую техническую цивилизацию, в то время как другие живые существа с трудом борются за сохранение status quo и постепенно проигрывают человеку в конкурентной схватке в процессе естественного отбора. Возможно, читатели и правы. А может быть, и нет.
Человек на Земле не господствует, а находится в иллюзии собственного господства. Если уж на то пошло, то наиболее преуспевающими живыми существами на планете, скорее всего, являются микроорганизмы и насекомые. А что касается цивилизации как признака разумности, то здесь есть о чем поговорить.
Природа, как я уже говорил, создала человека по физическим данным ущербным. И если бы не «соображалка», то он, вероятно, вел бы жалкое существование последнего в иерархии подобных видов падальщика, доедая то, что не доели другие, или промышляя воровством. Даже охотиться на более мелких и слабых существ он был бы неспособен, так как недостаточно проворен и ловок. Разве что на насекомых, которые понеповоротливее. Но природа любому из своих детей дает шанс. И человеку она дала ловкие руки, чтобы пользоваться посторонними предметами, и язык, с помощью которого он мог научиться общаться и передавать информацию. Не высший разум, а средства, которые при соответствующем использовании «соображалки» позволили бы человеку выжить. Поэтому, с моей точки зрения, вся утилитарная часть человеческой цивилизации – это продукт активности «соображалки», мыслящей ситуационно в пределах потребностей выживания. Она не хуже и не лучше подобной у других существ, но, поскольку те изначально более приспособлены к внешним условиям, работает в ином режиме, в большей степени используя для адаптации к условиям природы внешние факторы. Помните поговорку «на фига козе баян»? Она очень точно отображает отношение представителей живой природы к результатам «разумной» деятельности человека. Впрочем, человеку муравейник тоже не нужен.
Очевидно, что на этом этапе контраргументация должна коснуться хранения и передачи информации от поколения к поколению, отсутствующих у «нелюдей».
Человеку свойственно замечать только то, что ему хочется заметить, а остальное отметать вообще или относиться как к чему-то несущественному. Так человек разумный поступил и с так называемыми инстинктами животных. Не умея объяснить природу сложноорганизованного врожденного и достаточно разумного поведения живых существ, он назвал его инстинктом, как будто это что-то кому-то объяснило. Почему птица умеет строить гнездо, хотя ее никто этому не учил? Почему некоторые виды змей, только вылупившиеся из яйца и беззащитные перед другими хищниками, умеют притворяться мертвыми и издавать трупный запах? Кто это объяснит? Вероятно, ответ прост. Это, конечно же, можно назвать инстинктом. Или еще как-то. Человек почему-то начинает себя чувствовать увереннее, когда дает название какому-нибудь процессу или явлению. Это заменяет ему понимание.
Но в данном случае речь, видимо, идет о наследственной памяти. То есть то, что человеку приходится в каждом поколении учить заново, в природе может передаваться генетически. По-видимому, и в таком пустяке, как наследственная память, природа человеку тоже отказала. Поэтому, очевидно, ни слонам, ни бегемотам, ни крокодилам, ни прочим тварям божьим не нужно держать штат учителей, чтобы обучать молодняк слоновой или крокодильей таблице умножения.