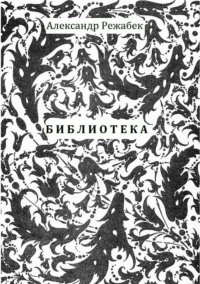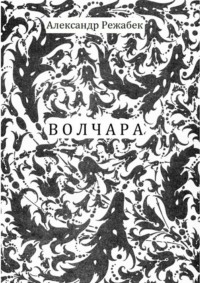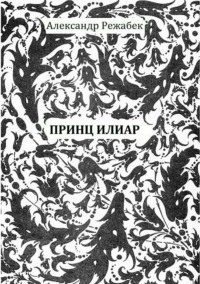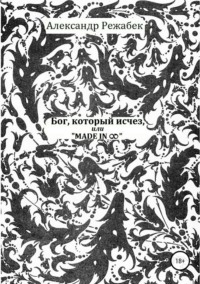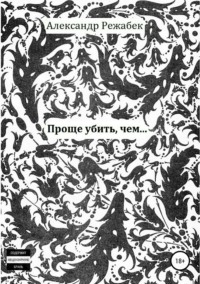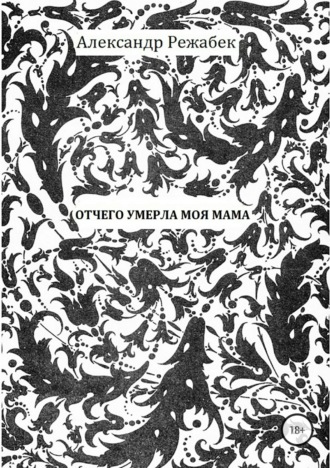 полная версия
полная версияОтчего умерла моя мама
Понятно, для меня это было удручающе. Наша встреча с Евгением стала неизбежной. Режабек был высокомерен. Когда речь зашла о Гале, о том, что в этой ситуации она часто плачет, он, усмехнувшись, обронил:
– Пускай поплачет, ей ничего не значит.
Формально встреча закончилась ничем. Однако я на нее шел с очень тяжелым сердцем, а уходил, как ни странно, с облегчением. Я разговаривал не с монстром, который успел вырасти в моем воображении, а вполне с человеком. С человеком, в котором вопреки его внешнему поведению можно было ощутить неуверенность, в нем не было тяжеловесной Каренинской убежденности в своей заведомой, от бога данной правоте во всем. А главное, я понял, что просто превосхожу его в своем чувстве к Сашке, которое, оказывается, росло параллельно с любовью к матери мальчишки. И коль скоро будет борьба за него, я с таким «боезапасом»… обречен на победу.
Между тем, в глазах других лиц, заинтересованных в судьбе дитяти, – Галиных мамы, отчима, брата, деди, буси – как только им стало известно о намерении отнять мальчишку у Галуси, Жора из абсолютно пристойного молодого человека мгновенно превратился в чудище, достойное только судьбы изгоя. Маленький Сашка жил у них, и когда мы в очередной раз на два дня мотнулись из Ростова в Донбасс, то обнаружили, что он называет Евгения Ярославовича не иначе как – «тот паразит».
Гале, умученной тянущимися разводными сумятицами, это, кажется, даже понравилось. Но я, отловив ребенка, раскачивавшегося в саду на нижней ветке яблони, сказал, чтобы больше он так не говорил. И он не говорил – при мне. Но, лукавый бесенок, в мое отсутствие предавался вольной языковой стихии полуроссии-полуукраины, включая и полюбившееся то ли имя, то ли ругательство – «тот паразит». Я делал вид, что не замечаю этого, поскольку он все же как-то дисциплинирует себя по моему наказу. И рано или поздно эта грубость из него выйдет: как говорится, от внешнего к внутреннему. (Кажется, это – по Мейерхольду?) А когда мы уже втроем вернулись в Ростов, эта брань была категорически запрещена в доме.
… Я увидел Режабека еще раз примерно вскоре после 90-го года. Евгений позвонил Гале. Он был в Москве на научной конференции и сказал, что хотел бы что-то узнать о нашем Сашке. Тот незадолго до этого уехал из СССР вместе со своей семьей. И как раз накануне мы получили видеопленку со сценами их тамошней жизни. Галя пригласила бывшего мужа приехать и посмотреть ее. Я пришел домой с работы, когда Режабек уже собрался уходить. Мы поздоровались и пожали друг другу руки – прощаясь.
От той встречи осталась в памяти деталь из рассказа Гали. Евгений сказал ей, в общем-то не шутя, что она проявила дурость, не подав заявления на выплату алиментов, что это были бы очень неплохие суммы. Ясное дело: профессор, зав. не только многими институтскими кафедрами марксизма-ленинизма, но и настоящими научными учреждениями. Но Галя-то хорошо понимала, что, получай мы те деньги, я, наверное, не мог бы полнокровно ощущать, что Сашка – мой.
«Среди разных бумаг на верхней полке лежит у меня одно тайное письмо, – так начинается мой очерк, написанный в первую половину «нулевых» годов. – Собираясь рассказать эту историю, хотел достать его. Но подумал: зачем? Главное там для меня – первая страничка. А я ее и так помню».
Написал я этот очерк и… не отдал ни в какую редакцию. Сегодня я кое-что изменил бы в том тексте, как-никак автор, имею право. Но… не буду.
«…Все началось давно. Я, начинающий журналист, в одной редакции познакомился с прекрасной молодой женщиной. Так случилось, что я занял, не подозревая сего, предназначавшийся ей пост. Это не помешало мне влюбиться в нее, и, как ни странно, взаимно. Она была жена профессора (или без пяти минут профессора, не помню). Для меня это не было важным. Как не было важным и то, что у нее был маленький сын. Хорошенький двухлетний парнишка, в которого тоже трудно было не влюбиться (а кто из малышей такого возраста не мил и не неотразим?). Жизнь складывалась так, что вдвоем нам встретиться было трудней, чем втроем – я, она и мальчик по прозвищу Хока. У того оказался хороший, дружелюбный нрав.
В тот день, когда я впервые пришел в их общежитскую комнату (профессор был вытеснен как-то без меня – мои нелегкие встречи с ним были еще впереди), Хока – а ему к тому времени было уже четыре года – взял и назвал меня «папой».
– Разве он тебе папа? – удивленная, спросила мать.
– Папа! – твердо ответил мальчишка, без колебаний взяв на себя добрую половину моей мужской ответственности. Так впервые мы с ним совершили один мужской поступок на двоих.
Как я сообразил позднее, он в тот момент, видимо, в первую очередь думал о матери, которую любил безмерно, и о ее, прямо скажем, двусмысленном по отношению к нему положении.
С тех пор я как-то не верю в инфантилизм маленьких детей, в их неспособность «врубиться» в суть взрослых отношений, не разобраться, где и в чем им самим будет лучше. …Малышу лучше не там, где ему благополучнее, а там, с кем ему лучше. А это знает только он. И никто больше.
…Я помню странный случай в школе, на выпускном вечере сына. Потеряв его из виду, мы побрели разыскивать его по казенному и довольно пустынному зданию. Зачем? Не знаю сам. Мы открыли дверь спортзала – и едва успели увернуться от несущегося прямо на нас… стула, пущенного в полет сильной и меткой рукой нашего чада. Конечно, этот снаряд был предназначен не нам, а первому попавшемуся. Однако мать все равно разобиделась и, несмотря на все уговоры мальчишки, покинула поле предстоящего торжества.
Я думаю, она до сих пор не поняла причину «немотивированного вандализма» собственного дитяти.
Дело в том, что он ухитрился записаться в первый класс под моей фамилией – так ему захотелось, а мне, легкомысленному, это было приятно. В другом городе, где мы потом жили, это же проделать было уже легче. И в Москве – тоже. Подлог вскрылся перед экзаменами на аттестат зрелости. Надо было или срочно официально менять фамилию, или переоформлять все школьные документы.
Парень послал письмо родному отцу. И получил от него разрешение на перемену фамилии. Но… пришел ко мне.
– Скажи, тебе очень важно, чтобы у меня была твоя фамилия? Тогда я сейчас иду к нотариусу.
– Нет, меня не волнуют формальности, – ответил я.
– Спасибо, – сказал он, и я не понял, порадовал я его своей «сговорчивостью» или обидел «безразличием». Меня это тревожило. Его, видимо, еще больше.
В общем, аттестат зрелости ему был выписан на фамилию родного отца. А скопившаяся по этому случаю нервная энергия – дурная ли, благодатная ли – погнала его в тот вечер неведомо куда, и он схватился за первый попавшийся в руку предмет и, как говорят судейские, в не совсем вменяемом состоянии метнул в того, кто первым раскрыл дверь. А им оказался я.
…Бог ты мой! Какая это ерунда по сравнению с множеством известных мне (по роду службы, разумеется) случаев, происшедших на почве разводов и усыновлений. Про удочерения я вообще не говорю – там слишком часто все бывает еще в тысячу раз сложнее. Вот что для меня ясно: чем меньше взрослые вмешиваются в чисто формальную, даже юридическую сторону дела, тем лучше для всех – и для детей, и для самих взрослых. Единственно с чем надо бороться беспощадно – с проявлениями насилия в любой форме, физической ли, психологической, моральной. Не наше это собачье дело, с кем жить человеку, под какой фамилией, кого любить и почитать родным, а кого просто дяденькой или тетенькой. Что бы там ни говорили высоколобые юристы. Они ведь все равно всё со всех взыщут что положено. Ну, и ладно. А человеческое – человекам.
…Он пришел ко мне лет пятнадцать назад.
– Батюшка! – с каких-то пор он нашел, как ему кажется, самое точное обращение ко мне – «батюшка», а мне оно понравилось, так и живем. – А как бы ты отнесся к тому, если бы я со своей семьей уехал из страны?
То была еще пора довольно вонючего (это я о «Гастрономах» да столовых) социализма.
– Но почему?
– Потому что жить здесь – это для меня каждый день терять чувство собственного достоинства.
– Это правда?
– Правда.
– Тогда уезжай.
И уехал.
А я потерял что-то. Теплое, к чему можно было бы прислониться, согреться. Доброе, на которое можно было рассчитывать. Сильное, потому что молодое.
Но вскоре многое изменилось! Оказалось: можно ездить в гости. Оказалось: можно перезваниваться. И, в принципе, можно уезжать и приезжать. Ругайте демократию как хотите, но уже из-за одного этого она благословенна.
…И вот та первая страничка письма, которая запомнилась наизусть.
Сверху красным карандашом: «Персонально». И так же красным подчеркнуто: «Батюшка!..»
«Ты среди нас самый умный и самый рассудительный. Написал я, понимаешь ли, письмо всем вам, а потом стал мучиться, стоит его посылать или нет, потому что… Ты уж будь любезен, прочти и сам реши, что сказать, что нет, или вообще отнести письмо к разряду сугубо личных, направленных только тебе».
Под каждой крышей – свои мыши. Тем более в семье. Деликатные обстоятельства, о которых шла речь, могли кое-кому показаться обидными. Он опять думал о своей матери. И невольно стребовал с меня должок, выданный им в четыре года: теперь я должен был принимать наше окончательное решение.
Мы с ним не показали это письмо никому. И правильно сделали.
…А у него уже растет третий ребенок. Может, пора его усыновить?..»
Мы с Сашкой сумели стать близкими друг к другу. Вся предыстория, где он – подкупающий милотой малолетка, не имеет к этому касательства. Это заблуждение многих – считать, что наши родительские отношения с малыми детьми перетекают потом во взрослые. «Он уже мужчина, а для меня – все равно маленький»… Эту ставшую притчей во языцех неправду, придуманную, мне кажется, некими равнодушными газетчиками «для утепления» изначально остылых, фальшивых фигур в своих сочинениях, кое-кто ошибочно воспринимает как норму естества. И нередко расстраивается: почему у меня не так? А не так у всех психологически нормальных. Я занимался этой темой (конечно, не более как журналист), и при случае, может быть, поделюсь своими соображениями. А пока хочу высказать одно из них: отношения между родителями и выросшими детьми в большинстве случаев устанавливаются, как у всяких двух людей при их знакомстве. Мы друг друга открываем для себя. Прежние чувства при этом могут играть роль. Но чаще – нет.
Да, «в сплошной лихорадке буден» бывает трудно уловить момент этого знакомства, поэтому «вдруг» проявившиеся «новые» черты единокровного человека или его поступки могут оказаться обескураживающими, повергающими в недоумение.
Но я знаю и день, и час, когда моя жизнь пополнилась новой эмоцией. Ощущением человеческой близости к выросшему сыну. Обстоятельства, сопутствовавшие этому, скорее всего, случайные. Однако без их знания рассказ будет непонятным.
…Он уже был врачом, успешно работал и решил поступить в аспирантуру. Вдруг почему-то ему отказали в праве участвовать в конкурсе на поступление, не помню, к чему придрались – то ли к сроку подачи документов, то ли еще к чему. Кто должен был восстанавливать справедливость? Конечно, батюшка.
Естественно, я стал искать коллег, имеющих выход на министра здравоохранения. И нашел – но не министра, а его зама. Но зато нашел быстро – через коллегу в своей же редакции. А время в этом случае играло большую роль.
Работа в редакции журнала «Журналист» выработал во мне привычку, читая периодику, собирать вырезки по темам, почему-либо интересующим меня. Часто без всяких целей – вдруг пригодится. И вот по этому случаю заглянул в большой конверт с публикациями о сохранении здоровья. Там оказалась россыпь аспектов проблемы. Их было слишком много для телефонного разговора. И для его продолжения заместитель министра пригласил меня прийти к нему.
Я с самого начала раскрыл карты: рассказал о несправедливости, проявленной по отношению к моему сыну, и попросил помочь. Собеседник взглянул на настольный календарь:
– Боюсь, сроки прошли. Ну, ладно, там у меня знакомый ректор, спрошу у него.
Затем два часа мы говорили на темы здоровья и об их освещении в прессе. Как обычно в таких случаях, я пообещал ему, доктору меднаук, кандидату философии, заслуженному врачу РСФСР, через два дня прислать предварительный текст его статьи.
Уже нынче, через тридцать пять лет, я раскопал эту статью под названием «Здраво о здоровье» и с удивлением подумал: ее и сейчас можно опубликовать, было бы и интересно, и полезно.
Но рассказ о другом. О том, как поутру Саша пришел к нам принять душ, как он всегда делал после суточного дежурства в инфекционной больнице на Соколиной горе, чтобы не дай бог не притащить в свой дом какую-нибудь заразу: там был младенец, наш первый внук. Я уходил на работу, когда он, справившись, не забыл ли я про его просьбу, сказал с недоброй усмешкой:
– Ну-ну, посмотрим, какой у тебя журналистский авторитет.
Я в спешке только махнул на него рукой. И вспомнил эту фразу через сутки, когда на следующее утро взял в руки гантели. Без гантелей в этой истории не обойтись. Однако они ни в коей мере не свидетельствуют ни о какой моей спортивной сущности. Совсем наоборот. Физкультура была моим самым нелюбимым, после черчения, предметом и в школе, и в университете.
В 32 года у меня прихватило спину. Да так, что даже в постели не повернуться. Кое-как на такси доехал до поликлиники. Сжав зубы, взобрался на стол для рентгена. Пока – долго! – проявляли пленку, в голове клубились страшные мысли. Наконец, помахивая гибкими черными листами с изображениями моего костяка, появилась врачиха и весело объявила:
– Грыжа Шморля!
– И что же делать?
– А ничего, ждать, когда следующая появится. И впредь не поднимать более двух килограммов.
Галю тогда устрашило всего больше само название «грыжа Шморля», а меня предупреждение насчет двух килограммов. Как только прошел приступ, я тут же купил гантели. И надо же – угадал! Как многократно выражались авторы очерков из моего тематического конверта, «болезнь отступила». Конечно, в отличие от их героев я не полюбил физкультуру как родную, но от гантелей как от счастливо найденной панацеи боялся отказаться, принимал возню с ними как медицинскую необходимость.
Так вот, в тот день в руках у меня были гантели, а в голову абсолютно по-новому влетела вчерашняя фраза: «Посмотрим, какой у тебя журналистский авторитет». Вдруг все мое существо захватила волна такой всепоглощающей обиды… Во-первых, мне в голову не приходило как-то связывать семейные заботы с бесчувственным понятием «авторитет», хотелось верить, все идет от любви. А главное, подумалось, вот она, цена всех отношений: ты мне – я тебе. И где – в нашем доме. Было так горько!
Уже потом, вспоминая об этом, я оценил меткость расхожих русских фразеологизмов. Например, «убийственное слово». Или: «опустились руки»; «все валится из рук». Именно так и было. Сначала руки без моего ведома опустились. Потом из них вывалилось все, что было – гантели. А затем и я сел на пол. Тут еще можно было бы сказать: «ноги не держат». Но это было бы неправдой. Ноги – они устойчивые. Просто сел, как обиженный ребенок.
А тут на шум пришла Галина. Делать нечего, рассказал, как все было.
День прожил с сердцем как бы замороженным. А вечером пришел Сашка.
– Батюшка, ты что, обиделся? Брось, я же просто пошутил.
Но я-то знал, это была не шутка: я видел его лицо. Однако внутри потеплело.
– Да плевал я на эту аспирантуру! Пойду вон лучше на «Скорую помощь». И деньги, и практика… Батюшка, ты же знаешь, как я тебя люблю.
– Не знаю.
– Ну, так знай. Я тебя люблю.
Я ему таких слов никогда не говорил. По-моему, и он мне тоже. Вот с той секунды в моей жизни появилась еще одна внутренняя опора. Мне ничего не надо от него – только бы ее ощущать.
Мы не часто общаемся. Но мне хватает звучащих в моем сознании отзвуков его голоса.
Очень близко оказались его и мой день рождения. Кажется, только что звонил и поздравлял его. А вот пришел и мой день. И первый утренний звонок был его.
– Ну, ты же знаешь, почему я звоню?
– Не знаю.
– Батюшка, я люблю тебя.
– И я тебя тоже.
Александр ЩЕРБАКОВ
(Из книг «Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой» и «Шелопут и прочее»).
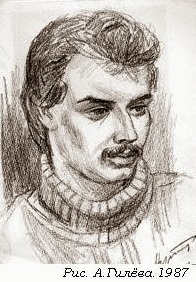
Александр Режабек (1957–2013) – родом из Челябинска. Юность провел в Москве, где окончил среднюю школу с углубленным изучением английского языка, затем – Второй медицинский институт им. Пирогова. Работал в инфекционной больнице, защитил кандидатскую диссертацию на тему «Динамика тромбоксана А₂ и простациклина и их связь с факторами клеточного и гуморального иммунитета у больных менингококковой инфекцией».
С 1990 года жил в Израиле, где подтвердил статус врача высшей квалификации и более пятнадцати лет практиковал в одной из крупнейших клиник страны. Соавтор американского патента по кардиологии.
Сын известной советской и российской писательницы Галины Щербаковой («Вам и не снилось»). В Израиле живут трое его взрослых сыновей.
Помещенное в этом сборнике эссе «Отчего умерла моя мама, Галина Щербакова» было напечатано в книге «Этот славный человечек. Галина Щербакова в воспоминаниях» (Ridero, 2016), а очерк «Ученик чародея» – в литературно-художественном альманахе «Римон» (Израиль, выпуск 5, 2008).
Примечания
1
Речь о сочинении нашей дочери Екатерины, выпущенном ею в свет перед уходом ее матери, моей жены, из жизни. В нем сказано о том, что мама (и я тоже) обделила дочь практически всем: едой и одеждой, родительским вниманием и навыками житейских премудростей, опытом повседневного вкуса, культурных запросов и средой умственного развития, а главное – заботой о ребенке и материнской любовью. (Прим. составителя.)
2
Есть другая версия первопричины этого курьеза, порожденная моим воспоминанием. Вот оно. «Мне всегда казались ненужными, более того, коробящими наши отношения мысли о …бюрократическом оформлении типа усыновления. Когда Сашка стал большим и пришла пора выписывать аттестат зрелости, он спросил: «Батюшка, тебе очень важно, чтобы в нем была фамилия Щербаков?» (До того момента он десять лет учился под этим неймом, взяв и самовольно записавшись под ним еще в первом классе. Нам, легкомысленным взрослым, это было тоже «прикольно». Но документ о среднем образовании надо было оформлять в соответствии со свидетельством о рождении.) Я не раздумывал и секунды: «Какая разница, что там будет написано?» (Мемуарная книга «Шелопут и прочее». – Прим. составителя).
3
Приведенное название «Роман и Юлия» – пример обманчивости людской памяти. Нет ни одного свидетельства такого заголовка повести. Огромное число людей почему-то уверено, что она поначалу именовалась как «Роман и Юлька», но никаких следов и этого названия не сохранилось. Сама Галина в рассказе об истории публикации повести написала: «Убейте меня, но я не помню, как она называлась сначала». То же самое говорят и бывшие сотрудницы отдела прозы журнала «Юность». (Прим. составителя).
4
Медицинский термин. Сенильные психозы – то же, что старческие психозы. – Ред.
5
Побочный эффект.