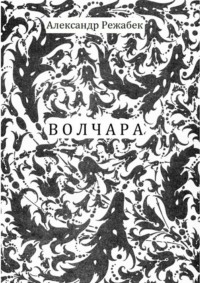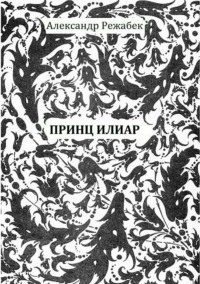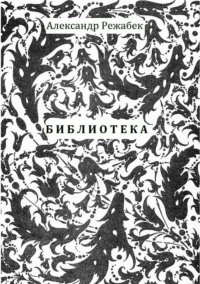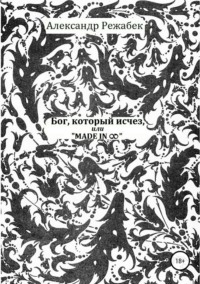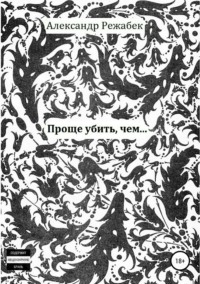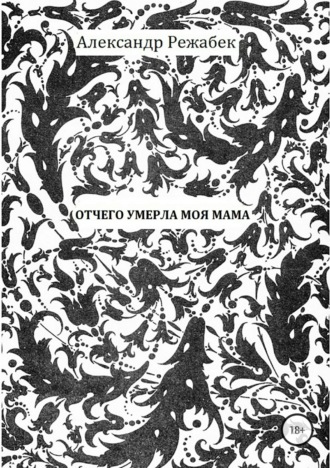 полная версия
полная версияОтчего умерла моя мама
В начале статьи я высказал далеко не оригинальное предположение, что человек, как, вероятно, и другие живые существа, обладает двумя уровнями мышления. Первый практически постоянно находится в состоянии активности, это «соображалка»: ситуационное мышление живого существа, которое служит единственной цели – выживанию и адаптации к внешней среде. Оно изначально утилитарно. Второй уровень – загадочная «думалка», скорее затрудняющая, а не облегчающая жизнь тем, кто чрезмерно ею пользуется. Как в поговорке «если ты такой умный, так что же ты не богатый». Мышление на уровне «думалки» бесцельно, служит не решению задач повседневной жизни, а скорее созданию бесконечной цепочки вопросов, на которые нет и не может быть точных ответов. А запутавшись в паутине вопросов, человек в конце концов сдается. Кто раньше, кто – позже, и, изменив потребностям своей «думалки», заменяет собственное мышление ссылками на «авторитетные» источники. А ими могут быть кто и что угодно. От священных книг до командира взвода. Цели «думалки» абстрактны, ее сущность – это мышление ради понимания. А последнее не приносит ничего, кроме разочарований и редких мгновений собственного удовлетворения. Так зачем же копья ломать? Понимание, и только оно одно, – цель и конечный продукт деятельности «думалки». Естественно, что «соображалка» и «думалка» работают во взаимодействии, но последнее не является непременным. Решение головоломных математических задач не обязательно приведет к открытию какого-то нового математического закона, а какая-нибудь новая философская концепция существования мира скорее всего так и останется на бумаге, доступной пониманию нескольких специалистов.
А какое это имеет отношение к разумности или неразумности иных, помимо человека, существ? С моей точки зрения, прямое, потому что исключает возможность взаимопонимания на более глубоком, чем «подай-принеси» уровне отношений. «Соображалка» «нелюдей» приспособлена, с точки зрения скорости работы и реакций, потребностям конкретного существа, а человек в этой системе выступает только как фактор внешней среды, к которому приходится приспосабливаться. «Думалка» же «нелюдей» вообще находится вне сферы нашего разумения, потому что для того, чтобы понять философию мухи, нужно быть мухой.
Кстати, о мухах. Вы когда-нибудь задумывались, отмахиваясь от этих назойливых насекомых, почему в полете они совершают так много бессмысленных движений из стороны в сторону? Опять инстинкт? Инстинкт чего? В большинстве случаев разозленный человек или, скажем, корова слишком медлительны, чтобы представлять опасность для мухи, так зачем же она в полете дергается туда-сюда? Ведь любой процесс требует затрат энергии. Получается, что муха зря расходует силы? А может, она передает или собирает информацию на каком-то недоступном нашему пониманию уровне? Или пишет какими-нибудь феромонами мушиный трактат «О роли двуногих в сохранении популяции навозных мух»?
Но ведь очевидно, что человек, а не другие существа господствует на планете. Он создал цивилизацию, научился лечить болезни, полетел в космос, скажете вы. А факты трудно оспаривать.
Но человек создал не цивилизацию, а тот же муравейник. Только на своем человеческом уровне. И в соответствии со своими «инстинктами» продолжает этот муравейник развивать и укреплять, пока, как и всему, тому не суждено будет разрушиться.
Существует бросающаяся в глаза странность в степени развития разных человеческих популяций. Вряд ли некий антрополог рискнет заявить, что мозг ребенка, родившегося в каком-нибудь до сих пор живущем примитивными охотой и собирательством племени, отличается от мозга ребенка европейца. Ни у кого не вызывает сомнения и то, что малыш дикаря, выращенный и воспитанный, скажем, в Лондоне, может стать таким же «кокни», как и другие, или же, если будет хорошо учиться, профессором Оксфорда. Но причина разницы в степени развития народов, при которой одни идут по пути создания технической цивилизации, цель которой – подчинение природы интересам человека, а другие, наоборот, сохраняют патриархально примитивные, но гармоничные взаимоотношения с природой (хотя обычные признаки «цивилизации» у них тоже присутствуют), совершенно непонятна. У «примитивных» народов есть своя религия, эпос и представление о мире, есть простейшие орудия труда и средства охоты, но почему-то их «соображалка» словно спит, они не занимаются изобретательством и не прогрессируют. Потому что не клюнул жареный петух? Или же «инстинкт» создания цивилизации не является основополагающим и доминирующим, а только одна из возможных форм адаптации?
Самое странное, что одним из самых очевидных доказательств разумности человека и человеческой цивилизации мы считаем то, что совершенно абсурдно с точки зрения эволюции и законов биологии, то есть безудержное размножение гомо сапиенс и повсеместного распространения его популяции. Я, конечно, не настолько идиот, чтобы оспаривать целесообразность землепользования или разведения скота для пропитания, но, разбирая в целом концепцию выживания человека разумного, не вижу в этой экспансии признаков именно разумности и целесообразности.
Вселенная существует в состоянии равновесия, нарушение которого и на микроскопическом, и на макроскопическом уровне вызывает автоматическое включение не всегда доступных нашему пониманию обратных процессов его восстановления. Природа, как ее живая часть, находится в постоянном взаимодействии двух противоположных процессов: выживания и умирания, на крайних полюсах которых находятся начальная и конечная точки жизни вообще: рождение и смерть. И изменить это нельзя. Даже надежды на клонирование как пути к бесконечному воспроизведению личности индивидуума, вероятно, иллюзорны. Конечно, продолжительность жизни, наверно, можно удлинить, но сохранение физической оболочки с помощью биологического «копирования» не гарантирует сохранение личностного «я» человека, если хотите, его «души», которая тоже должна в какой-то момент умереть. По крайней мере, в том виде, в котором она существовала до того. В мире нет ничего вечного. И тогда возникает вопрос: что мы, собственно говоря, хотим сохранить «навеки», личность или физическую оболочку?
Каким бы венцом творения человек себя не воображал, в течение жизни он подвластен влиянию двух основополагающих инстинктов: самосохранения и самоуничтожения. Но если первый всем понятен, то наличие второго у многих наверняка вызывает сомнение, хотя, с точки зрения всеобщего стремления к равновесию его существование бесспорно. Просто его влияние мы не замечаем, поскольку, кроме совершенно очевидных случаев проявления, а именно, самоубийств, действие его осуществляется незаметно. Естественно также предположить, что усиление одного из этих инстинктов должно вызывать компенсаторное усиление и другого.
Самосохранение связано с любовью к жизни и желанием жить, и, следовательно, оно доминирует в молодости, когда человек наслаждается преимуществами возраста и стремится продлить свое существование до бесконечности. Но, как это ни парадоксально, молодости же свойственны героизм и жертвенность. Мальчишки-солдаты совершают подвиги, отдавая свои жизни за «чужих дядей», спортсмены и искатели приключений рискуют сломать себе шею, чтобы поставить какой-нибудь никому не нужный рекорд, а объясняется все это якобы потребностью в адреналине, придающем жизни остроту. На самом деле так действует инстинкт самоуничтожения. Он подслащивает пилюлю и делает риск желаемым и приятным.
В сущности, это проявление подсознательного желания умереть. Возможно, потому, что неуемная тяга к выживанию не может не вести к желанию уничтожения всех реальных или воображаемых врагов, что нецелесообразно с эволюционной точки зрения. И инстинкт самоуничтожения исподволь подталкивает чересчур «любящих» жизнь эту жизнь прекратить. Кроме того, он активируется, когда существование индивидуума становится бессмысленным, а это происходит, когда человек или другое существо завершает свою биологическую роль по воспроизведению и сохранению потомства или когда жизнь как таковая оказывается бесполезной и ненужной. В последней части утверждения я имею в виду не депрессию, а сознательное или бессознательное понимание бесцельности существования, которое заставляет с одинаковым успехом как богатых и благополучных, так и бедных и совсем неблагополучных становиться экстремалами в квадрате. Люди думают, что хотят что-то доказать себе и другим, а на самом деле ищут смерти.
С течением времени человек психологически и физически начинает понимать неизбежность смерти, бренность своего тела. Это период активности инстинкта самоуничтожения, который в прямом смысле слова на органном уровне начинает выполнять свое предназначение. Происходит то, что называется старением. В компенсацию ему начинает активизироваться и инстинкт самосохранения, и человек начинает бредить идеями здорового образа жизни, ходить в спортзал и пить биодобавки. Но от смерти не убежать, не упрыгать, не уплыть. Не избежать ее с помощью «укрепляющих» таблеток или сбалансированного питания.
Если вы не хронический больной, нуждающийся в постоянном лечении, а просто сторонник активного, «научно обоснованного» здорового образа жизни и питания, то статистически в результате ваших усилий вы сможете прожить лет на пять дольше других обычных, не страдающих болезнями людей. Но помните, что эти пять лет вы, по сути, просидели за тренажером, пробегали на стадионе или в парке, проплавали в бассейне. А мне, знаете, жалко тратить несколько лет на приседания со штангой. А сколько вы упустили в жизни из-за того, что питались правильно? Я уж не говорю о других ограничениях, которые вы наверняка ради «долгой» жизни соблюдали.
Вряд ли кто-то попытается опровергнуть утверждение, что наступление смерти не нужно ускорять, и то, что ее боятся все, включая тех, кто утверждает обратное. Это нормально и правильно. Но нельзя и посвящать жизнь тому, чтобы ее отсрочить. Это биологически бессмысленно, а, возможно, и вредно для самого человека. Мы не знаем, что будет с нами после смерти. И боимся этого. А потому люди, не имея ответа на вопрос «а что потом», разделились на уровне веры на тех, кто верит, что после смерти жизнь индивидуума продолжается в иной, неважно какой форме, и тех, кто считает смерть окончательным финалом. Я не знаю, какой ответ правильный. Можно подбросить вверх монетку и решить. Но могу выразить свою субъективную точку зрения. Мне неинтересно чувствовать себя только звеном пищевой цепи. Жить ради того, чтобы есть, спариваться и тем или иным способом «мутить воду», чтобы запомниться своим соплеменникам, скучно. Первые две цели – вообще чистая физиология, а историческая память человечества коротка и случайна в своем выборе. Через сто лет мы все останемся фамилией на могиле, и не более того. Так что же в этой жизни такого хорошего, чтобы бороться за ее бесконечное продление?
Я понимаю, что человеку хочется оставаться молодым, бодрым и активным, в состоянии, когда можно полноценно наслаждаться всеми прелестями жизни, но ведь это только этап существования. И проблема даже не в том, что медицина не научилась длительно поддерживать хорошую физическую форму, а в том, что беспомощна перед неуклонным старением мозга. То есть нашей «соображалки» и «думалки». Медицина продлевает старость, и не более того. И как бы не молодились мужчины и женщины, тратя деньги на то, чтобы выглядеть более юными и соответственно себя вести, они никогда не обманут по-настоящему молодых, для которых они просто молодящиеся старики. Старые дурни. Нужно ли за такую «долгую» жизнь бороться? Если ты – только звено пищевой цепи, так не загораживай проход, освобождай дорогу молодым.
А если смерть – это не конец? Неважно, как вы представляете бытование после смерти, в религиозном или каком-либо другом варианте. Важно другое. Вы в любом случае – этап развития жизни, существующей в различных формах. Представьте, что вы – гусеница, а смерть – это переход гусеницы в бабочку. Разве вы хотите быть только гусеницей и не стать бабочкой?
Какое это имеет отношение к разумности человека и других существ, спросите вы. Для меня прямое. Чудовищная амбициозность человека и противопоставление им себя силам природы не могла не отразиться и на отношении к смерти. Даже зная, что perpetuum mobile невозможен, человек пытается его изобрести так же, как пытается победить смерть. А она – не наказание, а избавление от беспомощного прозябания старости, а также страданий и болезней, сопутствующих жизни в процессе борьбы за существование. И, вероятно, с философских позиций отношение других живых существ к смерти отлично от человеческого. Они не ищут ее, но принимают со смирением, возможно, понимая, что это не конец. Не следует забывать, что человек как вид с филогенетической точки зрения по сравнению с другими видами – младенец с соской. И то, что на уровне его «думалки» ему кажется сверхновым и оригинальным, для других существ – своего рода детская болезнь. Концептуальная «свинка».
А природа умеет мстить. Она не терпит «яканья».
Нет сомнения, что гибель видов в процессе конкурентной межвидовой борьбы неизбежна, как неизбежно и выживание более приспособленных особей внутри самого вида. Но природа не допустит бесконтрольного доминирования одного вида над другими.
Человек – одно из звеньев эволюции, которая на нем не кончается и далеко не обязательно будет развиваться, как надеются многие, по пути превращения homo sapiens в некоего homo maximus (человек величайший). Вполне вероятно, что где-то уже начал формироваться отличный от человека вид, которому суждено в дальнейшем стать временным «властителем» планеты, вроде rattus argutus (крыса хитрая, точнее – крыс).
Возможность бесконтрольного размножения видов ограничивается естественными факторами, такими, как наличие врагов – хищников, паразитов, микроорганизмов и прочее и, главное, конечностью ресурсов питания, достаточных для поддержания жизнеспособности популяции. Человек разумный якобы справился с двумя этими факторами, уничтожив или сильно ослабив большую часть «врагов», а заодно и многих других, попавших «под горячую руку», и уж точно сумел создать постоянно возобновляемые источники питания. Казалось бы, ничто не препятствует его господству. Но мельницы господни мелют медленно, но тонко.
В Австралии водится весьма неприятное создание. Сиднейский воронковый паук. Он ядовит, как и многие другие представители этого вида, но загадкой для ученых является то, что его яд опасен только для человека и обезьян, но не других млекопитающих. И ни один специалист не может дать ответ, почему у существа с таким ограниченным ареалом обитания появился яд такого специфического действия.
А это один из ответов природы. Человек – фактор естественного отбора, которому нужно противостоять, а это не может не привести в процессе эволюции к накоплению видов или ядовитых, или несъедобных для человека. Ждать результатов эволюции долго. И смерть от ядовитых пауков нам пока не грозит. Хотя сказать то же самое о микроорганизмах, то есть вирусах и бактериях, нельзя. Их эволюция протекает в намного более быстром темпе, чем в макромире. И вероятность возникновения смертоносных, неподдающихся лечению пандемий не так уж мала. Следует помнить и о том, что эти микромонстры могут возникнуть не только в результате спонтанных мутаций известных возбудителей, но и вследствие злонамеренных и просто научно-познавательных «игр» человека с генной инженерией. Но и от этого человек, скорее всего, не погибнет. Он погибнет от другого.
Потому что в одном он уникален. Нет другого такого создания, которого природа наградила бы таким эффективным и оригинальным механизмом самоуничтожения. Ни одно существо не убивает себе подобного, если речь не идет о борьбе за пищу, самку, потомство или территорию обитания. Но только не человек. Он единственный, кто убивает за идею. Просто за инакомыслие. Если взглянуть на человеческую историю, то период чисто грабительских захватнических войн (что, в общем, с биологической точки зрения объяснимо как борьба популяций между собой) давно прошел, и люди, ни минуты не сомневаясь в своей правоте, воюют по идеологическим причинам. Одни хотят навязать другим свой образ жизни. В итоге человечество так и погибнет или ради торжества демократии, или во славу ислама или другой религии. Или иного подобного бреда. А если и не погибнет, то скатится, как минимум, к средневековью в самом его мрачном проявлении. И тогда придет какой-нибудь rattus argutus.
У меня появилось ощущение, что я раскаркарлся как ворона и начал изрекать апокалиптические пророчества. Но это не так. На судьбу человечества мне, в общем-то, наплевать. Если ему суждено погибнуть на моем веку, то я погибну вместе с ним, и никуда мне от этого не деться. А если нет, то что будет через сто или двести лет – не моя головная боль. И, с моей точки зрения, те, кто считает, что делает что-то в жизни ради будущих поколений, если это не его собственные дети или внуки, по меньшей мере, наивен. Нужно просто жить в мире с собой, окружающими тебя людьми и природой, а остальное приложится. Только, боже сохрани, не подумайте, что я призываю вернуться «к истокам», начать жить на природе, пахать на быках землю и вообще стать вегетарианцами. Чушь. Человек такой, какой он есть. И не может быть другим. Глупо отказываться от достижений цивилизации, потому что это, при всех издержках, прежде всего доказательство человеческой успешности как вида. Но, если человек все-таки настаивает, что разумен, то его «соображалка» и «думалка» должны быть направлены на то, чтобы держать в узде собственные амбиции, давая жить другим.
Не знаю, как вы, а я так и не решил для себя вопрос, дурак ли я. И если да, является ли это моим личным признаком, присущим от рождения, или особенностью любого человека разумного как представителя вида.
Очень хотелось бы понять, о чем думает и мечтает бабочка или таракан, но наши с ними «соображалки» и «думалки», попросту говоря, не совпадают «по фазе». Но хочется верить, что существует какое-то иное пространство, измерение, называйте, как хотите, где разнородные сущности могут общаться между собой.
А понимать не обязательно.
2010
К вопросу об эволюции
Знаете, профаном быть легко и очень удобно. Ты можешь свободно рассуждать на любую тему, не утруждая себя необходимостью ссылок на первоисточники, и пребывать при этом в блаженной уверенности в собственной правоте. Я, наверно, профан, правда, образованный, и поэтому люблю рассуждать на различные темы. Природное любопытство заставляет меня лезть в самые разные дыры и задавать самому себе вопросы, которые, скорее, более присущи пятилетнему ребенку.
Например, первый человек, по мнению ученых, появился в Африке. Я поначалу спокойно скушал эту информацию, а потом задумался. Ну, допустим, это правильно, а вдруг правильно и то, что человека сотворил бог? Так, значит, Адам и Ева были чернокожими? Представляете, какое недоразумение и удар по самолюбию всех так называемых арийских рас. Но, в принципе, мне все равно был ли мой пра-пра-прапапа, выражаясь не политкорректным языком, ниггером или нет, я не понимаю другое. По мнению ученых, далее африканцы, очевидно, в поисках лучшей жизни начали мигрировать на север и восток, и в итоге, по непонятной причине, часть из них побелела и «оголубоглазилась», а часть пожелтела и «окосоглазилась». Почему?
Я, конечно, профан, но не совсем уж дурак. В природе изменения видов носят приспособительный характер, иначе эти самые виды вымирают. Так зачем же черному становится белым, голубоглазым и большим или желтым, маленьким и косоглазым? Вряд ли же негроиды побелели, чтобы их не было видно на снегу, который покрывает земли обетованные только часть года. Куда эффективнее было бы покрыться для защиты от холода шерстью и менять как заяц посезонно цвет шкурки. Представляете, какая сформировалась бы замечательная высшая раса арийцев-зайцев. С точки же зрения физики черный цвет на севере предпочтительней, потому что поглощает больше солнечного тепла, а в Африке, как ни странно, лучше быть белым, чтобы поглощать этого тепла меньше и меньше нагреваться. А как объяснить желтоватый цвет монголоидной расы и их раскосые глаза я и вообще ума ни приложу. Почему, например, не зеленый? Вполне логичный, приспособительный и незаметный в растительности цвет. А может, и действительно были и зеленокожие? Не зря же люди до сих пор верят в зеленых человечков. Кстати, зеленый цвет оптически получается при наложении синего и желтого. Те, кто забыл, поиграйте с карандашами. Так, может, у «зеленой» монголоидной расы в результате какой-то мутации просто отщепилась синяя часть? Вот они и остались желтыми. Но почему же они все-таки раскосые? Может, дорога на восток была такой пыльной, что они все время щурились? А самое интересное, что вся эта эволюция от черного к белому и желтому вдруг вновь заканчивается черным, потому что коренное австралийское население является стопроцентно негроидным. Впрочем, ученые легко объясняют это тем, что Австралию заселили приплывшие из-за тридевять земель африканцы, хотя географически Индонезия и Малайзия с монголоидным, а не негроидным населением куда ближе. Более того, в теории африканского происхождения австралийцев есть чисто биологическая проблема. Для того чтобы в экологической нише создать устойчивую популяцию, туда нужно поместить некое минимальное число особей нового вида, в противном случае пройдут годы, и от пришельцев не останется и следа. Оговорюсь, что имею в виду высших животных, а не каких-нибудь колорадских жуков.
Так сколько же африканцев должно было приплыть в Австралию, чтобы создать достаточно жизнеспособную популяцию, способную заселить континент? Я боюсь наврать, но цифра, которую я помню, составляет около двухсот человек. Вы представьте, какую доисторическую флотилию надо было построить, обеспечить едой и питьем и послать в никуда из Африки через огромный океан, чтобы двести бедолаг все-таки доплыли. Хотя, может, и правда доплыли. А представляете, какая у этих древних мореплавателей должна была быть мотивация? Впрочем, под страхом смерти, возможно, и мы бы поплыли… Кстати, любопытный факт, дополняющий сказанное выше. Американские историки не любят об этом упоминать, но поселенцы из первых белых колонистов, представленные группами численностью не больше нескольких сотен, частично вымерли, а те, кто нет, смогли выжить только с помощью коренного населения, индейцев, которые, собственно говоря, и научили их азбуке выживания на новом континенте.
Но в связи с вышесказанным мой дурной характер заставил меня задать новый вопрос. Если для создания жизнеспособной популяции требуется энное количество особей, то как же тогда быть с Адамом и Евой? Могли ли два человека стать родоначальниками всего человечества? Любопытный ответ на этот вопрос дает сама библия. Если вы ее когда-нибудь читали, то помните, что Каин после убийства Авеля в наказание был проклят и изгнан. Но перед этим он успел испуганно пожаловаться богу, что теперь «всякий, кто встретится со мною, убьет меня». Интересно, кто этот «всякий»? После смерти Авеля должны были остаться только трое: Адам, Ева и Каин. Однако, несмотря на явный демографический кризис, изгнанный Каин умудрился найти какое-то «левое» население, жениться и родить Еноха, став родоначальником каинитов. Предваряя возможную критику, сразу заявляю: прекрасно понимаю, что вовсе не я первооткрыватель этого библейского парадокса, это было сделано веками раньше, но он настолько забавен, что стоит упоминания.
Но не о библии речь.
Меня всегда интересовала теория происхождения жизни вообще и на Земле в частности. И об этом я бы хотел по-профански поразглагольствовать. Но прежде чем начать, должен предупредить, что совершенно не понимаю общепринятый научный (псевдонаучный?) подход, требующий наличия белка как основы жизни. Хотя это вполне соответствует архаичному, не поверите чьему определению. Дедушка Фридрих Энгельс, он же друг и соратник Карла Маркса: жизнь есть способ существования белковых тел.
Однако и современная наука, вводя в определение жизни маловразумительные понятия вроде негативной энтропии и подмешивая к белкам еще и нуклеиновые кислоты, в сущности, мало добавляет к сказанному Энгельсом и просто описывает то, что наблюдается на планете Земля. Другими словами, чтобы возникла и существовала жизнь, необходима комбинация определенных составляющих: в первую очередь, набора основополагающих химических элементов – водорода, азота, углерода и кислорода, во-вторых, определенных геологические условий, то есть подходящего температурного режима, и, наконец, в-третьих, наличия главного из главных – воды. Вот почему астрофизики всех стран с завидным упорством разыскивают во вселенной звезды с планетами, содержащими воду. Там, по общему мнению, возможно, живут наши братья по разуму, или хотя бы кто-нибудь вообще живет.
Я человек примитивный, и для меня дать определение жизни не составляет труда. Жизнь – это способ хранения и обмена информацией между однородными по своей структуре объектами. Но если вы на секунду задумайтесь, то поймете, что под это определение подходит все сущее. Другими словами, нет никакого разделения на живую и мертвую материю. Проблема лишь в том, что у человека с его ограниченным восприятием и чисто антропоморфным подходом принять это, а уж тем более найти контакт с чуждой ему небиологической жизнью, никакой возможности нет. Впрочем, как и у той с ним. А оно нам надо? Возможно, вы скажете, что я сумасшедший, и будете правы. Если покопаюсь в бумажках, то, может, даже найду соответствующую справку. Но пусть в меня бросит камень тот, кто никогда не разговаривал с неодушевленными предметами или не пинал их в сердцах. Может, на подсознательном уровне мы все-таки понимаем, что они тоже живые и, возможно, разумные? Только их жизнь и разум другие.