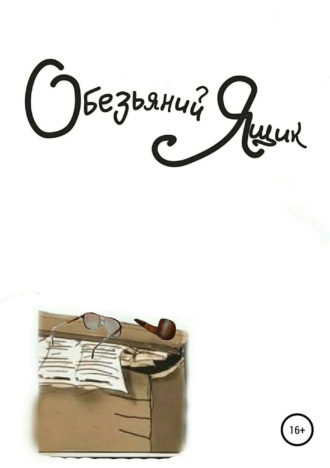 полная версия
полная версияОбезьяний ящик
Борис Акунин в современной литературе – уникум: писатель для ВСЕХ (и высоколобых, и узколобых, впрочем, на самом деле, разницы никакой). Много есть великих книг (к примеру, «Петербург» Андрея Белого, «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста, «Волшебная гора» Томаса Манна), которые современный человек прочитать не может (скучно, длинно, да и времени нет). Долгое раздумчивое чтение осталось в далеком прошлом. В этом нет мнимой заслуги радио-телевидения-интернета, но нет и метафизической вины.
Читатель, мне нет нужды пересказывать сюжеты акунинских «фильм»: они настолько занятны, занимательны и сложны, что даже пунктирное изложение любого из них превысило бы объем моей заметки. Поверь мне на слово, они стоят того, чтобы взять их в руки.
Основная интрига «киносценариев» Акунина сводится к жестокой кровавой схватке русской и германской контрразведок-разведок перед и после начала Великой (так тогда называли Первую мировую) войны. Волею судеб объединяются недалекий штаб-ротмистр, лейб-кирасир, по инвалидности – падение на скачках, переведенный «в контрразведочное отделение в штатном расписании Генерального штаба» (С. 10) князь Лавр Константинович Козловский и чудак-студент физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, баритон-дилетант Алексей Парисович (так!) Романов. В фильме первой им противостоит матерый, глубоко законспирированный шпион, капитан Йозеф фон Теофельс из Первого (российского) управления германского Генштаба. Немец любой ценой должен добыть и переправить на родину «Генеральный план развертывания…» (молчок). Погони, переодевания, схватки, перестрелки, игра воли и ума, сверхромантическая любовь присутствуют и в первой, и во второй «фильме». Эту схватку «наши» немцу… Увы, любовь студента к Симочке Чегодаевой оканчивается…
Во второй части «Смерти на брудершафт» Козловский и Романов (под прикрытием) пытаются добыть-выкрасть картотеку «шпионской биржи», располагающейся в городке Сан-Плачидо. Действие из Петербурга переносится в городок Сан-Плачидо (итальянская часть Швейцарии). На сей раз наши герои сражаются с международным агентом Гербертом-Мария Зоммером. Козловский и Романов добиваются… Сюжет, как всегда у Акунина, прихотлив и изящен. В действие вступают и австро – венгерская разведка, и итальянская мафия, никому не известная тогда в России. Образ Романова дан в развитии (как писали в советских учебниках литературы): переживая тяжелейшие испытания, он страдает и думает, отковывает дух и постепенно превращается в Мужчину (с большой буквы).
«Предмет» романтической любви возмужавшего унтер-офицера Романова (воевал, был ранен в сентябре 1914 г., награжден) Клара Нинетти, «плясунья», ученица Айседоры Дункан в конце концов… Стоп. В финале «фильмы второй» автор своего героя…
Нашим героям во «второй фильме» … итальянский поэт Рафаэль Д`Арборио, бретер, сторонник сближения своей страны с… Романов даже «стреляется» с ним из-за дамы. Под этой прозрачной маской укрыт знаменитый поэт, прозаик, драматург, покоритель женских сердец, в частности у него были бурные романы с Элеонорой Дузе и Айседорой Дункан, провозвестник фашистского искусства (увы!) Габриэль Д`Аннунцио (1863-1938). Его боготворили и переводили русские символисты. Так потешается Акунин над читателем, впрочем, совершенно невинно.
Акунину свойственно неповторимое специфическое словесное изящество. Он – великий мастер вербальной игры. В книге встречаются дивные словечки: журфикс, симпатизант, аппетизант, мэтч (по-нашему футбольный матч) и т.д. Читатель, сейчас происходит занятный процесс в современном языке: сокращение (редукция) в прилагательных на «ический»: драматический – драматичный, символический – символичный, готический – готичный и пр. Автор употребляет одновременно прилагательные: романтический и романтичный. Он так шутит.
По нынешним временам Акунин неимоверно культурен. Его книги можно и глотать, как увлекательное бульварное "чтиво", и медленно смаковать, как хитроумные (тщательно зашифрованные) постмодернистские тексты ("центоны"), в которых невероятно талантливо стилизуются (пародируются: нет – одномоментно стилизуются и пародируются) сюжетные ходы, темы, "дух и плоть" великой русской классической литературы (Лермонтов, Достоевский, Блок, Брюсов, Горький и т.п.). К примеру, в описании футбольного «мэтча» (невероятной диковинки по тем временам) Акунин тонко пародирует Льва Толстого, прибегая к «остранению». Этот термин, введенный Виктором Шкловским, можно истолковать так: описание какого-либо действия с позиции наблюдателя, никогда не знавшего или забывшего его смысл (опера в «Войне и мире», литургия в «Воскресении», когда привычные явления становятся чистыми и наивными, как восприятие ребенка).
Борис Акунин великолепно знает реалии старой императорской России, тонко внедряет их в сознание и подсознание читателя, подводит к несложным сопоставлениям с современностью (разумеется, не в пользу последней). Ох, плут…
О жанре последней акунинской книги: шпионские детективы тесно переплетенные с приемами авантюрно-приключенческого романа, что только увеличивает их притягательность и привлекательность (в стиле и духе занимательного, но монотонного многотомного цикла романов Пьера Алексиса Понсона дю Террайля (1829-1871) о похождениях пресловутого Рокамболя).
Да, дивная вещь. Открой – не оторвешься. Все хоронят недобросовестные доброхоты русскую словесность. Неужели не надоели байки про «самую читающую страну в мире» в советские годочки. Люди тогда читали только то, что было дозволено-разрешено. Сейчас и книг-то выходит несравненно больше, чем тогда, и люди читают то, что хотят. Не надо их учить и им мешать…
Знаешь, читатель, Господь милостив, все будет путем на родине нашей, ежели создаются и читаются взахлеб такие изящные, искусные и умные книги.
21 мая 2008 г. Петергоф.
P.S. В следующий раз обсудим историко-приключенческий роман Анатолия Брусникина «Девятный (так!) Спас», мистифицировавший как публику, так и критиков. А он ли – автор? А был ли мальчик?
Литературная мистификация, или мистифицирующая литература
Сегодня поговорим о загадочной, необычной и необычайной книге: Анатолий Брусникин. Девятный Спас». Роман. М., Издательство Астрель: Аст. 2008. 509 С. Тираж 50 000 экземпляров (один из дополнительных тиражей). Название романа восходит к «чудоносной» иконе, принадлежавшей патриарху Филарету. Эта икона имеет некую нумерологическую историю, позволяющую путем сложения неких цифр предугадывать беды Руси. Царю Алексею Михайловичу явился святой старец и произнес таинственную фразу: «Четырежды девятно данное дважды девятно…» (все, молчок). Династии нужно бояться…
Я не играю с читателем в вербальные «кошки-мышки», не напускаю «критического» тумана-дурмана, посему скажу прямо и честно: книга мощная, пугающая, изумляющая. Жанр – исторический роман, чей «двигатель» форсирован неимоверными сюжетными кульбитами. Типа романа Вальтера Скотта «Роб Рой» (только лучше; я серьезно). Кстати, исторический роман как жанр примудрил именно Вальтер Скотт.
Книга Брусникина (наряду с «Гастарбайтером» Эдуарда Багирова) стала литературной сенсацией конца прошлого года. Во всех рейтингах продаж роман занял почетнейшее второе место (на первом месте, понятно, «Гарри Поттер и Дары Смерти» Джоан Роулинг). Читатель скажет, ну, может быть, хорошая книжка, а в чем дело? Причем тут литературная мистификация. А вот причем. Никто достоверно не знает, кто такой Анатолий Брусникин, чьему перу принадлежит роман…
Мистификация (от греческого: mystes – носитель-хранитель тайны) – осознанное введение кого-либо в обман, заблуждение, в изумление ума (как говаривали наши предки) с благой или неблагой целью. Часто мистификация оказывается шуткой (доброй или злой – особой разницы нет). Литературная мистификация – явление древнее и почтенное.
Приведу несколько примеров. Шотландский поэт Джеймс Макферсон (1736-1796) издал в 1765 г. книгу «Сочинения Оссиана, сына Фингала». Авторство собственных поэм Макферсон приписал легендарному кельтскому барду Оссиану (якобы III в.) Эта книга стала ярчайшим достижением европейского предромантизма, она вызвала не просто сенсационный интерес в Европе, но и повлияла, в частности, на творчество Державина, Карамзина, Пушкина, Лермонтова и др. Русские поэты подражали «мотивам» оссиановской (макферсонской) поэтике-проблематике. Когда подделка стала общеизвестной поэт, покончил с собой.
Знаменитый чешский поэт, филолог-славист, славянофил Вацлав Ганка в 1830-х годах позапрошлого столетия издал «Краледворскую» и «Зеленоградскую» рукописи, куда вошел якобы подлинный чешский эпос «Суд Любуши». Эти тексты он и создал. Чешский патриотизм получил мощную подпорку, мол, у чехов существовал патриотический древний эпос. Ганка сыграл выдающуюся роль в формировании чешской национальной идеи. И только на рубеже XIX-XX вв. подделка была официально подтверждена.
И у нас на Руси были свои мистификаторы. Самым знаменитым подделывателем исторических рукописей был Александр Сулакадзев (1771-1830). Он собирал древние рукописные памятники, но делал в них приписки и т.д. Читатель, Ты наверняка читал в школьных учебниках про то, как Иван КрякутнЫй, изобретатель летательного аппарата, поднялся в небо задолго до братьев Монгольфье. Не было никогда такого русского пилота-воздухоплавателя. Сулакадзев в 1820-х гг. собственноручно изготовил рукопись «О воздушном летании в России с 906 лета Р.Х.». Первыми русскими «летчиками» были у него огненные змии-драконы. Фальсификатор придумал историю про подъячего по фамилии КрякутнОй (без имени), который в 1731 г. поднялся в воздух в Рязани на «большом мяче», наполненном «поганым дымом». Эти враки были чрезвычайно популярны в сталинские времена, мол, мы всегда и во всем первые и в том числе в техническом изобретательстве. Кстати, этот нелепый эпизод с «воздухоплавателем» по недоразумению попал в великий фильм Андрея Тарковского (1932-1986) «Андрей Рублев» (1971). В этих мистификациях (во славу родины) нет ничего дурного, как и в мистификации, о которой пойдет речь ниже.
Роман «Девятные врата» – несомненная мистификация. Никто не знает Анатолия Брусникина. Он дал пару интервью и… замолчал, сославшись на издательский диктат. Появилась его фотография, о которой он сказал, что она «подправлена» с помощью «фотошопа». Себя он позиционирует как музейного работника и врача (у него два высших образования). Странное сочетание. Я знавал и знаю много музейных работников, сам прослужил 12 лет в Рукописном отделе Пушкинского Дома, но никогда не встречал среди этой почтенной публики врачей. Брусникин сказал, что написал роман «в четыре руки» с супругой. ТАКОЙ роман так ПРОСТО не напишешь. Критики и публика не верят господину Брусникину и правильно делают. Перед нами бесподобная мистификация.
Есть весьма странные версии авторства «Девятного Спаса», мол, книгу написал совладелец издательства «Аст» Яков Хелемский. Если так, то он просто гений, роман технически невероятно совершенен. Зачем, правда, он бесподобно подражает духу и букве Акунина, он сам может великолепно писать. Все это напоминает мне: до того, как Акунин сбросил маску (никто не знал, что он Григорий Чхартишвили), авторство романов о сыщике Фандорине приписывали Игорю Захарову – владельцу издательства «Захаров».
Большинство критиков (и аз, грешный) полагают, что автором романа является все тот же Борис Акунин. Никаких достоверных сведений об этом нет. Только интуиция. Правда, Акунин чуть приоткрыл занавеску исповедальни. На задней крышке переплета романа помещена его запись: «Хотел я написать роман из Петровской эпохи, а теперь, пожалуй, не буду. Лучше, чем у Брусникина, у меня вряд ли получится». Ох, лукавец и плут. Читатель, обрати внимание: Анатолий Брусникин – практически анаграмма сочетания имени и фамилии: Борис Акунин. Если автор Борис Акунин, то мы в очередной раз убеждаемся в его умении-стремлении менять маски -«баутты». Если у книги сыщется ДРУГОЙ автор, я в печати заявлю: Пригодич – дурак. Совершенно серьезно.
Кстати, стилистика, игра в слова и со словами в брусникинской книге чрезвычайно напоминают акунинскую манеру. «Девятный Спас» полемически ориентирован на прославленные (заслуженно) романы Дмитрия Мережковского «Петр и Алексей» и Алексея Толстого «Петр Первый». И еще: рекламисты заработали на «раскрутке» брусникинского романа миллион евро. Вряд ли такое случилось бы с книгой начинающего автора. Воистину Брусникинский (по аналогии с Брусиловским) прорыв, как заметил остроумный критик. Важно: «Девятный Спас» в существенной степени перекликается с романом Акунина «Алтын-толобас» (основное действие происходит в эпоху Алексея Михайловича).
Действие «Девятного Спаса» начинается в 1689 г. Основные герои романа – Дмитрий (дворянин), Алексей (попович) и Илья (крестьянский сын) – русские «мушкетеры» (не забудем про Дюма). Таинственными отношениями они связаны с Василисой, внебрачной дочерью … и князя…. Важную роль в их судьбах сыграет Автоном Зеркалов, демонический преступник, один из заправил Преображенского приказа (тайная политическая полиция). Особое внимание хочу обратить на зловещий образ Федора Ромодановского, царь-кесаря, правившего Россией во время многомесячных отъездов царя Петра за границу, палача и негодяя (реальный исторический персонаж). На его совести тысячи загубленных жизней (стрелецкие казни и т.д.). В книге десятки иных персонажей, принадлежавших к разным сословиям, и т.д. Герои, включая царь-кесаря, стоически преодолевают баснословные и опасные приключения (иногда жутковатые).
Петра в романе нет. Однако он незримо присутствует на каждой странице. Все мерзости неописуемые творятся с его ведома и попущения. Петровская "перестройка", изменившая и преобразовавшая Россию, привела к тому, что в результате и вследствие ее каждый пятый россиянин в землю лег: за долгие годы петровского правления население царства-империи сократилось с 25 до 20-ти миллионов человек. Неплохо бы помнить об этом нынешним и будущим российским реформаторам. Автор осторожно подводит читателя к выводу: постепенное преобразование страны (постепенные щадящие изменения Алексея Михайловича и Царевны Софьи) было «взорвано» Петром, вздернувшим Россию «на дыбы» (Пушкин). Читатель, страшно об этом писать. Петр I был кровавым псом, психически больным садистом, врагом свободы, свободной экономики, поработителем крестьянства, дворянства, купечества и мещанства, родоначальником всесословного тотального "стукачества", погубителем Православия, зажегшим инквизиционные костры на Русском Севере, предвосхитителем государства тоталитарного типа, который привел "оккупированную" им страну к пропасти, от края которой она медленно, в крови гвардейских переворотов, отползала в течение всего восемнадцатого столетия. Читатель, послушай Льва Толстого, сказавшего о первом русском императоре: "Был осатанелый зверь. Великий мерзавец, благочестивейший разбойник, убийца… Забыть про это, а не памятники ставить". Грустно. Муза истории печальна и неулыбчива.
Вот такая книга. Шедевр в своем ранге и стиле (без дураков). Рекомендую.
P.S. Читатель, "Девятный Спас" – выдающаяся книга. Такого лихого исторического романа на Руси еще не было. "Роб Рой" В.Скотта – замечательный исторический роман. "Капитанская дочка" – великий роман. А "Девятный Спас" интересней, динамичней и «круче».
Брусникин ВКУСНО употребляет дивные термины: кюлоты, кавалетто, галант, кутчер, танцОвание, адюшан, вивлиофека, гехаймрат, КАНАРСКИЕ соловьи (еще не было слова канарейка), салфеты, потентат и т.д.
Фонтанирующая игра словами. Автор романа сочинил за одного из героев ВИРШИ (нужно знать тогдашнее, калькированное с польского, силлабическое стихосложение). Кто-то из высоких профессионалов работает на него (консультанты, специалисты по 18 веку).
Шуточки писательские. В 1682 г. Сильвестр Медведев (никто его не помнит, а он был первым КАЗНЕННЫМ русским поэтом; Петр отрубил голову за участие в заговоре царевны Софьи) основал Славяно-греко-латинскую академию. В романе – еллино-греческую (комическая тавтология). Так автор шутит для СЕБЯ.
«Я сам расскажу о времени и о себе», или интервью Бродского
Любезный читатель, осмелюсь предложить Твоему вниманию замечательную высокодуховную книгу: Иосиф Бродский. Книга интервью. Четвертое, исправленное и дополненное издание. М. Издатель Захаров. 2008. 784 С. Тираж 3000 экземпляров.
Все в полном порядке в нашем литературном саду – «вертограде», если такая книга выходит четвертым изданием. Тираж «всего» 3000 экземпляров, так это же не Маринина-Донцова-Устинова. Заголовок статьи я заимствовал из гениального поэтического завещания Владимира Маяковского «Во весь голос»… В интервью выдающемуся литовскому поэту Томасу Венцлове Бродский так отозвался о своем великом предшественнике: «… у Маяковского я научился колоссальному количеству вещей» (С. 359; журнал «Страна и мир», № 3, 1988).
Составитель книги (Валентина Полухина, «профессор русской литературы, Англия») и знаменитый издатель, «первооткрыватель» Бориса Акунина, Игорь Захаров в кратком предисловии свидетельствуют: «Выбрать из 176 интервью самые интересные, самые содержательные, избежав повторений, оказалось весьма непросто… Многие интервью печатаются в этой книге впервые, причем не только по-русски, но и вообще впервые в мире» (С. 5). В книгу включены наиболее значимые интервью поэта 1963-1995 гг., данные разным «совопросникам» из разных средств массовой информации в разных странах и на разных языках.
Сразу зафиксирую: издание завершается весьма глубокой, тонкой и содержательной статьей Валентины Полухиной «Портрет поэта в его интервью», исчерпывающей «Библиографией интервью Иосифа Бродского» и именным указателем. Составитель специально оговаривает, что в книгу не включена ни одна «беседа» Бродского с известным музыковедом Соломоном Волковым по той простой причине, что эти тексты тщательно редактировались, микшировались, переиначивались и т.д. (Соломон Волков. Разговоры с Иосифом Бродским. N.-Y, 1997; Соломон Волков. Диалоги с Иосифом Бродским. М., 1998). Книги чудесные, но в них затушевана живая неповторимая вербальная повадка поэта. В интервью, вошедших в рецензируемое издание иногда в «обратных» переводах, прекрасно ощутима живая, нервная, иногда сбивчивая речь Мастера-мыслителя.
Поэзию Бродского многие преданно любят, многие преданно ненавидят. Дело житейское: каждый человек имеет право на частное мнение по частной проблеме. Замечу, что когда я был молод, все подражали Есенину (самые «продвинутые» – Блоку), сегодня бесчисленные эпигоны Бродского заполонили поэтические разделы буквально всех «бумажных» и «сетевых» изданий. Это неоспоримое явление длится уже четверть века. Сам я, грешный, Бродского "обожаю" (прелестное словечко из лексикона барышень – «институток» – благородных девиц), осознанно и продуманно числю его величайшим метафизическим поэтом прошлого века. Почему метафизическим? Читайте – и «обрящете».
Я думаю ТАК, Ты, читатель, возможно, считаешь иначе (ради Бога). На мой вкус и взгляд, Бродский, медальным профилем «наплывший» (словечко Осипа Мандельштама) на мировую литературу, реформировал русскую поэзию. Как? А так: уподобим русскую классическую поэзию великолепной «лакированной карете» (первоначальное название романа Андрея Белого «Петербург») с дивными лошадками, мягкими рессорами, венецианскими стеклами, шелковыми обоями, меховыми «полостями». Красиво до обморока, величаво, шедевр словесного искусства. Поэзия Бродского – некий «Ягуар» или «Бугатти»» с иным дизайном, выверенным в аэродинамической трубе ураганного двадцатого века, с иными мощностями и скоростями. И «Ягуар», и «Бугатти» с их «обводами», моторами, «подвесками», кожаными сидениями – неоспоримые шедевры. Как говаривали в старой России: кто любит попадью, а кто – попову дочку.
Иосиф Александрович старше меня на восемь лет: поэт пользовался высоким покровительством Анны Андреевны Ахматовой, а я – одиннадцатиклассник – присутствовал лишь на ее отпевании в Никольском соборе. В юные годы я видал его мельком много раз. Могу сказать с горькой печалью, что с годами я стал другом его друзей («иных уж нет»). Жизнь странна и печальна. 30 января 1971 года мы хоронили великого гуманитария академика Виктора Максимовича Жирмунского – теоретика литературы, стиховеда, лингвиста, непосредственного участника литературного процесса Серебряного века, «пестователя» нескольких поколений питерских филологов. Я был тогда весьма близок семье своего учителя. Ваш покорный слуга нес гроб «в ногах», слева был Бродский, справа – выдающийся теоретик и практик русского стихотворного перевода профессор Ефим Григорьевич Эткинд. В накатанном процессе похорон покурили пару раз с «культовым» уже тогда «рыжим». Разговор состоялся пустяковый, но я его запомнил. Иосиф Александрович пророчески заметил, что после кончины Жирмунского не выйдут в свет ни том Джона Донна в серии "Литературные памятники" (основным переводчиком должен был быть Бродский: сбылось буква в букву – книга так и не была издана), ни наша с Александром Лавровым статья с приложениями «Стиховедческое наследие Андрея Белого» в журнале «Вопросы языкознания» (академик был его главным редактором и всячески споспешествовал опубликованию данного «опуса»). Статью (имя Андрея Белого, а тем паче его неопубликованные тексты были тогда практически запретными) опубликовал лет десять спустя легендарный Юрий Михайлович Лотман в одной из легендарных тартуских «Семиотик» ("Труды по знаковым системам"). В начале девяностых годов Иосиф Александрович хотел дописать пару страничек к моей рецензии на первое издание книги Константина Азадовского "Небесная арка" (переписка М.И.Цветаевой с Р.М.Рильке). Не сложилось по причине, о которой я умолчу. Вот и все. Не густо, но занятно.
Читатель, вероятно, я утомил Тебя столь затянувшейся преамбулой. Прости великодушно. О чем свидетельствует Бродский в своих интервью? Обо всем. О трагедийности жизни и смерти, о вере и неверии, о неизбывной «тоске по мировой культуре», о месте человека в мире и миропорядке, о поэзии и поэтах (прежде всего об Ахматовой, Цветаевой, Мандельштаме, Пушкине, Баратынском, Вяземском, Уинстоне Хью Одене, Дереке Уолкотте), о войне и мире, о судьбах государств и цивилизаций, о мировом литературном процессе, о писателе и тирании, о Тебе и обо мне. Поражает вселенская философская умудренность и просветленность поэта, его великодушие, милосердие, некий дзенский юмор, невероятная культурность и духовная опрятность. Мысль поэта (простите за пошлость сравнения) не стрелой, а ракетой пронизывает сверхбытийные слои эфирного «вещества», именуемого ныне «ноосферой».
Приведу лучшее из известных мне определений того служения, которому Бродский посвятил жизнь: «Поэзия не развлечение и даже не форма искусства, но скорее наша видовая цель. Если то, что отличает нас от остального животного царства – речь, то поэзия – высшая форма речи, наше, так сказать, генетическое отличие от зверей. Отказываясь от нее, мы обрекаем себя на низшие формы общения, будь то политика, торговля и тому подобное. Это колоссальный ускоритель сознания, и для пишущего, и для читающего. Вы обнаруживаете связи и зависимости, о существовании которых и не подозревали: данные в языке, в речи. Это уникальный инструмент познания» (С. 721; июль 1995 г.; интервью «Московским новостям»).
Магистральная тема практически всех интервью Бродского – Россия, ее тяжкое прошлое, непредсказуемое грядущее, фатальные болезни и сверхъестественная способность к исцелению-воскрешению, ее литература: одномоментно – кривое зеркало и путеводительный прожектор. Многочисленные недоброжелатели поэта упрекают его в пресловутой «русофобии». Не удержусь, напомню «зоилам» фразу Бродского из интервью польскому журналу «Przekroj»: «Бояться, опасаться за Россию не нужно. Не нужно бояться ни за страну, ни за ее культуру. При таком языке, при таком наследии, при таком количестве людей неизбежно, что она породит и великую культуру, и великую поэзию, и, я думаю, сносную политическую систему, в конце концов» (С.673; июль 1993 г.). Поверим гордым словам провидца.
Бродский сказал это полякам. Помнишь ли Ты, читатель, о том, что самые тяжелые и длительные войны Русь-Россия вела не с немцами и турками, а с Речью Посполитой. А воз и ныне там (натовские ракеты).
Изредка Бродский в своих высказываниях монотонен, впрочем, повторы высвечивают новые грани смысла. Эта книга – одна из лучших, какие я прочел за последнее десятилетие.
Читатель, прибегну к кулинарной аналогии: едал ты, возможно, улиток, устриц, лягух склизкокожих. Не болит живот? Побаливает! Прочитай книгу Бродского – ржаной горячий хлебушек, испеченный не на поточном хлебозаводе, а в русской печи русской литературы, по старым рецептам, но с изысканными заморскими пряностями. А дух-то какой идет от поджаристой корочки, голова кружится. Русская печь, кстати, – величайшее создание нашего национального гения: отопление, приготовление еды и баня в одном агрегате. Сказанное целиком относится и к книге интервью Бродского. В одной отличной книге упрятаны три отличные книги: о литературе, о человеческой и нечеловеческой судьбе, о здравом житейском смысле.

