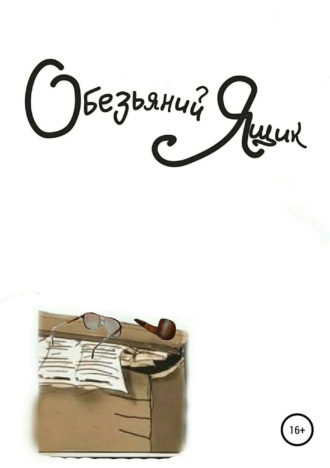 полная версия
полная версияОбезьяний ящик
Нам парадигму бизнеса развить (С. 81-82).
На поверхностный взгляд все это смешно, а на самом деле – совсем нет. День и ночь мы слышим ТАКОЕ по телевидению и радио, читаем в газетах. Травестийная пьеса в сущности есть не что иное, как «грустная дума о нашем времени» (Белинский). Я совершенно серьезно: в драме Жатина много боли, много печалования о бедной Родине нашей, о ее горестях и болезнях. Нравы провинциального города, бизнес и конкуренция по-русски, глупость и фобии обывателей воссозданы со стереоскопической точностью.
Автор – большой плут, в драме использованы, к примеру, аллюзии-перепевы Канта и Гегеля
Сюжет шекспировской драмы известен всем. Автор занятно модифицирует его (как? не скажу!). Несколько слов о персонажах, претерпевших по воле автора занятные пертурбации. Монтекки и Капулетти – главы двух конкурирующих фирм «Таблеточка» и «Пилюлька». Ромео, сын Монтекки, бренд-менеджер, КМС по боксу. Герцог Эскал у Жатина – генерал, начальник ГУВД города Воронеж. А монах Лоренцо стал психотерапевтом (на самом деле – майором …). В финале он …начальника ГУВД. Вот так.
Автор чрезвычайно умело вставляет в текст жаргонизмы, интернетсленг, арго, просторечия, элементы «олбанского языка».
Профессиональный комментатор всегда читает комментированный текст (художественный, историко-литературный, исторический и т.д.), натурально, с комментариев. Читатель, у Тебя есть дети от 4-х до 54-х лет. Есть! Тогда читай вслух «комментарии» Сергея Жатина к своему творению. Сказанное относится и к преподавателям, продавцам, врачам, офицерам, вертухаям, ко всем, чьей профессией является общение. Тщательно законспектировав эти пародийные комментарии, Ты начнешь слышать сложную симфонию и видеть алмазные брызги молодежного мировидения-миропонимания. Другие, не означает плохие (это я о молодых людях).
Сергей Жатин принадлежит к числу лидеров контрлитературного течения в современной словесности (знаменитый сайт Удафф). Я уже писал об этом поветрии. Лозунг «социалистический реализм» давно выброшен на свалку (впрочем, есть люди, желающие его подобрать и водрузить над толпой вольных творческих отщепенцев). Из кармана вытащен лозунг «контркультура» (вообще). Принадлежность к этому движению литначальники трактуют, как измену родине.
Ах, пустое это все. В русской литературе происходит «вечное возвращение Того ЖЕ Самого» (Ницше), но… возвращение, обогащенное и усложненное (Жиль Делёз). Пример. Поэты моего «призыва»: Виктор Кривулин (Царствие Небесное), Елена Шварц, Сергей Стратановский – долгие годы отковывали дух и мужали в условиях литературного подполья, дышали спертым воздухом андеграунда, находились в позиции самого жесткого противостояния «советской культуре». А ныне их творчество – образчик самой ВЫСОКОЙ культуры, редкостное украшение отечественной поэзии. Пройдет время, и нынешние литературные хулиганы-эпатажники станут…
Талант – не паспорт, в карман не спрячешь.
20 ноября 2008 г. Петергоф.
Оправдание Ницше, или Интеллектуальный роман
В моих руках книга: Ф.А. Крахоткин. Учение о государстве и праве Фридриха Ницше. М., Спецкнига. 2008. 192 С. Тираж 1000 экземпляров.
Читатель скажет: учение-изучение-научение. Тягомотина, безвкусная «научная» проза, мухи по тексту ползают и от скуки дохнут. Нет, это совсем другая работа.
В заголовке я использовал фрагмент названия книги величайшего русского философа Владимира Соловьева «Оправдание добра. Нравственная философия» (1897). Лучший метафизический трактат в истории отечественной мысли, но читать совершенно невозможно (я читал по служебной надобности с выписками). Нормальный человек засыпает на третьей странице. Читатель, Ты небось коришь себя (зря), что не читывал Канта-Гегеля. И не читай! Это их проблемы, а не Твои. Господин, читавший Платона-Августина Блаженного, Иоахима Флорского (список пространен), как правило не лучше тех, кто почитывает Акунина-Сорокина-Пелевина-Устинову (опять же список пространен).
Книга о Ницше написана живым, ярким, сочным, энергическим языком, она исключительно интересна, заманчива, увлекательна, читается «на одном дыхании». Мастерская, щегольски выделанная научная (без кавычек) проза. В работе глубоко выражена личность самого автора, чувствуется некая специфическая исповедальность текста.
Ницше – не только мыслитель, философ, но и величайший (наряду с Лютером и Гете) писатель, реформатор немецкого языка. Автор невольно следует поразительному, завораживающему, парадоксальному «извитию словес» базельского затворника.
Стержень тома – оправдание Ницше. Замысел автора осуществлен полностью. А почему – «интеллектуальный роман»? Потому, что это и есть интеллектуальный роман (термин Томаса Манна) с главным героем (помните бессмертное школьное «литературоведение»: образ дан в развитии), с второстепенными персонажами (к примеру, маркиз де Сад и Достоевский) и четким сюжетом.
Фридрих Вильгельм Ницше (1844-1900) оказал неимоверное многоаспектное воздействие на мировую культуру. Русская «ницшеана» включает такие блистательные имена, как Толстой, Владимир Соловьев, Василий Розанов, Андрей Белый, Блок, Бердяев, Лев Шестов, Сергей Франк (весьма краткий список).
После 1917 г. Ницше был проклят и забыт, объявлен провозвестником нацизма, идеологом германской экспансии и фундатором фашистской идеологии. Все это ложь! В послевоенные годы в мире (позднее и у нас) начался процесс «денацификации» (так!) Ницше. Автор вносит свою лепту в эту копилку.
Два примера. Школьников и пенсионеров в СССР недобросовестные или просто малограмотные пропагандисты пугали ницшевской «белокурой бестией». Автор исследования суховато констатирует: этот термин примудрил английский аристократ Хьюстон Чемберлен (1855-1927), ставший натуральным агрессивным «певцом» германского милитаризма, национализма, спесивого превосходства над всеми народами, нацизма. В СССР «белокурая бестия» трактовалась незамысловато: фашистский солдат в каске и с автоматом наступает на лицо ребенку.
Ницше многократно употребляет это словосочетание. Но как, в каком значении-соположении? Автор приводит примечательную цитату из работы Ницше «К генеалогии морали» (1877): «Белокурые бестии» – это римская, арабская, германская, японская знать, гомеровские герои, скандинавские викинги… все они схожи друг с другом» (С. 79). Все это весьма далеко от плакатно-трафаретных недобрых и лживых банальностей. Кстати, читатель, Ты встречал когда-либо белокурых арабов и японцев?
«Сверхчеловек». Тут советские пропагандисты просто зверели. Убийца с ножом в руке, фашистский выкормыш, творец вселенского зла и т.п. На самом деле сверхчеловек у Ницше (ни в коем случае не тиран, эксплуататор, диктатор и т.д.) – паладин Духа, носитель высочайшей культуры, творец истории, некий труднодостижимый (но вполне реальный) идеал, относящийся с печальной любовью ко всем, страдающий за всех.
Автор тщательно исследует такие философемы (эссемы, термин философа Михаила Эпштейна) Ницше, как «Бог умер», «Возвращение всего Того же Самого», «Воля к власти» и др. Все это и сейчас актуально. Гимнастика ума, так скажем. Одновременно и своеобразный учебник жизни (что с нами было, что с нами будет).
Содержание книги несравненно шире и глубже ее названия. Автор размышляет о философии истории, о нигилизме, о ницшевском гениальном противопоставлении культуры и государства, о блестящей безбожной эпохе Просвещения, о современных проблемах государствоведения и правопонимания и т.д. Работа чрезвычайно полезна юристам, философам, политологам, культурологам. Но! Но! Но! И нам, милым и мирным обывателям – для усладительного чтения на нашем «обломовском» диване. Книга для всех (без дураков).
Читатель найдет в работе простые ответы на непростые вопросы: Кто виноват? Мы все. Что делать? Не то, что прикажут. Как пройти в библиотеку? Не надо туда ходить – опасно для жизни.
Собеседники автора – Платон, Вольтер, Руссо, Достоевский, Освальд Шпенглер, Хайдеггер, Жюль Делёз и иные учителя-наставники.
В последней четверти позапрошлого века Ницше провидчески возвестил о грядущих вселенских потрясениях и катастрофах, о грядущем (в отдаленной перспективе) крушении западного мира, европейской культуры.
Культура. Прошлый век дал такие страшные примеры мгновенной гибели культуры, что оторопь берет и виски холодеют. В работе «Злая мудрость» Ницше афористически (на века) сказал: «Культура – это лишь тоненькая яблочная кожура над раскаленным хаосом» (С. 34).
Мало кто ему поверил. Пошляки растаскали цитатки по пошлым газетенкам (Ницше ненавидел явление, которое ныне обозначается аббревиатурой СМИ). Обывателям казалось, что они мчатся в мягком пульмановском вагоне по рельсам прогресса (ненавистное для Ницше слово) в уютное, комфортное, безопасное и предвидимое будущее. В России только поэт-пророк Блок в поэме «Возмездие» (первая половина 1910-х гг.) запечатлел кровавое знамение:
«И черная, земная кровь
Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены,
Неслыханные мятежи».
Опыт минувшего столетия так страшен, так всем известен, так всеми забыт, что и говорить об этом не надо. К чему это я, читатель. А вот к чему. Ницше предсказал эти общественные катаклизмы на ТРИ столетия вперед. То есть не то что нам, нашим детям-внукам, но и отдаленным потомкам (мы даже грезить о них не можем; если они БУДУТ) придется страдать, воевать, терпеть лишения-унижения, мечтать о кончине на собственной постели. Ницше отнюдь не пугает, Ницше предупреждает.
Читатель, согласись, борзо и лихо «стартовал» двадцать первый век, отнюдь не благостно и мирно. Террористический акт в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г., быстро, как трупные пятна, расползающийся по странам и континентам терроризм, разномастные и разноместные вооруженные конфликты, этнические чистки в Африке, пиратство в Аденском заливе. Только мы заплясали счастливо (помнишь у Арсения Тарковского: «Пляшет перед скинией Давид»): стабильность, возрастание, прирастание, курорты, банковские вклады и кредиты, ипотека, иномарки, дачи) и хрясь по сусалам: кризис. Читатель, Ты не поверишь: Ницше предсказал и крушение европейской банковской системы. Кризис… Увы, это не пресловутый дефолт 1998 г., когда рухнула финансовая и банковская система в одной отдельно взятой России. Нынешний кризис – системный планетарный сбой планетарной экономики и планетарного банковского дела.
Дай-то, Бог, за несколько долгих лет все как-то придет в норму, не слишком выходя за ее границы. Крах европейских денежных систем был предсказан Ницше.
Эпиграфом к книге автор выбрал печальную максиму философа: «Все на нашем пути скользко и опасно, и при этом лед, который нас еще держит, стал таким тонким… – там, где мы еще ступаем, скоро нельзя будет проходить никому». Читатель, у Тебя не возникает головокружительного ощущения, что это написано СЕГОДНЯ.
Люди никогда не верят «гласам вопиющим» истинных пророков, а это: библейские провидцы – Екклезиаст, Даниил, Иеремия, Откровение Святого Иоанна Богослова, «катрены» Нострадамуса, мистические (увы, и «практические») прозрения монаха Авеля и Серафима Саровского. И Ницше по праву и по делу занимает в этом величавом пантеоне одно из первых мест. Те пророки ничему нас не научили, прислушаемся «вполуха» к его страстному и нервному голосу.
Вот такая книга. Ты только не подумай, Читатель, что это – так называемая «научно-популярная» книжонка. Увы, такие опусы нередко «второй сорт». Популяризатор пересказывает ЧУЖИЕ мысли, упрощает и вульгаризирует. Книга Федора Крахоткина, выпускника философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета, кандидата юридических наук (диссертация защищена на знаменитом юридическом факультете того же Университета) – оригинальная монография, содержащая авторские суждения и выводы.
Послесловие профессора Д.И.Луковской комментирует и подытоживает научные искания автора.
Книга чрезвычайно изящно издана: матерчатая обложка, давленые (тисненые) горельефы портрета и факсимиле мыслителя, шелковая закладка (художник Валерий Глазунов).
21 декабря 2008 г.
Волшебный роман, или Романическое волшебство
Итак: Умберто Эко. Таинственное пламя царицы Лоаны. Иллюстрированный роман. Перевод с итальянского Елены Костюкович. СПб., Изд. SYMPOSIUM, 2008. 592 С. Тираж 10 000 экземпляров. Превосходно изданный, прекрасно иллюстрированный фолиант. Держишь в руках и испытываешь какую-то телесную радость (я серьезно).
Читатель, имя Умберто Эко прямо или косвенно Тебе известно. Наверняка, Ты видел фильм Жан-Жака Анно «Имя Розы» (в главной роли – Шон О`Коннори), поставленный в 1986 г. по мотивам одноименного романа писателя. Ну, а если Ты читал «Имя Розы» – первый роман итальянского кудесника (1980), то Ты его помнишь и не забудешь. Эта книга до сих пор остается мировым интеллектуальным бестселлером.
Умберто Эко – коронованный император интеллектуальной беллетристики, медиевист, культуролог, эссеист, постмодернист и т.д.
Как всегда, несколько абзацев о писателе. Он родился в 1932 г. в Пьемонте, в городке Алессандрия. Пьемонт – север Италии, наиболее экономически успешная область Италии, именно пьемонтцы возглавили борьбу за освобождение родины (Рисорджименто), пьемонтский (савойский) король стал правителем единой Италии. Италия – редкая страна, где северяне и южане говорят не просто на разных диалектах, но и считают себя представителями разных наций. Это очень важно для понимания творчества Умберто Эко: он всегда пишет о «северянах» как носителях истинно итальянского духа.
В 1954 г. он окончил Туринский университет искусств (его отец – бухгалтер, ветеран трех войн – мечтал о том, чтобы сын стал адвокатом; не вышло). Диссертация будущего романиста была посвящена философии Фомы Аквинского. Эко – выдающийся гуманитарий, автор свыше десятка монографий, сборников статей, эссе, газетных колонок, лектор, которому рукоплескали лучшие университеты мира (включая и Санкт-Петербургский).
Однако нас интересует Эко – романист. Второй роман писателя «Маятник Фуко» (1982 г.) превосходен. Третий роман «Накануне» (1994 г.) показался мне искусно спроектированным для высоколобых интеллектуалов (точнее, для персон, причисляющих себя к таковым).
Предпоследний роман «Баудолино» остался незаконченным. За всю свою долгую литературную карьеру писатель создал всего пять романов (это не Донцова-Бушков). Поговорим о последнем романе.
С чего начнем? С начала! Действие происходит в 1991 г. О чем книга? Ответ прост: как любое большое произведение большой литературы, о нас с Тобой, читатель. Сюжет? Сюжет тоже чрезвычайно прост: 60-летнего миланского успешного владельца магазина книжных раритетов (не хочется называть его букинистом, в нем очень мало от «торговца») Джамбаттиста Бодони (подлинное имя знаменитого пьемонтского типографа; 1740-1813) хватил удар, как говаривали в старину (инсульт). Наступила amnesia retrograde, т.е. полная утрата памяти. Физическая память остается: человек знает, как пользоваться душем, водить «мотор» (блоковское словечко), работать на компьютере, но ничего не помнит о СЕБЕ (имя, биография, профессия, родственники и т.д.).
Каждый год только в нашей стране так заболевают несколько сотен мужчин (с женщинами такое не происходит), кто погибает, кто выживает, к некоторым счастливцам память возвращается. Это все весьма печально.
Наш герой Ямбо (так называют его родственники и близкие; по – итальянски – «Вихраст» – от «вихрастый» – персонаж детских комиксов) – муж, отец и дед никого не узнает и никого не помнит. Умберто Эко тонко истолковывает и развивает учение о трех видах памяти. Но мы не об этом. Ямбо отправляется в родительское имение Солару, где пытается реконструировать свое детство и свою юность по сохранившимся книгам, газетам, журналам, пластинкам, школьным сочинениям и т.д.
И это ему удается. Читаешь главу за главой, и в душе возникает некая резонансная вибрация: и со мной такое было. Принято думать, что детство-отрочество-юность – самая лучшая пора жизни. Эко стереоскопически показывает, что это не так. Неопределенность, зависимость от родителей, учителей, любовь-ненависть к взрослым, постоянное отстаивание места в школьной иерархии и т.д. делают эту пору жизни крайне болезненной, воспаленной и напряженной. Потом мы это забываем, и слава Богу.
Писатель отнюдь не педалирует внимание читателя на репрессивности школы (так скажем), но вызывает у него горячий внутренний отклик. Любая школа репрессивна, везде и всегда. К примеру, когда я учился, барышням нельзя было краситься, носить колечки-сережки, капроновые чулки (колготок еще не было). Современные школьницы ходят на занятия с пирсингом на пупке, а школа давит и давит, нивелирует, прессует индивидуальность и личность.
Любой человек старше 30 лет поймет-вспомнит, что фашистская школа была практически тождественна советской. «Балилла» – пионерская организация. «Впередсмотрящие» («Юные ликторы») – комсомол и т.д. Назойливая трескучая и пустая пропаганда. Впрочем, итальянский муссолиниевский режим был несравненно мягче нацистского и сталинского. Дивный пример. Где-то в конце 1990-х в Ораниенбауме я сидел в скверике на проспекте Юного ленинца (ныне – Дворцовый) и читал роман Эко «Маятник Фуко». И вдруг меня, как током, ударило: Эко в детстве жил на улице Юного фашиста. Грустно жить на свете, господа. Нам, русским, пережившим неимоверные и непомерные катаклизмы в прошлом веке, жизнь в Италии может показаться идиллической. Ничего подобного: страна пережила диктатуру Муссолини, вела кровопролитные войны (в том числе, в 1943-1945 гг., – гражданскую).
Книга чудовищно литературоцентрична. Она вся соткана из литературных аллюзий, можно назвать ее, в частности, сокровищницей европейской поэзии прошлого века. Образцовые примечания к роману подготовила Елена Александровна Костюкович, переводчица и комментатор предыдущих романов итальянского мастера. Читатель, без изучения комментария Ты потеряешь девяносто процентов наслаждения (как дамы говорят) от чтения романа. Жаль, что комментарии не подстрочные, не поленись, читатель, все время заглядывать в «конец» книги, не пожалеешь. Как комментатор прозы Андрея Белого, Валерия Брюсова, писем символистов и т.д. ответственно заявляю: подготовить такие примечания – филологический подвиг.
Кстати, мы все (взрослые) читали книги, которые упоминает-истолковывает Умберто Эко: «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо», «Сирано де Бержерак», «Приключения Тома Сойера», «Остров сокровищ» и т.д. Нынешние подростки о них и слыхом не слыхивали, а жаль. Это серьезнейшие «взрослые» книги, детскими они стали долгие десятилетия спустя после первого издания.
Однако это все некие величавые декорации к величавой мистерии Умберто Эко. На самом деле – это книга о великой юношеской любви героя к ровеснице Лиле Саба. Любви высокой, всесожигающей, небесной, бестелесной и, разумеется, безответной. Афродита Урания. Возлюбленная Ямбо уезжает в Южную Америку, где вскоре… Герой и слова не сказал с «предметом своей страсти», как писали беллетристы в позапрошлом веке, а вся его жизнь прошла под знаком этой осиянной звезды. Все женщины в жизни Ямбо – проекции этой прелестницы. Лила – редуцированная форма имени Сибилла. Совсем другая Сибилла занимает важное место в воспоминаниях Ямбо.
Ее-то герой и пытается воскресить в душе в третьей части романа. Читатель спросит, что такое «Таинственное пламя царицы Лоаны». А не скажу. Намекну лишь на то, что этот пленительный образ сложно и прихотливо восходит к героине романа Райдера Хаггарда (при Царе-Батюшке писали: Гаггарда) (1856-1925) «Она» (1887 г.) – Айеши. Читатель, помнишь фильм «Копи царя Соломона» – экранизацию прославленного романа Хаггарда. Романы англичанина и сейчас издаются-переиздаются. Горячо рекомендую. Великолепная беллетристика (роман «Дочь Монтесумы» (1893 г.) – шедевр приключенческой литературы) с тонкой мистической подоплекой (вот этого нет у Эко).
Любовь. Любовь. О ТАКОЙ любви, читатель, Ты не читывал. Я – отчасти начитанный человек, но здесь мне некого поставить рядом с Умберто Эко. Осип Мандельштам писал 90 лет тому назад:
«Золотистого меда струя из бутылки текла
Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела:
Здесь в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла,
Мы совсем не скучаем, – и через плечо поглядела».
Книга Умберто Эко напоминает медоносную струю, медленную, вязкую, тягучую, пахучую. Это не преувеличение, это констатация. Слово чести.
Автор в добавление еще и невероятно умен. Читатель, среди первоклассных, великих, прославленных писателей полным-полно дураков в самом обывательском смысле. Я не шучу. Талант и ум – вещи разномастные и разноместные.
Том богато иллюстрирован: обложки книг, журналов, комиксов, киноафиш и т.д. Есть и рисунки писателя. Все это не просто так: высвечиваются моментальные фотографии прошлого.
Книга проникнута каким-то античным ужасом (как в древнегреческих трагедиях). Финал ее проникновенно печален. Герой переживает второй удар, впадает в кому, но обретает память о прошлом. Он никому не может дать понять, что все вспомнил. На пороге понимания-осмысления всего-всего-всего Ямбо… Такая вот книга.
P.S. В следующий раз поговорим о романе Владимира Маканина «Асан» (премия «Большая книга» за 2008 г.).
Пуруша – не параша, или Новый роман Маканина
25 ноября минувшего года самой престижной российской литературной премии был удостоен роман Владимира Маканина «Асан» (денежный эквивалент – 3 миллиона рублей; первая премия). Это событие вызвало скандал еще до того, как оно состоялось. Критики окрысились, как пасюки натуральные (об этом – ниже). Большой роман о большой Чеченской войне. Итак: Владимир Маканин. М., Издательство «Эксмо», 2008. Тираж 15 000 экземпляров. 478 С.
Как обычно, несколько фраз об авторе. Владимир Семенович Маканин (ему уже исполнился 71 год) – выдающийся прозаик, автор шести романов, пятнадцати повестей и десятков рассказов – кумир «семидесятников» – «восьмидесятников», интеллигенции всех толков и «изводов». По «первому» образованию он – математик, выпускник механико-математического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. Позже он окончил Высшие сценарные курсы. Дебютировал романом «Прямая линия» в 1965 г.
Поэт Осип Мандельштам в «Четвертой прозе» (невозможно определить жанр этого произведения; скорее всего – исповедальная поэма в прозе) писал: «Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения». Грустно, но все так, все именно так.
Так вот: проза Маканина была формально «разрешенной». Но это «разрешенное» творчество первого ранга, сверхранга, если угодно. Писатель всегда вел себя в высшей степени достойно, не восславлял КПСС, не лгал и не подличал, не лизал руки литературным генералам (и был прав). Советские цензоры чуяли в произведениях писателя запрещенный воздух свободы, но по колхозной малограмотности подписывали его книги в печать.
Теперь о скандале. Еще до присуждения премии критики начали борзо писать о романе. Никогда этого не делаю, но на сей раз прочитал три рецензии маститых критиков.
Первый критик упрекает писателя в мелких фактических ошибках, мол, писатель там не воевал, мол, солдатики в Чечне по дороге из «учебки» в часть не могли «нажраться» в хлам, а «горючка» распределялась иным способом. Всё. Из этого вытекает, что рецензент прочитал только первую главу. Так роман не об употреблении военнослужащими горячительных напитков и не только о горючем в Чечне. В одном из интервью писатель сказал, что книга создана по рассказам его племянника, воевавшего и раненного в боевых действиях на Кавказе. Это весьма достоверная информация.
К примеру, мой отец – военный врач-рентгенолог, участник Финской кампании, Великой Отечественной войны всего лишь один раз участвовавший в штыковой атаке (немцы окружили госпиталь), рассказывал мне о войне сорок лет. Я помню много такого, о чем не идет речь в официальной истории ВОВ, в цензурованных мемуарах. Прежде всего это – абсурдность войны. Именно об этом проникновенно и пронзительно пишет Маканин.
Правда, у Маканина абсурдность несколько иная, нежели в рассказах моего отца. Война в Чечне не имела четко определенной линии фронта и «наши» продавали чеченцам … и … ценой крови своих боевых товарищей. Такое участникам ВОВ и в голову прийти не могло. Маканин показывает, что в современной войне колоссальную роль играет сотовая связь (наличие мобильников у «своих» и «чужих»).
Второй и третий критики невнятно жуют жвачку, мол, роман написан с оглядкой на Кремль, это – правительственный заказ. Вранье это всё: в романе есть прямые грозные обвинения в адрес ельцинского правительства и командования. А ещё: из премии писатель будто бы выплатил жюри «откатные».
Общее мнение таких «критиков» афористически подытожил критик-зоил, литературный скандалист Виктор Топоров (литературный Чикатило, как пишут о нем ласковые и учтивые коллеги): «Роман плохой, а писатель хороший». Все рецензенты, как положено, раскрывают ходы несложного сюжета, т.е. роман уже читать неинтересно. Друг-Читатель, не верь критику злому, а верь своему глазу прямому.

