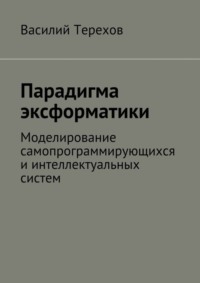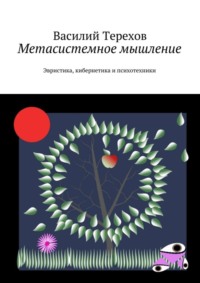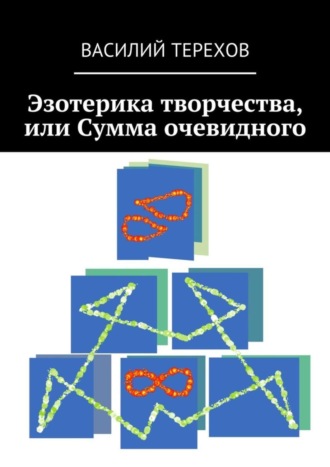
Полная версия
Эзотерика творчества, или Сумма очевидного
Например, он рассматривает четыре значения слова «причина» (на самом деле его древнегреческого эквивалента, – необходимо ещё учесть и проблемы перевода). Но то значение, которое чаще всего им используется, не сопоставимо с нашим современным понятием «причинно-следственная зависимость». Слово «причина» всегда подталкивает современного читателя к темпоральным ассоциациям, но аристотелевскому значению более точно соответствуют другие современные термины: «объяснительная схема» и «концепт».
Почему кажется, что идея о всеобщем движении и развитии изложена у Платона и Аристотеля нечётко? Быть может всё дело в том, что современные люди умнее и дальше ушли в своём развитии? Немецкие философы прямо и однозначно заявили о «диалектическом развитии» и «всеобщих связях» в отношении всего мира.
А теперь вернёмся назад.
Обратим внимание на один грубый нюанс. Помните фразу, в предыдущей главе: «Вообразим объект материального, чувственно воспринимаемого мира, например камень, дерево или орла, парящего в поднебесье…», и рассуждения о «гипнотической» функции камня?
Что же исчезло из фокуса внимания и незаметно внедрилось в подсознание, пока вы, читая эту фразу, пытались умозрительно представить камень и прочее? В этой фразе утверждается, что камень – объект чувственно воспринимаемого мира. В этой фразе – заранее (NB!) – мир поделён на части ещё до того, как в рассуждениях появился камень. Эти части можно называть иначе: субмиры, модули, этажи мироздания или слои.
Вот эти этажи: первый этаж – мир чувственно воспринимаемый, второй этаж – мир идеального или духовного. Эта схема – двухэтажная. И это предварительное утверждение, прошедшее мимо контроля сознания, вы воспринимаете не задумываясь, как безусловное, так как мысль сразу же переключается на последующие рассуждения о камне и прочем. Это произошло благодаря императиву «вообразим». Такая фраза предполагает получение неосознанного согласия.
Представление о многослойной, модульной вселенной характерны для самых древних мифологических представлений об устройстве мира. Есть, например, схема трёхкомпонентная: земля, небо и преисподняя. Такая схема принята в вавилонской и авраамистических космологиях. В одной из космологий каждый из этих трёх миров разделён ещё на семь слоёв, и таким образом схема является иерархически двухуровневой, модульной иерархической структурой.
В подробном, красочном и наглядном виде космологическая схема представлена у Данте Алигьери в «Божественной комедии».
Ад, – одна из частей схнмы, – изображается как подземная воронкообразная пропасть. Он доходит до центра земли. Склоны пропасти опоясаны кольцеобразными уступами – кругами ада. Этих кругов девять. Каждый из кругов предназначен для определённого вида грешников. Восьмой круг ада делится на девять рвов (это уже третий иерархический уровень в схеме). Девятый круг состоит из четырёх поясов. Ещё ниже находятся три пасти Люцифера. Над адом возвышается чистилище – то место, куда после смерти попадают все души умерших, чтобы затем пойти оттуда либо в ад, либо в рай. Оно имеет вид огромной горы с усечённой вершиной, на которой помещается земной рай. Нижняя часть этой горы образует предчистилище, а верхняя, как и ад, разделена на ярусы, их – семь. В небесной выси располагается третий структурный модуль дантовой вселенной. Это – рай. Он также делится на субмодули: нижний – небо Луны, выше небес и других светил – Меркурия, Венеры, Солнца, Марса, Юпитера и Сатурна. Ещё выше располагается звёздное небо (восьмое), и ещё выше кристальное небо, названное Перводвигателем, так как оно по замыслу приводит в движение все другие небеса. Но есть и ещё десятое небо, – самое верхнее, – Эмпирей (греч., пламенный), которое вечно и неподвижно и служит обителью бога.
Развивал космологическую концепцию Птолемей, он описывал космическое веретено (ось мира), которое образовано восемью вложенными друг в друга полусферами.
А по мифологии вьетнамских мыонгов мир отображается такой схемой:
первый компонент – земной мир (Муонг Пуа);
второй компонент – небесный мир (Муонг Клои, на небе правит Небесный Владыка);
третий компонент – подземный мир, разделённый на две части.
Эта иерархическая схема также двухуровневая, так как один из компонентов, подземный мир, имеет собственную вложенную внутреннюю структуру.
Представления о простоте мира, о всеобщей «пирамиде» – результат методологической предпосылки о возможности представления устройства мира в виде некоего чертежа, схемы. Эта схема состоит из элементов. Можно провести явную аналогию между такой схемой и, например, чертежом любого модульного механического устройства, состоящего из конструкционных узлов, деталей и т.д., то есть схема – это модель простой системы. Это схема иерархической модульной структуры.
Но всеобщая пирамида немыслима даже схематично в силу «парадокса пирамиды», поэтому в такой схеме параллельно и неявно присутствует вторая пирамида – движение, время. Эта вторая пирамида – процесс, вырожденный в последовательность. Но и вторая пирамида, как и любая пирамида, имеет скрытый парадокс. Поэтому далее логика метафизической мысли идёт по пути добавления дополнительного «сверхсильного» понятия – перводвигателя, который призван окончательно решить неразрешимый вопрос.
Теперь сосчитаем число осколков ядра метафизики. Их четыре, а не два, как может показаться «невооружённому глазу»:
1. Понятие субстанция.
2. Понятие вещь как явление, со скрытой предпосылкой о всеобщности движения и существования перводвигателя.
3. Допущение простоты мироздания, и принятие простой космологической схемы как его модели.
4. Предпосылка об универсальности и всеобщности движения, развития и времени.
В ядре метафизики скрыто содержится то, что философы называют натурфилософией. Несмотря на то, что философы всячески стремятся отойти от натурфилософии, мышление имеет противоположную тенденцию.
Теперь можно объяснить дихотомию материя/сознание. Под материей подразумевается вся материя мира, материальная часть мира. Поэтому материи противопоставляется не идея как субстанция, а сознание как идеальный мир, духовная часть мира. Эта дихотомия – неявная декларация ядра метафизики.
Может ли мирно сосуществовать с этой дихотомией в рамках такого мировоззрения дихотомия объект/субстанция? Особый акцент диалектика делает на дихотомии объект/субъект. Выделение этой дихотомии вытесняет дихотомию объект/субстанция, и акцент на дихотомии объект/субъект маскирует относительность наблюдения. В понятии субъект теряется его понимание как эквивалента понятия мыслящий интеллект, как термина тождественного терминам наблюдатель и исследователь.
Если ещё есть потребность в классификации философских учений и разделении их на две полярные группы, можно предложить вместо деления на материализм и идеализм деление метафизических систем на жёсткие и мягкие.
К мягким метафизическим учениям можно отнести философию Платона и Аристотеля. У них есть представление о множественности идей, но эта множественность не понимается как космический разум или вселенское сознание, – вопрос о сверхсильном понятии затушёвывается. При этом, как и всякое метафизическое учение, эта философия делит мир на два космологических слоя: мир идей и мир вещей. Но всеобщность времени смягчена: у Платона два времени – одно статическое в мире идей (реальный и вечный мир идей), в мире же вещей существует общее для этого мира динамическое время.
Жёсткие учения обращаются к понятию «перводвигатель», в той или иной форме, к всеобщей причинности и темпоральности. Так как роль перводвигателя в метафизической схеме заключается в том, чтобы как бы разрешить неразрешимый парадокс логической пирамиды, то такие учения можно назвать жёсткими. Жёсткое учение настаивает на окончательном решении парадокса своей пирамиды и на немедленной реализации лозунга: Наша пирамида – самая высокая пирамида в мире. Мягкое учение более склонно не акцентировать внимание на парадоксе, мягко уйти от ответов на тупиковые вопросы.
Метафизика вышла из недр физики. И вот что можно обнаружить: в физических теориях и воззрениях присутствует ядро метафизики. Почему, среди прочих, существует мнение, что физика не нуждается в такой надстройке как философская наука? Потому ли, что физики не хотят иметь дополнительных рамок, ограничивающих горизонты их мышления, или потому, что некоторые из них думают, что их собственное научное сообщество способно рождать не только Невтонов, но и быстрых разумом Платонов, или, грубо говоря, что конкуренты со стороны мешают возводить их собственную пирамиду физики?
Можно провести параллели между отдельными простыми космологическими схемами античности и отдельными научными и околонаучными теориями ХХ века.
Вот, например, миф о хаосе. В «Геогонии» Гесиода, «Илиаде» и «Одиссее» Гомера можно найти описание рождения мира из хаоса. Всё возникло из хаоса – весь мир и бессмертные боги. Этот миф как бы противостоит подробно детализированным описаниям многослойных схем мира. Но это только на первый взгляд. Эту схему отличает видимое отсутствие перводвигателя – сами боги появились из хаоса. Мир как бы самозарождается. Но представление о простоте мира присутствует здесь в явном виде. Это подтверждается наличием дополнительной и неявной натурфилософской пирамиды – представления о всеобщности развития и времени. Это легко показать: мир имеет начало, следовательно, он – возникает. Основная пирамида имеет два слоя. Схема, безусловно, двухкомпонентная: бессмертные боги противопоставлены остальной части мира. Также можно обнаружить и сверхсильное понятие, хотя оно и скрыто в контексте – это представление о самоорганизации.
В ХХ веке античный миф о хаосе приобрёл новую жизнь в физической теории физика Ильи Пригожина, которую он назвал синергетикой. Несмотря на явно неблагородное происхождение, – ведь, в сущности, синергетика – физическая теория, берущая свои начала в термодинамике, – она стала претендовать на роль новой философии и всеобщее применение. Положение «всё возникает из хаоса путём самоорганизации» представляет кредо этой научной системы.
Ещё одна теория, получившая распространение в ХХ веке – теория физического вакуума, или психофизика. В соответствии с этой теорией весь физический мир – надстройка над физическим вакуумом. Начав с этой концепции, психофизики затем стали усложнять физическую картину мира.
В одной из психофизических концепций физический вакуум становится уже многослойным, он состоит из семи уровней различных вакуумов и торсионных полей. Вас, наверное, уже не удивит тот факт, что вслед за расслоением физического вакуума у автора торсионных полей появляются представления о существовании всемирного сознания. (Шипов Г. Высокоорганизованная пустота. Витамакс/январь 1998).
В классической физике поля имеют частный характер. Физическое поле, например, может присутствовать, но может и отсутствовать в области локализации исследуемого физического объекта, говоря упрощённо, какой-либо предмет, к примеру, может быть магнитом, а может и не иметь никаких магнитных свойств. В отличие от таких полей, торсионные поля рассматриваются как вечные, всепроникающие и вездесущие, и, более того, как порождающие весь физический мир.
Ядро метафизики можно обнаружить не только в отдельных физических концепциях, но и во всей физике. Физику почти невозможно представить без использования понятий время и пространство, которые понимаются как всемирные слои простой схемы – физической картины мира.
В квантовой механике кроме них появилось ещё понятие пространственно-временной континуум. После этого космологическая схема физиков усложнилась, она стала иерархически двухуровневой. Слой пространственно-временного континуума в свою очередь состоит из пространства и времени, как слоёв уже второго уровня схемы.
Среди физиков популярна идея о создании единой физической теории. Но сторонники единой физической теории не могут отменить «парадокс пирамиды», и их увлекающая и грандиозная по замыслу идея-фикс постоянно буксует, – пространство и время остаются крепким орешком для учёных умов.
Также, как и метафизические учения философии, метафизические концепции и идеи в физике можно условно разделить на мягкие и жёсткие. К жёстким идеям можно отнести идею о создании единой физической теории. Пожалуй, самая мягкая физическая концепция из всех – принцип дополнительности Нильса Бора.
Но не только в физике можно обнаружить каноническое ядро метафизики. После появления кибернетики и сети Интернет стали возникать представления о существовании информационных полей. Являются ли такие представления метафизическими? Если речь идёт о частном информационном поле, то такое представление не является метафизическим, так как оно не является всеобщим, и, следовательно, не понимается как слой в космологической схеме. Приведу очень простой пример таких информационных полей, о котором без сомнения слышали все, – я имею в виду часто повторяемые в новостях и политических обзорах выражения типа «поле влияния», «правовое поле» и т. п.
Не возникло ли у вас в этом месте какого-то странного непонимания. Как будто автор сбился с темы. Как будто автор что-то передёргивает. Как будто ваши ожидания не соответствуют сказанному. Если это так, то почему? Потому, что стереотипы довлеют над каждым из нас. Они толкают к натурфилософским представлениям. Невольно слово поле ассоциирует с чем-то физическим, чем-то вроде электромагнитного поля. А «правовое поле» может восприниматься в контексте, как некорректное или формальное отступление. Но разве я сказал, что я – физик? Ну, может быть, я своего рода философ, но никак не физик.
Натурфилософский стереотип «информационного поля» имеет хождение в народе. В связи с распространением компьютерных технологий появилось много авторов, рассуждающих о неких «информационных полях».
Если понятие информационного поля приобретает всеобщий характер, становится компонентом простой космологической схемы, то понятие становится метафизическим, в негативном смысле этого слова.
Недавно я узнал определение информационного поля как эйдосферы, – по звучанию этот термин очень похож на «мир идей» Платона. Этот термин используется автором небольшой по объёму самодеятельной научно-исследовательской работы, посвящённой искусственному разуму. Работа опубликована на авторском сайте, и что обращает на себя внимание, так это то, что автор начинает с философских основ. По его мнению, виртуальный мир должен (?!) «контролироваться». Мир ему представляется чем-то вроде матрёшки, состоящей из вложенных друг в друга пирамид-субмиров.
Новые времена рождают новые мифы. Не появятся ли среди них новые чудовищные идеи, от которых снова содрогнется мир?
Глава 5. Нарушенное табу
Год 1946 считается годом рождения кибернетики. В 1946 году вышла в свет книга Норбера Винера «Кибернетика, или управление и связь в животном и машине» Эта книга стала научным бестселлером. Почти одновременно с появлением кибернетики возникла необходимость в разработке её концептуальных основ. И вот, появляется новая фундаментальная теория, названная общей теорией систем (ОТС).
История общей теории систем началась раньше, чем появилась кибернетика Норбера Винера. В начале ХХ века российский учёный Александр Александрович Богданов написал работу «Всеобщая организационная наука», так же называлась и его теория. Затем в 1912 году он публикует свою теорию уже под другим названием – «Тектология» (от греческого «тектон» – строитель).
Независимо от А. Богданова Общая теория систем разрабатывалась в 30-е годы Людвигом фон Берталанфи, позднее большой вклад в её развитие, уже после рождения кибернетики, внесли М. Месарович, А.И.Уёмов и другие. В 1954 году было организовано Общество содействия развитию ОТС (Society for Advancement of General Systems Theory), а в 1957 году – переименовано в Общество исследований в области общей теории систем (Society for General Systems Research). Таким образом, можно определённо сказать, что в 1954—1957гг. ОТС, как научная дисциплина, вступила в парадигмальную фазу своего развития.
Когда я впервые услышал об Общей теории систем, как концептуальной основе кибернетики у меня появилось желание ознакомиться с этой теорией. Моё любопытство разгоралось. Первой книгой, попавшей в мои руки, была книга голландского автора ван Гига. Но эта теория не удовлетворила моё любопытство. У меня появилось сомнение в отношении концептуальных основ кибернетики: «А, может быть, король-то голый?».
К числу ценных достижений ОТС можно отнести положение, согласно которому границы программ и компонентов в системах, как правило, не совпадают. Это утверждение интересно сравнить с положением диалектического материализма о том, что не может быть функции, свойства без локализации в определённых структурах или элементах. К наиболее ценным достижениям ОТС можно отнести также принцип изоморфизма. Суть этого принципа заключается в том, что различные по природе системы могут сравниваться в системном плане. С этим принципом связан метод аналогий.
Но общая теория систем в действительности не является «общей», и в этом её самый серьёзный недостаток.
Утверждается, например, что можно установить общую характеристику систем – сложность. Но, что же такое – сложность? В моём понимании речь идёт в основном о простых системах. Но даже если считать, что речь в ОТС идёт преимущественно о сложных системах, то почему тогда игнорируются «простые». Выходит, что общая теория систем в действительности – совсем не общая.
Считается, что с помощью общей теории систем и системного подхода делаются попытки разрешить дилемму между простотой и сложностью. Но попытки – это ещё не результат, другими словами, эта теория, по крайней мере, на сегодняшний день, эту дилемму не решила. Я думаю, что никогда и не решит.
Кибернетика считается теорией динамических систем. Простой здравый смысл и логика подсказывают, что «более» общая теория не должна быть теорией только динамических систем, так как в общем случае система может быть как динамической, так и нединамической. Однако в работах по ОТС речь идёт опять же о динамических системах: входах и выходах, назначении и функции, структуре и упорядоченности отношений, состояниях и потоках, управлении.
Считается, что системная парадигма – метод теории систем. Она чаще определяется как метод, который имеет дело с такими процессами как жизнь, смерть, рождение, развитие, адаптация, познание, причинность, взаимодействие. Все термины из лексикона ОТС связаны с понятием время.
Но в ОТС существуют различные направления. Например, А. И. Уёмов абстрагируется от времени систем, математизируя концепцию, но при этом он (к сожалению), категориально объединяется с материализмом и рассматривает только целостные системы. И при таком подходе определение «общая теория» тоже представляется не совсем корректным (ведь не целостные системы выпадают из поля зрения теории). К тому же А. И. Уёмов объявляет время, пространство, материю и т. д. «содержательными категориями», основные же понятия своей теории (вещь, свойство и отношение) он считает «формальными категориями». Таким образом, и те, и другие категории объединяются в общую двухслойную понятийную пирамиду такого «материализма», который является вариантом натурфилософии, построенной на основе канонического ядра метафизики.
Понятийный аппарат ОТС включает также такие понятия: открытые и замкнутые циклы, саморегулирование, равновесие, рост, устойчивость, воспроизводство и распад и т. д. Как видите, духом развития и движения проникнута вся теория. Почему это так? Мой вариант ответа заключается в том, что эта теория, так же как и кибернетика, основана на канонических метафизических представлениях. Эти представления предопределяют понимание движения и развития, как чего-то всеобщего, а понятие статика вовсе не противоположно понятию динамика.
Каждый, изучавший механику на уровне школьной программы, знает, что в механике под статикой понимается система неподвижная, а не та, которая существует «вне» времени (не во времени). В механике статическую систему определяют, как динамическую систему, движение которой описывается нулевыми скоростями. Другой вариант понимания статической системы в механике – это представление о динамической системе, рассматриваемой в течение бесконечно малого промежутка времени.
В ОТС определение «система есть совокупность или множество связанных между собой элементов» не производит впечатления. Ну, а уточнение, что эта совокупность может состоять из живых и неживых элементов не кажется содержательным, так как определения жизни, также как и интеллекта, живых и неживых элементов нет.
Но если всего этого нет в ОТС, то где же это должно быть?
Если говорить о концептуальных основах кибернетики, то на самом деле они – вовсе не в тех научных направлениях, которые задним числом, уже после выхода в свет известной книги Норберта Винера, разрабатывались как начала кибернетики, в том числе и Общая теория систем. В действительности эти основы можно обнаружить в самом первоисточнике, в книге Норберта Винера.
Однако эти новые, творческие гипотезы и догадки содержатся в ней не в явном виде. Они не сформулированы, а даны как размышления автора, частные наблюдения и выводы, которые как будто скорее играют роль литературных украшений в этой книге, которая рассчитана на широкую публику и по форме тяготеет к публицистике и научно-популярному жанру. Они могут казаться интересными подробностями, оригинальными по форме сентенциями, а не научным содержанием. Однако в них можно усмотреть что-то вроде начинающих прорастать семян нового мировоззрения, – семян, брошенных в жирную, культивировавшуюся тысячелетиями, почву метафизической натурфилософии. Эти скромные росточки можно даже и не заметить, если воспринимать всё в свете привычных догматов.
Ещё в первые годы появления общей теории систем возник такой вопрос, относящийся к предмету ОТС: может ли ОТС быть научной дисциплиной, пытающейся создать обобщённую научную модель как «систему систем»? Ответом на него был отказ от построения «системы систем», и это положение носит принципиальный, парадигмальный характер.
В общей теории систем стали выделять два основных научных направления: теорию Месаровича и теорию фон Берталанфи. Для различения их называют Общей теорией систем (ОТС) и Абстрактной теорий систем (АТС). Однако эта терминология не строгая: АТС можно понимать и как термин тождественный ОТС. Фон Берталанфи пытался построить простую иерархическую систему систем, а Месарович – придать своей теории «дедуктивный» характер, выводимость из ОТС частных теорий (кибернетики, теории конечных автоматов, теории алгоритмов и т. д.). То есть «система систем» превращается в «теорию теорий».
Это положение, а именно существующие общепризнанные представления о том, как может быть реализована научная концепция «системы систем», является визитной карточкой и главной тайной – табу Общей теории систем.
Я не нашёл развёрнутого объяснения этого табу в общей теории систем. Этот вопрос излагается скупо. Этот вопрос – вопрос «за кадром», вопрос между строк. Он – тщательно скрываемая и неприкосновенная парадигмальная тайна.
Я же могу дать своё объяснение. В основе ОТС лежит ядро канонической метафизики. Даже сама мысль о попытке разработки не-иерархической системы систем несовместима с тем, что считают метафизикой, так как такая попытка сразу же уводит за границы метафизики в запретную область, которая даже имени не имеет. Здесь я обозначил её как «метасистематика» и противопоставляю её «метафизике». Метасистематика – слово не новое, оно есть в учении йогов, а также его использует немецкий философ Пунтель.
Систему систем пытаются представить только как простую схему всеобщей иерархии систем. В связи с общим характером теории, такая модель неизбежно дублирует космологическую схему мира. В таком случае получается парадоксальная картина мира, всегда имеющая заплатки из дополнительных понятий для прикрытия парадоксов. Систему систем пытаются к тому же разрабатывать таким образом, чтобы она не перекрывала собой картину мира (а какую, как вы думаете?). Простая, космологическая модель мира имеет дополнительную сущность – время. «Систему систем» приходится «подлатывать» дополнительным категориальным понятием время, но единой метафизической системы систем всё равно не получается. Вот почему Общая теория систем – отнюдь не «общая», она рассматривает только динамические модели.
Научные схемы представляют собой простые, иерархические модели. Их создатели стремятся к тому, чтобы они были таковыми, считая это научным идеалом. Научные модели основаны на аксиоматике. Известен критерий построения аксиоматической базы – бритва Оккама: число аксиом и понятий должно быть минимальным. Но при этом известна также Вторая теорема Гёделя: в рамках теории всегда есть утверждения, которые выходят за рамки аксиоматической базы. А золотой середины, то есть такого минимального набора аксиом и понятий, который был бы базой всех утверждений в рамках теории, – не существует.