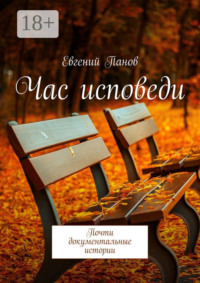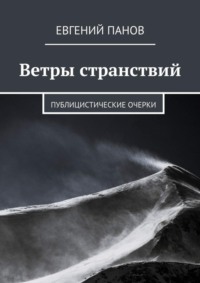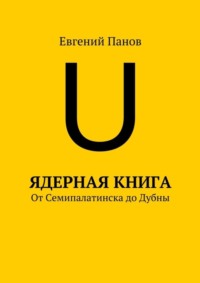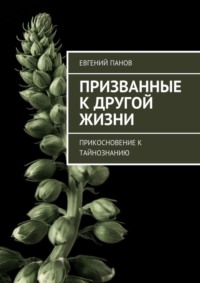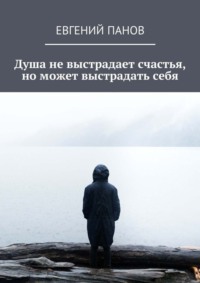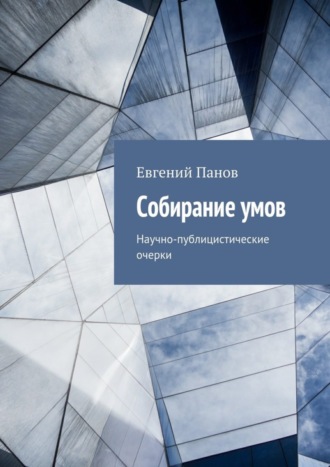
Полная версия
Собирание умов. Научно-публицистические очерки
Из беседы (по горячим следам) с президентом ассоциации «Российский дом международного научно-технического сотрудничества», бывшим министром науки Российской Федерации Борисом Салтыковым
– Вы называете себя «частным лицом», но остаетесь ведущим экспертом в той сфере, которую последовательно реформировали с декабря 1991 по август 1996 года. Кому, как не вам, знать, даст ли российский бизнес денег на экономику знаний?
– Венчурный фонд «Русские технологии» с капиталом в 20 миллионов долларов, созданный «Альфа-группой», был готов это сделать. Но не сумел. За полгода здесь просмотрели около 500 инновационных проектов и не отобрали ни одного.
– Среди полутысячи проектов не нашлось достойного? Разве в России мало замечательных идей? Разве они не реализуются только оттого, что нет денег?.. А тут, получается, деньги есть, нет проектов.
– Нет проектов, подходящих для венчурного финансирования. При такой схеме инвестор становится совладельцем предприятия, выращивает его, снимает сливки с новой фирмы, а потом продает свою долю и уходит. Оказалось, в России использовать эту схему пока невозможно. Во-первых, до конца не ясна ситуация с интеллектуальной собственностью, непонятно, кому принадлежит авторство – то ли разработчику, то ли фирме, то ли государству. Во-вторых, фирма, предлагающая проект, как правило, непрозрачна, не совсем понятно, кто ее акционеры, кто ей реально управляет, кто ее «крышует». В-третьих, часто нет бизнес-плана, поэтому велики риски, что продукция не будет востребована рынком. В-четвертых, авторы-изобретатели категорически требуют себе 51 процент пакета. Это против всяких правил, обычно треть идет владельцам патента, треть – менеджменту, треть – инвестору. На Западе инвестор соглашается и на 20 процентов, в России, ввиду огромных рисков, именно он хочет иметь 51 процент. Но этого же хочет и наш изобретатель. Говоришь ему: да, ты Кулибин и Ползунов в одном лице, но ты же ничего не понимаешь в рынке, ты же разоришься. А он твердит – «обманут, я должен подстраховаться». И переговоры заходят в тупик.
Идеи упрямых изобретателей интересны, но находятся не на той стадии проработки, чтобы вкладывать венчурные деньги. Идеи финансируются по другой схеме. На Западе есть так называемые «бизнес-ангелы», которые дают автору 30—40 тысяч долларов на доводку. Существуют и специальные государственные структуры, тот же Национальный научный фонд США, например, которые выделяют один-два процента своего бюджета на поддержку перспективных идей. После конкурса на ранней стадии прототипов, очень, кстати, жесткого, Фонд дает автору 50 тысяч долларов и говорит «работай!» Если через год у тебя что-то выйдет, рассмотрим возможность дальнейшей помощи. На второй стадии дают, если не ошибаюсь, 100 тысяч. Если идея превращается в проект, его финансирует венчурный капиталист или стратегический инвестор. А если не превращается… Что ж. Но бюджетные деньги изобретатель не возвращает. Конечно, он за них отчитывается. Контроль строгий: план, смета. Зарегистрируй фирму, работай официально, брось прежние занятия, сосредоточься на деле.
– И в чем же тут выгода государства? Или американцы могут себе позволить потерять эти деньги?
– Даже при неудачном раскладе один из 10 проектов, условно говоря, все-таки доходит до рыночной стадии и не только окупается, но и дает прибыль, которая перекрывает все издержки. Бюджет свое вернет. Уже есть десятилетние оценки функционирования этой программы в Штатах. Окупаемость хорошая!
– Эта система, по-видимому, подошла бы и России.
– Конечно. Ее надо довести до сознания тех, кто определяет инновационную политику.
– Наверно, это удастся только тогда, когда случится что-то невероятное. Например, вдруг кончится нефть и поневоле придется заняться высокими технологиями, начать переход к инновационной экономике. А пока нефть не кончилась, экономика знаний начаться не может.
– Она все-таки начинается. Зайдите, например, в Центральный экономико-математический институт РАН. Там кипит жизнь. Туда ходят студенты, им читают лекции по самым современным проблемам экономики. В столовую теперь из-за студентов не пробьешься, но это же прекрасно! Есть молодежь, которая хочет, несмотря ни на что, заниматься наукой. И такой молодежи становится все больше и больше.
И научившихся выживать ученых – тоже. В 91—93-м годах руководители Академии наук заявляли: наука и рынок несовместимы. А сегодня Институт ядерной физики в Новосибирском академгородке, которым руководит академик Скринский, делает уникальные установки в штучном исполнении на 15—17 миллионов долларов в год, выполняет заказы европейского ядерного центра.
Но таких институтов у нас немного. Больше наукоемких фирм, которые существуют вокруг академических институтов, например, в Черноголовке. Они занимаются нормальным «хай-тэком», который востребован рынком – приборами, реагентами или чем-то еще. Чего тут зазорного? Что, академический институт должен только звезды считать? Да этого никогда и не было. Всегда Академия наук занималась прикладными задачами.
Часть академических институтов начинает интегрироваться с образованием, как, например, уже упомянутый ЦЭМИ. Некоторые НИИ могут соединиться с образованием и стать исследовательскими университетами. В США – самой мощной научной державе мира – таких учебных заведений сейчас 129. Идея исследовательского университета очень продуктивна. Хотя бы тем, что обеспечивает двойное использование специалистов, оборудования, площадей, средств. Исследовательский университет в Штатах должен выполнить поисковых работ на столько-то миллионов долларов и подготовить столько-то докторов, причем вторая функция приоритетная.
– Слушая вас, невольно приходишь к выводу, что российская наука чувствует себя не так уж плохо и что слухи о ее кончине сильно преувеличены.
– На самом деле наука недореформирована. Нынешняя модель – промежуточная, переходная от советской модели, которую я бы назвал административно-патерналистской, к американской – назовем ее либерально-инновационной. Первая опиралась на государство, конкретно – на министерства и ведомства, на плановую экономику, на бюджет. Вторая опирается на свободный университет, в котором существуют свободные лаборатории и исследовательские группы, которые не спрашивают у ректора, чем бы заняться, не ждут указаний, а сами ищут ресурсы и заказы, сами их выполняют, комплектуют штаты по средствам, покупают то оборудование, что им нужно. Такая наука гораздо более подвижна. На ней-то и держится инновационная экономика.
– И мы, по-вашему, движемся в сторону именно этой модели?
– И неизбежно к ней придем. Наука станет гораздо более компактной, гораздо более мобильной, гораздо более нацеленной на интересы промышленности и общества. Без такой науки нам не прожить, ведь нефти и газа на всех не хватит. Однако гоняться за Америкой давайте больше не будем. Давайте будем скромными. Давайте реально оценивать свой потенциал. Те направления, где мы сильны, необходимо сохранить и поддержать. Но нужно, грубо говоря, сохранять не поголовье стада, а его продуктивность. Если у вас доятся 5 коров, их и кормите досыта, а от остальных избавьтесь. Сохранить научный потенциал – это вовсе не то же самое, что сохранить численность НИИ. Высвобождаются люди? Рабочие места можно передвинуть в высшую школу, в исследовательские университеты, в бизнес, в управленческие и консалтинговые структуры и так далее. Значит, все по-прежнему упирается в структурную реформу науки и образования. Продолжать финансировать 450 академических и 2,5 тысячи всех прочих институтов из нашего тощего бюджета – бесперспективное дело. Вся наша наука имеет меньше, чем хороший американский университет. А он имеет несколько миллиардов долларов в год. Бюджет США на науку – 90 миллиардов долларов. Общие затраты – 240 миллиардов. Поэтому сейчас у нас по определению не может быть науки, сравнимой с американской – большой, дорогой, действующей по всему фронту. Наука – всегда заложница экономики. Большую Фундаментальную науку могут позволить себе только очень богатые страны. Либо тоталитарные – СССР, теперь – Китай. Сейчас на науку в России идет один процент валового внутреннего продукта, по этому показателю мы занимаем 21 место в мире. А по численности научных работников по-прежнему находимся на одном из первых. Значит, они у нас оснащены нищенски. Выводы? Они очевидны.
– Очевидные выводы тянут за собой очевидные следствия. Самое очевидное предложение – изменить финансирование.
– Да. Проекты надо финансировать через специальные фонды – раз. Два – необходимо финансировать саму исследовательскую, творческую среду: институты, лаборатории, научные центры. Но не все подряд. Отберите институты, где самые современные установки, где самые молодые перспективные кадры, где люди имеют наибольшее число публикаций, и дайте им больше. А сейчас делят бюджет по численности. Но ведь все знают, что в институте, где, условно говоря, числятся 360 человек, реально работает 60, прочие держат трудовые книжки.
– Начав «за здравие», мы как-то незаметно съехали на заупокойную ноту…
– Поскольку нынешняя модель откровенно переходная, о ней нельзя говорить исключительно в мажорном тоне. Академия наук не реформирована? Нет. Значительная часть институтов ВПК не реформирована? Нет… Где тут повод бить в литавры? Но! Рядом с ними все-таки выросла новая наука. Мы о ней говорили. Ее масштабы, правда, небольшие. Есть уже и частная наука. Или корпоративная. Например, научно-исследовательский институт «ЮКОСа», что называется, с иголочки, насыщенный самым современным оборудованием. Туда приглашают людей со всего земного шара – лучших специалистов в мире в своей области. В корпорации «Интеррос» есть свой институт по цветным металлам. Подобные институты есть в Газпроме, в РАО ЕЭС. Они уже живут в другом, «богатом» мире.
Ростки новой науки особенно хорошо видны в гуманитарной области: в экономике, политологии, социологии полно негосударственных центров весьма высокого профессионального уровня и живут они только на заказах. Как, кстати, и многие бывшие академические институты. Короче, на фоне старой формируется новая наука. Они соседствуют, сосуществуют.
– До поры, до времени? Пока новая окончательно и бесповоротно не вытеснит старую? И тогда, как нам пророчат, Россия действительно останется без фундаментальной науки?
– Что такое фундаментальная наука? Самое простое определение: это наука, не имеющая сегодня никакого коммерческого применения, в отличие от прикладной науки, нацеленной на конкретный коммерческий результат. Знания, полученные фундаментальной наукой, открыто публикуются и могут быть использованы всеми во всем мире. Когда-нибудь. Возможно, они не будут использованы никем и никогда, но если дело все-таки доходит до внедрения идей, то преимущество получает тот, у кого хорошая инновационная система. А у нас она пока плохая. Поэтому нашими идеями с выгодой для себя обычно пользуются другие. Мы и так практически бесплатно кормим знаниями весь мир.
– Но мы же не желаем опускаться до составления бизнес-планов, что и показала практика фонда «Альфа-групп». Не царское, видимо, это дело.
– Вкладывать ресурсы в фундаментальную науку в России надо, но не во все направления подряд, как это было в СССР. Нужно поддерживать исследовательские коллективы, которые ведут работы на мировом уровне. Сейчас же мы продолжаем финансировать все советское научное наследие. В результате всем не хватает средств. Поэтому давайте попробуем тратить свои деньги с умом. Давайте направим тот небольшой бюджет, что достается науке, не только на фундаментальные исследования, но и на создание современной инновационной системы, на организацию технопарков, венчурных фондов. Давайте сами воспользуемся плодами своего интеллекта!
На двух полушариях
Российский интеллект всегда играл огромную роль в формировании мировой цивилизации, утверждает его серьезный исследователь, президент РАЕН Олег Кузнецов. На вызовы времени он отвечал явлением гения, будь то гений Пушкина, Достоевского, Менделеева, Вернадского, Бердяева или коллективный инженерный гений, который особенно ярко проявился в авиации, космонавтике, транспорте, электронике, телевидении, в создании ракетно-ядерного щита и самой крупной в мире минерально-сырьевой базы.
Сегодня российский интеллект распространился по всему миру. Известна роль, которую играют российские программисты в Силиконовой долине, российские преподаватели и профессора в американских университетах; известно, сколь многочисленна российская научная диаспора в Германии, Канаде, Австралии. Российский интеллект сегодня работает на развитие высокотехнологичного комплекса современного мира.
Но этим «списком Кузнецова» влияние российского ума на цивилизацию планеты не исчерпывается. Мир безоговорочно признает величие русской литературы – той литературы, что творит собственные вселенные, Вселенные Толстого, Достоевского, Булгакова. Мир отдает должное своеобычной российской философии – учению русского космизма, видя в ней непривычную для Запада широту. Та же широта и притягивает и пугает Запад в русской литературе. Всеохватность – родовая черта русского способа мышления, проявляющегося во всех сферах, в том числе, понятно, и в науке. Владимир Иванович Вернадский обозначил этот способ термином «эмпирическое обобщение». Он не укладывается в прокрустово ложе методологии, обязательной в господствующей научной парадигме со времен Ньютона, Декарта и Лейбница (эксперимент – тысячекратное подтверждение опытных данных – выводы – построение теории, должной объяснить факты), ему, при желании, можно вообще отказать в «научности», но результаты этот способ приносит удивительные.
В 1880 году молодой русский ученый Сергей Подолинский, занимаясь термодинамикой, как бы между делом обратил внимание на то, что в процессе труда энергия не растрачивается, а напротив, концентрируется. Все работающие машины портятся и, поскольку сами заменить изношенных деталей и частей не могут, то, говоря на языке термодинамики, доля свободной энергии, затрачиваемой на полезную работу, при этом сильно уменьшается. Человечество же, взятое в целом, постоянно увеличивает долю свободной энергии, идущей на полезную деятельность. Оно упорядочивает все природные процессы, которые до вмешательства человека были хаотической тратой энергии. Чтобы стать совершенной в термодинамическом смысле машиной, то есть не растрачивать в процессе работы энергию, а собирать ее, человечество должно отказаться от использования запасенной посредниками-растениями солнечной энергии, то есть от растительной и животной пищи и напрямую подключиться к солнцу как к источнику питания.
В 1925 году ту же мысль высказал Вернадский в статье «Автотрофность человечества», напечатанной в солидном французском журнале. Что будет происходить с человечеством по мере освоения всей поверхностной оболочки планеты? – задается вопросом ученый. В конце концов, окультуривая все возможные биоценозы, оно должно овладеть непосредственным синтезом пищи из минеральных источников. Пока человек в питании зависит от остального растительного и животного мира, он не может в достаточной степени быть обеспеченным. Подойдя к пределу своего охвата природы мыслью, человечество должно перейти к иному способу питания – автотрофному. Синтезируя пищу непосредственно из солнечной энергии, человек подтолкнет историю Земли к неслыханному геологическому перевороту, к новой геологической эре в истории планеты. Собственно, это будет уже не человек, а какое-то другое разумное существо.
В 1925, а тем более в 1880 году предположения Вернадского и Подолинского были расценены как фантазии, недостойные серьезной науки. В 2003 году мы видим, что «фантастические» идеи блестяще подтверждаются. В разных концах Земли появляются так называемые «солнцееды», отказывающиеся от еды и питья и переходящие на питание светом. Их – возможно, предтеч нового биологического вида – на планете уже тысячи и тысячи. По некоторым данным, их уже целых 8 тысяч человек. И они в 1999 году уже провели свой съезд в Лондоне. Они уже пишут книги под названием «Праническое питание». Никто из пророков-ясновидящих или футурологов не додумался, что шестая раса может оказаться расой «солнцеедов. Додумались русские космисты, владевшие специфически российским способом решения научных, технологических, инженерных, вообще говоря, творческих задач и проблем, в котором проявляются родовые черты русского ума.
Они дают о себе знать при обращении к не строго формализованным областям знания, когда философы, ученые, которых лучше назвать красивым словом «естествоиспытатели», включают в равной степени левое и правое полушария мозга, мысля рационально и иррационально одновременно. У исследователей Европы и США преобладает рациональное мышление, российские универсальные, всеохватные концепции мироздания во многом основываются на интуиции, на гениальных прозрениях.
Голос Ойкумены
Так полагает президент РАЕН Олег Кузнецов. Но русский ум сосредоточен ныне не только в самой России. Наши соотечественники из бывшего СССР живут и успешно работают в 83 странах мира. По разным оценкам, на Западе находится от 5 до 8 миллионов русскоязычных людей. Россия совершенно неожиданно для себя самой породила Всемирную Русскую Ойкумену, – говорит ее идеолог и глашатай, когда-то ленинградский профессор, а ныне президент «Math Tech, Inc.», Нью-Йорк, США, Юрий Магаршак. За 10 лет без единого выстрела наши культура и наука распространились на весь мир. Эмиграция из Советского Союза – самая образованная за всю историю человечества. Русская диаспора – самая интеллектуальная в мире. Посетите семинары по теоретической физике или по математике в самых уважаемых университетах Англии, Франции, Соединенных Штатов. На многих из них русский язык является вторым рабочим языком, а иной раз и первым. В Соединенных Штатах вице-президентами множества крупных фирм являются русскоговорящие люди. Точка зрения, что экономический бум Америки девяностых связан с массовой эмиграцией из Восточной Европы, не лишена оснований.
При всем том мы совершенно другие. И это сразу же становится понятно в любой области – в лингвистике или в биологии, сразу же проявляется в любой лаборатории, в любом университете, в любой фирме. Наше глобальное отличие от Запада – широта. Широко не только наше образование, но и наше понимание мира. Наш подход к делу с идущей от национального характера неопределенностью – своего рода квантовая механика по сравнению с механистическим Западом.
Мы пробиваемся к цели любыми путями и средствами, уклоняясь от правил, добиваясь того, чтобы система работала, а потом заделываем бреши и находим более рациональные решения. Америка, Европа и Азия работают совершенно иначе. Там, где китаец стремится к детализации, европеец к точности, склоняется к компромиссу, к золотой середине, человек русской культуры стремится к широте и выходу из собственно проблемы для решения этой проблемы. Мы действуем за пределами задач, а не по их внутренней логике. Мы не боимся приближенных и грубых решений, будучи уверенными, что детали осмыслим и доделаем потом – если потребуется. В результате нам удается непостижимым для Запада способом соединять все и вся, находить новые нетривиальные ответы на любом уровне и в любом месте.
Таким образом, у российского подхода к науке и технологиям есть своя уникальная ниша, которую специалисты иных культур и школ заполнить не могут. Возможно, нашим национальным способом никогда не наладить производство тщательно отделанных «Мерседесов» или телевизоров, способных конкурировать с «Сони». Но он, как никакой другой, дает возможность создавать новые устройства, прототипы, уникальные продукты, развивать абсолютно новые подходы и принципы.
У нас – Ползунов, у них – Эдисон
По-видимому, за границами обозначенной Юрием Магаршаком ниши российский интеллект чувствует себя не совсем уютно. Там, где начинается наукоемкий бизнес, он не совсем в своей тарелке. Еще в советское время мы неизменно отставали от Запада во внедрении научных и технологических идей. Если там на воплощение уходило 5 лет, то здесь – 20. Конечно, в плохой экономической системе хорошие технологии, скорее, исключение, а не правило, конечно, их внедрение тормозилось негибкостью планового хозяйства… Но вот плановой системы давно нет, но ведь и инновационной нет. Ее нет до такой степени, что не на что потратить выделенные на инноватику деньги, и венчурный фонд «Альфа-групп» не находит среди пятисот проектов ни одного, достойного внимания!.. Не потому ли, что российский интеллект действительно не желает опускаться до составления бизнес-планов? Ему это просто не интересно. Это для него и впрямь не царское дело. Поэтому для Запада показательна фигура преуспевающего изобретателя и одновременно преуспевающего бизнесмена Эдисона, а для России – неудачника Ползунова, сконструировавшего первую в мире паровую машину, но не сумевшего ее построить и умершего за неделю до пуска своей паросиловой установки, первой в России. Коммерциализация научного, изобретательского таланта, достижение исследователем, естествоиспытателем, мыслителем богатства и независимости у нас невероятная редкость.
Мир привычно списывает это на «загадку русской души», а мог бы списать на «загадку русского ума». Ему обязательно надо знать, «ради чего». Идеалы творцов наук и технологий выражались формулой Леденцова «Наука – Труд – Любовь – Довольство». В документах основанного Христофором Семеновичем Общества последовательно отстаивается мысль, что именно пронизанность жизни духовными идеалами, стремлением к научному и технологическому совершенству не просто создает «серьезную и ясно ощущаемую экономическую заинтересованность», но делает бытие осмысленным и продуктивным. Лучшие умы России еще век назад нашли собственную работоспособную схему управления технологическим прогрессом и действенную схему наукоемкого бизнеса, не претящего душе и уму. На Первом Всероссийском съезде изобретателей в 1916 году Н. Е. Жуковский говорил об «организации научно-лабораторной разработки изобретений» и о «национальных научно-технических лабораториях возникновения и осуществления изобретений» и о реализации изобретений через мелкое предпринимательство. Российская схема инновационного бизнеса включала идеалы, духовные ценности в качестве важнейших элементов.
Лента Мебиуса
Бегство нашего ума за рубеж было актом самосохранения. Спасением от «безумной траты самого дорогого достояния народа – его талантов. А между тем эти таланты никогда не возобновляются непрерывно. И даже если бы оказалось, что процесс их создания в нашем народе еще длится, все же одни личности механически не могут быть заменены другими».
Горькие слова Вернадского, сказанные в 1927 году, можно было каждый день повторять в конце века, когда за границу перекочевывали уже не отдельные представители российской науки, а целые лаборатории и институты. Но, слава Богу, к трагедии это не привело: таланты возобновлялись, процесс их создания в народе еще длился. И, к счастью, пока еще длится. Потому что, писал сам Вернадский, «раса достаточно здорова и очень талантлива», потому что творческие люди «приходят в мир независимо от общественных условий, иногда вопреки неблагоприятным обстоятельствам». «Появление творчески одаренных личностей – биологическое явление, существа которого мы не знаем». В России это явление проявляется со всей возможной наглядностью – независимо от общественных условий и вопреки неблагоприятным обстоятельствам. Русский ум подрастает, словно молодой сосняк на месте вырубленного бора. Русский ум – что пена на кипящем котле: чем больше снимаешь, тем больше набегает.
Запас талантов в стране такой, что мы можем поделиться им с другими. И делимся – как нефтью, газом, лесом. Пресловутая «утечка мозгов» – не что иное, как экспорт интеллекта. Он идет давно, благодаря чему российская научная и интеллектуальная элита рассеялась по всему миру. Похоже, производство умов – и в самом деле миссия России, ее настоящая роль в мировой цивилизации. Не знаний, а именно интеллекта, который затем и производит знания. По образцу Царскосельского лицея.
Притоку российских талантов мир противиться не станет, уверен Олег Кузнецов. Мир и так ждет от России рождения революционеров и гениев… Тех, что практически бесплатно уезжают на Запад? – саркастически вопрошает Борис Салтыков.Да,Россия экспортирует умы, причем, в возрастающих масштабах, и делает это с ущербом для себя, – ведь мозговая подпитка планетарной цивилизации фактически ничего не стоит, экономически она еще менее выгодна, чем экспорт сырой нефти или круглого леса…
Прагматик и реалист Салтыков прав, но прав как прагматик и реалист. Ведь интеллект все-таки не мазут и не бревна. Его миграция, надо полагать, подчиняется иным законам, нежели движение товаров. Однако, чтобы придти к этой мысли, надо выйти за пределы болезненной проблемы «утечки умов» и взглянуть на дело шире, как и предполагается в русской традиции. При таком взгляде становится очевидно, что в зарубежных университетах и лабораториях русский ум не ослаб, не очерствел, не завял, не переродился, не перестроился на западный манер и не переменил своих базовых качеств. Гигантский интеллектуальный потенциал Русскоязычной Ойкумены остается потенциалом русского ума. Сегодня его экспорт практически бесплатен, но он сродни вложениям в надежные банки под большие проценты, поскольку в процессе «потребления» интеллект не иссякает, наоборот, прирастает и развивается. Через какое-то время этот умноженный капитал вернется в Россию – здесь он дома, здесь ему всего комфортней.