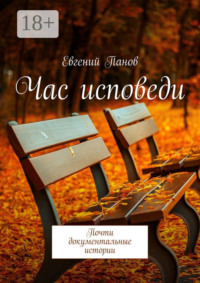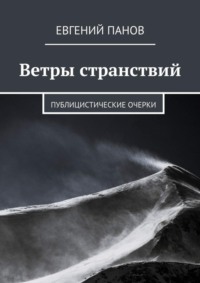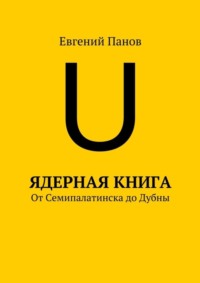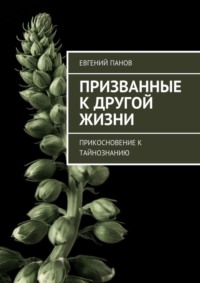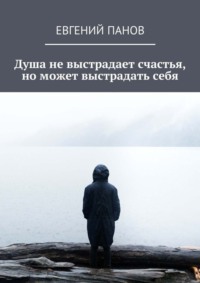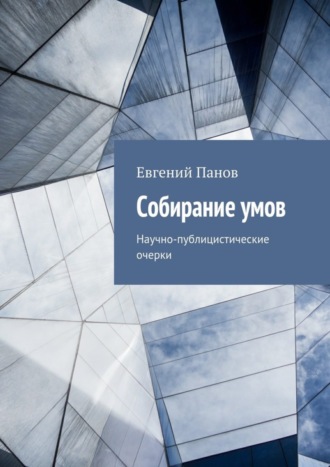
Полная версия
Собирание умов. Научно-публицистические очерки
Греческим словом «парадигма» классик науковедения Томас Кун назвал некоторую общепринятую концепцию, систему убеждений, ценностей, исследовательских методов, разделяемых членами данного научного сообщества на определенном этапе истории. Но сегодня наука, будучи не в состоянии объяснить мир своими средствами, объединяется с религией, философией и эзотерикой. Создается не просто «теория всего», не просто система науки, а система жизни, система бытия.
Именно такую систему ищут на Дербеневской в небольшом зальчике с колченогими столами и драными стульями. Помещение на первом этаже престижного дома принадлежит Всероссийскому обществу охраны памятников истории и культуры, что, видимо, и спасает его от посягательств новых хозяев жизни, много раз пытавшихся прогнать интеллектуалов и сделать из запущенной норы еще один сверкающий магазин или офис. Нора содержится на средства отчасти Общества, отчасти самих семинаристов, бросающих в «общак» по тридцатке, а кто не может, и по двадцатке (ну, а совсем неимущих, понятно, прощают). Мебель и интерьеры никого не волнует. Выступить у Лисина почитают за честь. И выступают: творцы новых концепций и теорий, заслуженные профессора и доморощенные философы, «секретные» инженеры и изобретатели-«самоделкины», целители и врачи. Через Дербеневскую прошли многие из подлинных носителей интеллекта нации, ярчайших представителей русского ума. Здесь его пристанище. Здесь он дома. Здесь ему хорошо.
А хорошо ему не везде.
Интеллект – модернизация – развитие
Не слишком хорошо ему и в фешенебельном московском «Президент— отеле» – его аура благоприятствует бизнесу и политике, а не углубленным размышлениям, но именно здесь, на Якиманке, тоскливым осенним днем говорилось об интеллекте России. Он стал предметом внимания участников «круглого стола», организованного президиумом Российской Академии естественных наук. Русский ум, а не нефть или газ был назван главным богатством страны. И произнес эти слова не кто-то, а председатель Совета Федерации Сергей Миронов, третье лицо в государстве. И, к тому же, произнес в связи с национальной идеей, которую, как известно, никак не найдет Россия.
Из вступительной речи Миронова следовало, что такой идеей может стать утверждение власти разума в противовес власти денег, что общество созревает для перехода в новое качество – «общество знания», страна готовится к выдвижению в лидеры мировой экономики знаний, а посему инвестиции должно направлять не в добывающие отрасли, а в человеческий капитал. Новая – инновационная – экономика требует нового – духовного – человека. Над его воспитанием предстоит потрудиться российской интеллектуальной элите. Интеллектуалы, занятые в науке, литературе, искусстве, средствах массовой информации должны объединиться под знаменем Национального комитета «Интеллектуальные ресурсы России».
Ради презентации, лучше сказать, освящения Комитета, собственно, и собирался «круглый стол». А также ради представления сопредседателей – третьего номера во власти страны Сергея Миронова и президента РАЕН Олега Кузнецова, озвучившего слоган «Интеллект – модернизация – развитие» и разъяснившего, для чего России «модернизация» и куда должно быть направлено «развитие».
Преобразования, согласно Кузнецову (и тем силам, от имени и по поручению которых он выступал), необходимы для того, чтобы обеспечить движение страны к инновационному обществу, примером которого является американское, от сырьевого, типичным образцом которого служит современное российское. Мы можем, конечно, пойти и в сторону технологического общества (пример – Япония), что, вроде бы, легче, и даже аграрно-туристического (Италия), хотя для северной страны это трудно. Вопрос в том, чего мы хотим.
Почему это Россия не проживет без фундаментальной науки? – задал простой вопрос один из бывших вице-премьеров российского правительства ученым, утверждавшим, что, ну, никак не проживет. Живут же без нее и Германия, и Япония (общества технологического типа) и живут, как известно, неплохо… Так что простые вопросы в действительности самые неудобные.
Ответ тоже прост и тоже неудобен. Доходов от экспорта газа, нефти, металла, леса, минеральных удобрений хватит, чтобы обеспечить приличную жизнь 30—50 миллионам граждан страны, потому что, как ни печально, сырьевые богатства России вовсе не несметны. За счет чего могут достойно существовать остальные 100 миллионов человек? За счет транспортной ренты, как Египет или Панама? Исключено. За счет туризма, как Таиланд или Андорра? Смешно. Или, может быть, нам надо наводнить мир ширпотребом, как Китай? Но китайские товары заведомо дешевле, конкурентные преимущества на их стороне. Значит, остаются технологии. В высоких технологиях – будущее России. А их не создашь без науки, без знания.
Вывод: Россия объективно стоит перед необходимостью очередной модернизации. Это научно-технологическая модернизация. Ее движущей силой должен стать интеллект. Сейчас, по данным Олега Кузнецова, его доля в национальном богатстве оценивается в 5 процентов, ничтожных на фоне 83 процентов сырьевой составляющей. В инновационном обществе доля интеллекта на порядок выше. Поэтому от инновационной экономики, от общества знания нас сейчас отделяет пропасть. Но, как это ни парадоксально, еще большая пропасть разверзлась между сырьевым российским и технологическим обществом японского или немецкого типа. Расчеты показывают, что, вложив 10 триллионов рублей в развитие технологий, мы снова отстанем от мировых лидеров на полвека. Стало быть, надо сосредоточиться не на технологиях как таковых, а на производстве знания, которое уже и создает технологии. Любые. В любом количестве. Для всего и для всего остального мира.
Из беседы (по горячим следам) с президентом РАЕН Олегом Кузнецовым и членом РАЕН, науковедом, философом Анатолием Ракитовым.
– Итак, способна ли Россия стать мировым лидером в производстве знаний?
. По своему интеллектуальному потенциалу, по качеству национального интеллекта – да. Может быть, и новую экономику, которую нам предстоит построить, следует назвать даже не инновационной, а экономикой знаний, и даже не собственно экономикой, а особой деятельностью по производству знаний… Но пока, как известно, страна находится в глубоком системном кризисе, во многом потому, что интеллект очень слабо используется. На отдельных направлениях у руля государственного корабля стоят двоечники. О. Кузнецов
. Это мягко сказано! Но будем соблюдать политкорректность и выражаться академически. Так вот, говоря академическим языком, некомпетентность когда-то была имплантирована в организационную структуру общества. И мы всегда за нее очень дорого платили – поражениями и гигантскими потерями в 1941 году, «лысенковщиной» и почти безнадежным отставанием в науках о жизни, отставанием в информационных технологиях… Примеров, впрочем, сколько угодно. Достойную жизнь нам может обеспечить лишь компетентное общество – общество знания. Однако понимания этой простой и очевидной мысли пока не наблюдается. А. Ракитов
– Значит, речь идет о приоритетной государственной задаче?
. Речь, по сути, о начале нового этапа в новейшей истории России – этапа созидания. Мы должны приступить к собиранию умов. Как возрождающееся, усиливающееся, находящееся на подъеме государство начинает собирать земли, так мы должны начать собирать умы. О. К
– Вы полагаете, вокруг Комитета сплотятся интеллектуалы, творческая интеллигенция? Сейчас эти люди разобщены, каждый выживает, как может в условиях жесткой конкуренции со стороны собратьев по науке, образованию, технике, культуре и искусству.
. Как раз это способствует сплочению интеллектуальной элиты. Она оказалась в странном положении. Многие из нас чувствуют себя иммигрантами внутри своей страны. Творческую интеллигенцию такая ситуация ни в коей мере не удовлетворяет. Она «голосует ногами». Но есть и другие способы. О. К
. То, что наука в России все-таки выжила, само по себе феноменально. Промышленность выстояла потому, что ее продукция была кому-то нужна. А наука – только за счет людей, которые в нее вросли, никому больше она была не нужна. А. Р
. Наука выжила за счет самоорганизации. Так, люди, стоявшие у истоков Российской Академии естественных наук, понимали, что самоорганизоваться необходимо, потому что вскоре наука в России не понадобится никому, кроме самих ученых. О. К
Боюсь, еще немного, и им она тоже не понадобится. А. Р.
. Я хотел бы напомнить, что российская наука уже проходила через подобные испытания. Наш великий соотечественник Владимир Иванович Вернадский писал, что в истории государства бывают такие периоды, когда власть полностью теряет интерес к науке. Именно в эти периоды ученые должны создавать внутри страны научные сообщества с особым творческим, интеллектуальным климатом, образом жизни и деятельности, и продолжать работать на благо государства и его граждан. О. К
. Согласен. РАЕН является примером такого сообщества, прообразом компетентной структуры. Это обнадеживающий симптом. Чего? Стремления общества выработать механизмы самосохранения и развития. Отрадно, что уже есть организации, которые пытаются посеять на нашей почве инновационные зерна. А Р.
– «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». По этому бессмертному принципу создавалась РАЕН. По этому принципу создается и Комитет интеллектуальных ресурсов?
. Да, это акт самоспасения. О. К
Р. Бегство наших ученых за рубеж – тоже акт самоспасения. Они ведь тоже руководствовались этим вечным российским принципом. Многие уезжали просто затем, чтобы не деградировать. А.
. И теперь занимают лидирующие позиции в науке на трех континентах, а российский интеллект распространился по всему миру. О. К
И это замечательно. Поэтому не стоит с позиций квасного патриотизма выступать против отъезда ученых за рубеж. Надо спасать мозги на благо всего человечества. У интеллектуала должна быть свобода выбора. Поэтому, кстати, он всегда предпочтет участвовать в открытой организации. А открытость – одна из самых привлекательных черт РАЕН. А. Р.
. Академия имеет отделения за рубежом – в США, Германии, Южной Корее, Китае. Это серьезные отделения, потому что зарубежные ученые считают за честь состоять в РАЕН. О. К
Эта академия – феномен. Организация российских интеллектуалов вышла за пределы России и получила настоящее мировое признание. А. Р.
. В РАЕН состоят 23 нобелевских лауреата, живущих в США. Членами РАЕН были наши нобелевские лауреаты академики Н. Г. Басов и А. М. Прохоров. Нас почтила своим участием плеяда блестящих отечественных ученых. Высокий интеллектуальный потенциал свойствен академии изначально: она создавалась как организация авторов научных открытий, зарегистрированных в ГосКомитете СССР по открытиям и изобретениям. О. К
С помощью общественной научной организации нужно было вырваться из мертвой зоны, в которую попала советская наука, преодолеть кастовое деление, которое в ней существовало. В РАЕН не делят ученых на «своих» и «чужих». С ней может сотрудничать любой мыслящий человек. Она открыта. А. Р.
. И – доброжелательна. Это тоже важно. Это серьезный организационный фактор. Не менее важны и особенности ее структуры. РАЕН была задумана как «матрица», «столбцы» которой – профессиональные отделения, а «строки» – отделения региональные. Этих последних – 50, в них решаются, как правило, комплексные проблемы. Есть еще специальные междисциплинарные отделения, например, геополитики и безопасности, проблем нефти, наук о лесе. Есть и секции, например, гуманитарных проблем – «Человек и творчество». В эту секцию избраны представители самых разных сфер культуры: поэты, художники, музыканты… В целом же РАЕН является одной из самых крупных сетевых организаций в России. О. К
– По видимому, структура Академии естественных наук и послужит образцом структуры Комитета интеллектуальных ресурсов? Его тоже, наверно, имеет смысл создавать в виде «матрицы».
. Да, Комитет целесообразно сделать сетевой организацией. О. К
– А что, если он нацелит страну и общество на производство даже не знаний, а интеллекта, умов, светлых голов, талантов, которые уже и будут производить знания? В истории России есть образец «производства» такого рода. Царскосельский Лицей подготовил интеллектуальную элиту, которая блестяще проявила себя в различных областях творчества и служения Отечеству.
Все так. Но это задача многоступенчатая. Уже на первой ступени Комитет будет способствовать появлению молодых интеллектуалов, которые построят настоящее общество знания. О. К.
При условии, что это новое поколение будут учить совершенно по-новому – в элитных исследовательских университетах. А. Р.
– Насколько мне известно, в РАЕН уже есть один такой университет, и его ректором является Олег Леонидович Кузнецов.
Да, это Университет природы, общества и человека в подмосковном наукограде Дубна. Он работает уже семь лет и с каждым годом становится все интереснее. Теперь у нас 23 специальности, а начинали с восьми. Университет «Дубна» уже приближается к среднеевропейскому. О. К.
– Небольшой уютный вуз в зеленом элитном городке – этакий подмосковный геттинген…
. В «Дубне» действительно сохраняются лучшие традиции советской и германской образовательной школы, но это очень современный университет. Постепенно он превращается в исследовательский. Совместно со знаменитым Объединенным институтом ядерных исследований создана кафедра биофизики, создаются новые кафедры – теоретической физики и прикладной ядерной физики. На них уже набрали студентов – штучно. Открыта кафедра геофизики, которая уже ведет серьезные исследовательские работы. О. К
– Чем – с точки зрения подготовки интеллектуальной элиты – исследовательский университет предпочтительнее обычного, того же МГУ с его традициями и школой?
Студент исследовательского университета с третьего курса участвует в настоящей, а не учебной научной работе и выходит из стен вуза не «молодым специалистом», а профессиональным исследователем. Такой университет выпускает научные кадры. Наверное, создание таких вузов – единственный путь подготовки компетентных специалистов. Надо сосредоточиться на поддержке исследовательских университетов, а не распылять средства по всем 640 государственным вузам страны. Когда раздают всем сестрам по серьгам, на среднее вузовское фундаментальное исследование приходится 30 тысяч рублей в год. Что можно исследовать на такие деньги? А. Р.
– Значит, надо менять систему финансирования науки и образования, а это уже прерогатива власти.
. И ее первостепенная забота. Растить и поддерживать интеллект нации – одна из важнейших задач государства. О. К
. В России следует говорить не просто о поддержке, а о стопроцентном участии государства в этом деле. А. Р
. У нас без государства просто ничего не получится, ученые будут барахтаться, но… О. К
– Но пример РАЕН показывает, что в России может эффективно работать и общественная сетевая структура.
. Она могла бы работать в сто раз эффективнее, если бы власть уделяла ей то внимание, которого она заслуживает. О. К
. Поэтому идеей Комитета нужно обязательно заинтересовать правительство. А. Р
– Вы в один голос говорите: без власти никуда…
Такая уж у нас страна, такой менталитет… О. К.
– …и такая власть. Мы ведь про нее все знаем. И не питаем по поводу ее заинтересованности никаких иллюзий. Да, в России без государства ничего не делается, но при такой организации государственной власти сделать ничего нельзя. Так как же быть? Может, все-таки построить Комитет так, чтобы он как можно меньше зависел от государства?
Мы постараемся сделать его инструментом гражданского общества, работающим в определенном контакте с представителями законодательной, а может быть, и исполнительной власти. О. К.
. Надо сотрудничать со всеми ветвями и со всеми представителями власти. Кто понимает, помогает или хотя бы не мешает – тот и друг. А. Р
Из беседы (по горячим следам) с академиком Российской академии наук Самвелом Григоряном
– Сегодня только ленивый не призывает сделать из России сырьевой Россию наукоемкую, но как решить эту насущную задачу, толком не знает никто.
– Комитет мог бы поставить перед собой задачу вовлечь в формирование инновационной среды, инновационной системы бизнес и государство. Под нравственной «крышей» Комитета происходило бы привлечение денег в науку, накачка средств в инновационные механизмы. А как это сделать? Давайте обратимся к нашему собственному историческому опыту. В России сто лет тому назад был придуман такой механизм. Я говорю об Обществе содействия успехам опытных наук и их практических применений имени Христофора Семеновича Леденцова, больше известном как Леденцовское общество. Оно действовало в Москве с 1909 по 1918 годы. Отлаженная лучшими умами России структура обеспечивала, говоря нынешним языком, быстрое внедрение разработок в производство и реальную помощь исследователям и изобретателям. Под флагом Общества собрался цвет российской науки. И это не могло не привести к удивительным результатам.
– Науковеды считают Леденцовское общество самой эффективной инновационной структурой ХХ века. Ее отличала интеллектуальная мощь, крепкий финансовый фундамент, полная юридическая самостоятельность и свобода хозяйственной деятельности. И появилось Общество задолго до западных «бизнес-ангелов» и венчурных фондов, до знаменитой американской Силиконовой долины.
– Это национальное достояние, национальная гордость России! И к тому же – готовый инновационный механизм!.. Я дважды писал Президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину о необходимости возродить Леденцовское общество. Но мне даже не ответили. Писал я и президенту Союза промышленников и предпринимателей Аркадию Ивановичу Вольскому. И тоже не получил ответа.
– И все-таки попытка возрождения предпринята. Но не властью или бизнесом. Это сделали энтузиасты. 9 апреля 2002 года правнучкой Христофора Семеновича Ниной Дмитриевной Луковцевой и ее единомышленниками зарегистрирован Фонд содействия успехам опытных наук и их практических применений имени Леденцова.
– Это замечательно. И?..
– да. И – ничего. У Фонда нет ни рубля. Есть устав, основанный на леденцовских принципах – демократизме, научном свободомыслии, заботе о государственной пользе, нормальном предпринимательском прагматизме при безусловном предпочтении нравственной экономики, сочетании денежных дел и дел души. Есть идеалы и традиции. Есть – потенциально – около 200 миллионов долларов, хранящихся в страховой компании «Эквитабль», Нью-Йорк. Это деньги российской науки, в том числе, Московского государственного университета и Технического университета имени Баумана – правопреемников учредителей Леденцовского общества. Вернуть их энтузиастам не под силу. Нужна серьезная профессиональная работа. Кто ей займется? Ректоры МГУ и Бауманского университета Садовничий и Федоров не заметили обращений Фон Вам не ответили власть и бизнес, правнучке Леденцова – наука и образование.
–Вот для решения подобных проблем, думаю, и создается Национальный комитет «Интеллектуальные ресурсы России». Его задача – с помощью интеллекта вернуть Россию в число перворазрядных государств. Так, по крайней мере, заявили в «Президент-отеле» сопредседатели Комитета. Это, разумеется, цель не только Комитета, но для него это смысл и содержание повседневной работы. Чтобы она была успешной, потребуются поддержка власти и деньги бизнеса.
– Многие обратили внимание на то, что среди активистов Комитета нет представителей серьезного бизнеса.
– Боюсь, на формирование инновационной среды наш бизнес в ближайшее время денег не даст. Потому что у нас он, скажем так, неправильный. А вот умный, национально ориентированный бизнес должен отреагировать немедленно. Надеюсь, в России все-таки уже есть такие предприниматели. Они сумеют воспользоваться историческим наследием, национальным достоянием, которым является Леденцовское общество. Участие в его делах резко поднимет статус бизнеса и сделает имидж бизнесмена гораздо более привлекательным. Когда вы вкладываете деньги в нравственный проект, в нравственную экономику, это совсем другое дело, нежели покупка футбольного клуба за границей. В высшей степени нравственно в свое время поступил российский промышленник и предприниматель Леденцов, пожертвовавший весь свой огромный капитал на создание Общества, как он писал, «друзейчеловечества» и фактически положивший начало всей научной инфраструктуры СССР, а теперь и России.
– Первый взнос – 100 тысяч рублей золотом – он сделал инкогнито в кассу Московского университета. А сегодня его ректор не считает нужным хотя бы ответить правнучке дарителя!
–Университетская, научная среда возбудится, если придет в возбужденное состояние пока что нейтральный атом власти.
– И что же, по-вашему, может его возбудить?
– Его может возбудить общественное мнение.
– Вы думаете, власть прислушается к общественному мнению? Это совершенно не в российских традициях.
–Надеюсь, власть его услышит. Усвоит примеры. Осмыслит аналогии. Примет доказательства. Я математик, а в математике не уговаривают друг друга, а доказывают. Дважды два всегда четыре, независимо от вашего отношения к двум двойкам. Как бы вы ни относились к опыту Китая, он доказывает, что идея превратить страну в инновационную может быть принята властью и может реализовываться как приоритетная. В Китае для этого была составлена партийная, государственная, общенациональная программа – очень, по сути, простая. Ее можно выразить известной формулой «Учиться, учиться и учиться». Тысячи и тысячи китайских студентов поехали учиться за границу. Во всех приличных советских вузах было полным-полно китайцев.
– Сейчас они едут за знаниями в лучшие европейские и американские вузы. Российские в Китае уже не котируются.
– Да, они взяли у нас все, что могли, а мы щедро поделились своим интеллектуальным багажом. В Китай из СССР, из других стран социалистического лагеря приехали специалисты во всех областях человеческих знаний и умений. Я был в их числе. За три месяца я прочитал годовой специальный курс по сверхзвуковой аэродинамике. Тогда ведь начала создаваться сверхзвуковая авиация. Китай хотел ее иметь. Поэтому меня слушали не студенты, а молодые инженеры, только что окончившие авиационные вузы. Со всей страны собрали в Пекинский университет 80 человек, посадили за парту…
Через много лет на одной из конференций в Пекине ко мне подошел один из моих давних слушателей. Он стал генералом, профессором. Четвероиз тех «школяров» превратились в профессоров-генералов, видных руководителей оборонной отрасли. Многие другие – в «просто профессоров». И так было во всех сферах человеческой деятельности.
Китай показал, как можно развивать инновационную экономику на государственном уровне, как привлечь капитал – сегодня деньги только втекают в страну, о вытекании, как в России, и речи нет. Вот так и строилась держава, которая недавно запустила человека в Космос.
– Говорят, «Волшебная лодка» – первый китайский космический корабль – слизана со старого советского образца, забывая, что он выводит на орбиту полезного груза в несколько раз больше, чем советский прототип. Там, где не было ничего – ни научных школ и традиций, ни конструкторского задела, ни промышленного потенциала, – китайцам хватило сорока лет, чтобы копия оказалась лучше оригинала.
– Значит, за сорок лет можно создать научные школы, построить заводы, подготовить кадры. За сорок лет можно сделать «из России сырьевой Россию наукоемкую». Но войти в число перворазрядных стран можно и за гораздо меньший срок – если мобилизовать национальный интеллект и придать ему в помощь капитал и властный ресурс.
Вспомните, за какой срок были восстановлены индустриальная мощь и экономика СССР после войны с фашисткой Германией, когда разрушения были несопоставимо значительней, чем после недавней бескровной революции под названием «перестройка». Наш народ способен на великие свершения, но для этого нужна цель – настоящая, общенациональная, нужно то, что называется национальной идеологией, вместо которой в нашей стране насаждается грубая и бессмысленная жажда наживы.