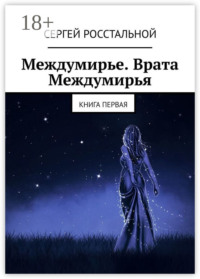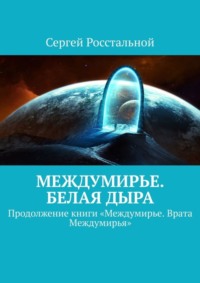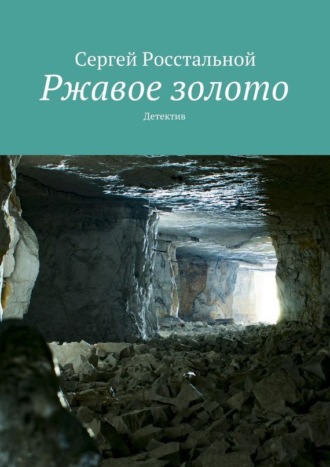
Полная версия
Ржавое золото. Детектив
– Всё чёрное! – сказал Лерыч, – чёрные археологи, чёрный рынок… А деньги им тоже чёрные дают?
– Это точно, Валера, что деньги у них чёрные. Они ведь и силой не побрезгуют ради «товара» – у них называется «хабар» – случалось, между ними и разборки были: участки делят, как собственность. Один курган роет с одной стороны, а другой пригнал бульдозер с другой стороны! А за нами, значит, следят? Спасибо, ребята, что усмотрели, будем иметь ввиду.
Дежурный грюкнул кастрюлей, сняв её с очага.
– Ну что, Игорёк, звонить на обед? – спросил Садиков.
– Звоните, Андрей Данилыч. Уже всё. Путём длительного нагревания в присутствии катализатора, полностью ликвидированы ядовитые свойства содержимого кастрюльной ёмкости, в результате чего процент условной съедобности доведён почти до ста!
Садиков рассмеялся:
– А что за катализатор?
– Как всегда: соль и перец.
– О! Годится!
И Садиков, поднявшись, взялся за верёвку, на которой подвязан кусок рельса, а рядом с ним висела полупудовая гиря. Раздавшийся звон означал начало обеденного перерыва.
– Располагайтесь с нами обедать, – радушно предложил Садиков, – Всякий человек, одолевший с утра десять километров по степи, с удовольствием съест наш скромный обед. Игорь, что там внутри?
– Картошка с мясом, сэр.
– О!
– И сладкий крымский лук.
– Отлично!
– Компот готов ещё со вчерашнего дня. Стоит во льду. Но его не я варил, так что извините, если что.
– Проглотим всё!
Со стороны раскопа, отряхивая пыль с одежды, бодро шли чумазые археологи. Скоро они затарахтели мисками, ложками, и кружками; начали плескаться у бака с водой, отмывая руки.
Мы выложили на общий стол свежую малосольную керченскую селёдку. В наших местах она считается самой замечательной рыбой из всех местных рыб. Археологи обрадовались несказанно.
По правде говоря, многие из них отправились именно в эту экспедицию, прежде всего, для того, чтобы побывать на море бесплатно, вполне законно за государственный счёт. Я это знал точно, потому что это у нас всем известно. В наших краях все археологические экспедиции похожи на цыганские табора, из-за обилия женщин (жёны научных работников) и их детей. Здесь им и работа и курорт одновременно. Трудиться по бытовой части, так или иначе, всё равно придётся, и жёны археологов, конечно, занимаются в экспедициях кухней, стиркой и детьми. Но казённый проезд и питание значительно улучшают настроение. Нет того противного ощущения проматывания денег, которое часто возникает у людей низкого достатка, едва стоит такому человеку хоть куда то сдвинуться дальше своего города на много дней. А уж научных работников к богачам не отнесёшь. Поэтому выехать на раскопки для них – настоящая удача. Но экспедиция Садикова всё же отличалась от многих других тем, что здесь не было детей, и меньше женщин. Только две из них были чьими то жёнами, а ещё четыре девушки были студентками, приехавшими работать на раскопках так же, как все. Все – это, преимущественно, питерские студенты, и ещё несколько научных специалистов возраста Садикова и дяди Валика.
Обед съедался с большим аппетитом. Казалось, минуя пищеварение, он немедленно рассасывался по всему организму, и хотелось ещё и ещё.
За столом нам кратко объяснили, что здесь раскапывают. Предыдущая экспедиция в позапрошлом году начала, а Садиков в этом году продолжает, разрабатывать античное городище, название которого ещё не установлено. Раскопано несколько каменных кладок – стены разрушенных построек. Сейчас активно откапывают колодец, и, рядом, руины какого-то большого помещения, возможно, конюшня. Судя по культурному слою, здесь люди жили весьма долго; было найдено большое количество обломков глиняной посуды.
После обеда мы, конечно, отправились посмотреть на раскопки. За разрытыми ямами, которые мы видели сразу, было как бы понижение долины, и в нём-то мы и увидели главную работу археологов, сделанную на данный момент. В раскопе были видны несколько каменных кладок квадратной формы, с дверными проёмами. И между ними – дыра колодца, тоже выложенного камнем. Это был как бы маленький кусочек древнего города, квадратной формы, отобранный у земли. Дальше от этого места расходились во все стороны узкие шурфы, которые копали на месте предполагаемого продолжения раскопок. Садиков объяснил нам, для чего нужны шурфы, и как с их помощью планируется раскоп. Говоря в общем, копая такие шурфы, определяют, где стоит копать, а где нет. Они пересекают предполагаемую площадь раскопок в разных направлениях (клетками), и могут встречать на своём пути стены строений, погребённых под землёй, разные другие объекты, если такие имеются, и тогда становиться видно, где и в каком направлении, надо вести раскопки в первую очередь. Кроме того, шурф даёт представление о толщине и насыщенности культурного слоя – слоя грунта, в котором скрыты древние артефакты – следы прошлой человеческой жизни. Сравнивая данные соседних шурфов, можно планировать раскопки в каждой клеточке между ними, или же не копать зря там, где ничего нет.
На наших глазах студенты-археологи щётками освобождали из земли кузнечный молоток, ржавый, но не потерявший форму. Им, знать, подковывали лошадей, здесь уже нашли несколько подков.
– А оружие находили? – спросил Лерыч.
– Нет, ещё не попадалось, – ответил Садиков, – но надеемся на это. Оружие – это всегда интересно. Кости животных есть – лошади, козы. Дальше – посмотрим. Я планирую нарыть траншеи вокруг раскопа, и определить границы этого городища, так как предполагаю у него не очень большие размеры. Возможно, его основа – это один, или два колодца. Так что здесь могла быть большая ферма, и несколько ремесленных мастерских, ну и все бытовые строения, конечно, тоже. Я сильно подозреваю, что ещё немного, и всё – культурная площадь закончится. Нет, это не значит, что в этом году раскопки будут исчерпаны. Копать можно долго, но границы не велики. А мы предполагаем выполнить ещё одну работу, если получиться, конечно.
– Какую же?
– Раскопать вон тот курган, – и Садиков показал нам на островерхий курган, виднеющийся в жарком мареве, метрах в ста отсюда. – Он был предварительно исследован несколькими предыдущими экспедициями, но они так и не решили вопрос о том, как его раскопать. Есть проблемы.
Дядя Валик предположил:
– Наверное, нужно много людей, чтобы за лето разрыть такую гору. Экскаватором ведь его трогать нельзя.
– Не в том дело. Видите воронку от взрыва бомбы на его склоне?
Один склон кургана был словно выгрызен огромными челюстями. Края воронки уже давно сгладились, обсыпавшись, и она вся заросла травой, но её глубина была очень заметна, и из неё торчали белые глыбы камней, словно кости из раны. Ещё когда мы ходили по высотам, выискивая лагерь археологов, я заметил по всей степи такие отметины – большие и маленькие воронки – степь активно бомбилась и обстреливалась во время последней войны.
– С другой стороны кургана ещё две такие же воронки, – продолжал Садиков, – и одна из них почти у вершины. Он сильно пострадал при бомбёжке. Видимо, во время боёв, на кургане держали оборону наши войска, и курган прицельно бомбили с самолётов. Наши коллеги установили, что внутри кургана находится целое погребальное сооружение – склеп-усыпальница довольно больших размеров. Он сложен из камней. В результате бомбовых ударов стены склепа сильно пострадали, и находятся на грани обрушения. Они бы и рухнули, если бы не упирались в потолочный свод. А свод тоже сложен из камней, особым образом, и готов развалиться от малейших нарушений. А за ним рухнут и стены, усыпальница превратиться в руины. Кто знает, какие ценности при этом могут пострадать. Всё это может произойти, если раскапывать курган снаружи. Вся внутренняя конструкция, находящаяся на грани обрушения, как бы статически стабилизировалась. Давление земляных масс со всех сторон держит её в каком-то равновесии, но что произойдёт, если начать убирать десятки тонн грунта – никто не берётся предсказать.
– А откуда вы знаете, что там произошло внутри? – спросил я.
– В некоторых местах склоны кургана просели. Анализируя эти деформации, и сделав несколько контрольных бурений до касания стен склепа, наши коллеги нашли, что погребальная камера обрушивается, но этого ещё не произошло.
– А что, внутри кургана уже кто-то был? – это спросил Лерыч.
– Внутри этого – нет, но такой же курган, называемый Царский, был раскопан много лет назад недалеко от этого же мыса Хаджи-Бурун. Этот устроен если не так же, то подобным образом. В нём, возможно, похоронен другой скифский князь. И может так повезёт, что его в древности не разграбили. А чёрные археологи были всегда, так что, сомневаюсь. Но, всё равно, ценный материал там, несомненно, есть.
– А как же вы, Андрей Данилыч, собираетесь в курган попасть?
– Есть одна идея, ребятки, и она может оказаться вполне реальной. Из-под земли! Через каменоломни!
– Каменоломни! – подпрыгнул Лерыч, – Они есть и здесь?
– Есть, – авторитетно сказал я, опережая Садикова. Как местный житель, я не мог допустить, чтобы такой важный вопрос кто-то осветил раньше меня.
– В них добывали камень для строительства сотни лет, – продолжал я, – Под землёй огромный лабиринт, и он протянулся далеко от города.
– Верно, – сказал Садиков, – Я интересовался этим вопросом, и даже смог найти старую карту верхнего уровня Хаджи-Бурунского участка. Карте более ста лет, у меня ксерокопия. Карта сама рабочая, без координат и с неизвестными неточностями. Возможно, с неверным масштабом. Можно сказать, не карта, а схема. Она предназначалась чисто для текущей работы по добыче камня, для контроля и учёта забоев. Так что её точность мне не гарантировали. Но я предполагаю провести по ней уточняющую разведку, что бы выяснить, нет ли под курганом туннеля, из которого можно прокопаться прямо в склеп.
Лерыч задохнулся от восхищения этим планом – похоже, он был уверен, что всё начнётся прямо завтра, ждали только нас.
– А вы знаете, где находится вход? – спросил я. Ведь не будут же археологи пробираться на Хаджи-Бурун через главный вход за городом, в двух десятках километров отсюда, тот, у которого стоит монумент в честь подземных партизан.
– На Хаджи-Бурунском участке есть несколько входов, – ответил Садиков, – но все они обрушены. Однако, кроме них, есть несколько больших наклонных шахт, которые остались целы, и их можно найти в степи. Но, сами по себе, эти шахты никакого представления о месте не дают. Чтобы знать, куда ты попадаешь через данную шахту, надо иметь привязку к главному входу. Места всех четырёх главных входов известны, один из них я уже нашёл в километре отсюда. Он, как я уже сказал, завален. По карте от него можно сделать ориентировку на Хаджи-Бурунский маяк и иметь представление о том, что у тебя сейчас под ногами. Таким образом, я смог сориентировать одну из вспомогательных шахт, которая имеется неподалёку, и привязать её к схеме уровня. Теперь, спускаясь в шахту, знаешь, в каком коридоре находишься.
– Здорово! – сказали мы с Лерычем, – А шахту вы нам покажете?
Этот вопрос тут же разрешил дядя Валик:
– Шахта вам совершенно ни к чему! Подземелье не место для прогулок. Если там не ведутся работы, то и нам там делать нечего. Работы ведутся здесь, на поверхности, здесь мы и будем знакомиться с достопримечательностями.
– Ну папа-а… – протянул Лерыч и осёкся. Детская привычка канючить всегда пробивается у него, когда дело доходит до таких интересностей. Дядя Валик сердито вскинул брови:
– Я не понял, Лерыч! – строго сказал он, – это что за нытьё? Тебя что, развлекать обязаны?
– Всё, не буду, – сразу серьёзно ответил Лерыч.
Обед уже давно закончился, и археологи снова взялись за работу. Мы пошли вместе сними, они – работать, а мы – смотреть. Каждый из них снова устроился на своём участке работы и снова принялся за прерванное дело. Кто-то, лопатой, осторожно, снимая землю тонкой стружкой, подбирался к пласту культурного слоя. Кто-то, видимо, более опытный, кисточкой или щёткой расчищал грунт в разрытых местах. Так разрабатывался каждый квадратный метр раскопа. После каждого взмаха щётки мы ожидали увидеть блеск старинного металла, или кость давно умершего живого существа. Но, к нашему разочарованию, земля, под действием шанцевых инструментов, просто превращалась в рыхлую труху, горсть за горстью. Мы с Лерычем всё надеялись, что вот немедленно станем свидетелями отличной находки, но как бы не так. Не даром Садиков сказал, что 99% работы в раскопе приходится на простое перекладывание сотен килограммов и тонн грунта. Один из студентов, с помощью одноколёсной тачки, раз за разом, вывозил в сторону и высыпал землю – результат долгой работы всех остальных археологов. Работа шла, но всё только на те самые 99% – никакие находки нам на глаза не попадались.
Потом мы побывали в рабочей палатке старшего научного сотрудника Вячеслава Белокунова. Здесь он собирал разбитые горшки с помощью компьютера, цифровой фотокамеры и нескольких измерительных инструментов. Программа, установленная на его ноутбуке, обрабатывала цифровое изображение каждого горшечного обломка и подбирала черепки друг к другу. Из тысяч найденных фрагментов иногда несколько подходили друг к другу, и тогда их складывали в одну коробку, что бы потом склеить в реставрационной мастерской.
Мы выходили из палатки Белокунова, когда мимо проходил Садиков и сказал:
– Ну, что, Славик нахвастался вам своей гончарной мастерской? Это ведь его идея – горшки собирать. А мысль ведь верная – в пределах одного объекта остаются все части одного сосуда. Вот теперь копают, собирают все черепки, и записывают в компьютер. Глядишь – вылезет красивая амфора. Иностранные музеи купят обязательно.
– Андрей Данилыч, – обратился я, – а мы тоже можем поискать черепки?
– Что, желаете поработать на раскопках? А как же море, пляж, отдых?
– Желаем, желаем! – быстро встрял Лерыч, – А на море можно иногда сходить поколбаситься.
Лерыч в тайне надеялся на то же самое, на что и я – на великое археологическое открытие. Одно дело дурачиться на пляже – друг друга в песок закапывать – дурацкая забава отдыхающих, явившихся из глубины континента, и другое дело – серьёзно рыться в земле, и потом оставить свой след в музеях мира. Чем не отдых? Тут уж будет, о чём вспомнить. В школьном сочинении на тему летних каникул у Лерыча будет не детский отчёт: «в этом году я уже доплыл до буйков», а взрослое сообщение: откапывал, де, древнюю жизнь, бок о бок с серьёзными учёными. Можно будет в тему приплести философскую мысль, вроде: «без прошлого нет будущего». Но даже без перспектив школьного сочинения, Лерыча колбасило от возможности так увлекательно провести время. Я заметил, что дядя Валик очень доволен нашим желанием. Идею трудотерапии по отношению к сыну он носит в себе всегда. Полагает, что расслабляться отпрыску вредно, и разгульный отдых считает вредным и разлагающим. Дядя Валик сторонник ленинской мысли о том, что отдых это смена деятельности. Но у Лерыча, по его мнению, отдых прочно мыслится с дуракавалянием и дармовыми забавами. А тут наследник вдруг сам изъявляет желание потрудиться ниже уровня грунта. Дядя Валик хитро улыбнулся в усы и спросил:
– А как же, на Казантип, что ли не поедем уже?
– Поедем, конечно, папа! Ведь через неделю уже начинается. Но поедем только на один день. Туда и… переночуем, и, обратно.
– Ну, хорошо, Лерыч. Валяй! На Казантип уже человеком появишься.
Звуки скребков и сапёрных лопат вдруг нарушил какофонический мотоциклетный стрекот. Он появился издалека, и, по мере приближения, всё больше выдавал собой двигатель «Запорожца». Наконец, волоча за собой шлейф пыли, появился маленький вездеход «Волынь» с крымскими номерами – вторая машина экспедиции. На ней приехали четыре молодых археолога, отдыхавших в «Азовской волне» предыдущие два дня. С собой они привезли десяток огромных, ярко-полосатых арбузов, и пятидесятилитровую пластиковую бочку пресной воды. С ними, так же, была пачка последних газет и журналов. По распоряжению Садикова, нас отвезли на «Волыни» обратно на базу. Там мы должны будем сдать домик Ниф-Нифа, чтобы не платить за него деньги в сумме «как за железобетонный дот», – по выражению дяди Валика. А на следующий день мы своим ходом снова прибудем в лагерь Садикова. Свободная палатка найдётся.
Глава 4
~ уходим в степь ~ сейчас мы вам что-нибудь найдём! ~ фронт работы – 2 на 2 м. ~ гильзы и патроны – ух ты! ~ как определить возраст находки – сверхстарая мидия ~ подведение итогов за день ~ как пробраться в курган? ~
Утром мы разбудили коменданта и сдали ему ключи. Он принял их с надменно-обиженным видом, говорящим: «ну и ладно!», но пожелал нам счастливого пути.
Нагрузив на себя все свои вещи, мы отправились в лагерь Садикова той же дорогой. Попутной машины нам опять не досталось; Солнце своими острыми лучами уже жгло нас в затылки, когда мы добрались до Садикова. Оценив наш путь, мы нашли, что к морю можно бегать каждый день, затрачивая около часу на путь в одну сторону. Садиков сразу нам сказал, что нашу работу он по времени не лимитирует, и мы можем пропадать на море сколько захотим. Однако мы небыли намерены «пропадать» – уж коль скоро нам тут выделяют палатку, нам бы следовало хоть что-то и копать. И мы с Лерычем, ещё не измотанные рытьём на жаре, и не избавленные от болезненного энтузиазма, намеревались копать не «хоть что-то», а весьма много и основательно. Мы были железно уверены, что археологи Садикова ещё ничего не нашли особенного, потому что мы с Лерычем ещё здесь не копались. Ведь им, бедным, всего то двоих человек и не хватало! В том, что мы отроем что-то более существенное, чем черепки от горшков, мы не сомневались. Эта уверенность исходила не от жизненного опыта (копаясь в детстве в песочнице, мы ничего, кроме кошачьих отходов, не находили), эта уверенность была следствием глубокой веры в нашу судьбу. Никогда в жизни мы раньше этим не занимались, а тут вдруг довелось – не может быть, что бы это прошло просто так даром!
Но сначала нам выдали резервную палатку, упакованную в мешок, и нам пришлось самим её ставить на отведённом месте, на что ушло около часа – этим мы тоже раньше не занимались. Дядя Валик владел таким навыком, но предоставил во всём разобраться нам с Лерычем.
Затем нам дали, на двоих, сапёрную лопату и проволочную щётку. Садиков отвёл для нас квадрат №56, размером 2 на 2 метра, как у всех. К нам присоединился дядя Валик, с большой штыковой лопатой, чтобы помочь в самой тяжёлой работе – снять верхний грунт с дёрном. Культурный слой достанется персонально нам с Лерычем, чтобы пожинать там лавры любых находок. Его уровень, ориентировочно, прочерчен зубилом на стенке шурфа. Так просто культурный слой трудно отличить от вышележащего грунта, только кое-где он просматривается тонкой прослойкой векового навоза или золы. На нашем участке ничего такого не видно, а до прочерченной метки не очень глубоко – чуть более полуметра. Получается, нам надо снять где-то два кубометра верхнего, «некультурного», слоя. Дядя Валик, не особо торопясь, принялся снимать верхний слой с дёрном, а я осторожно рыл сапёрной лопатой грунт сбоку, из шурфа. Лерыч, следом за мной, прочищал срез почвы щёткой, на случай, если там вдруг что-то окажется. До обеда дядя Валик снял весь верхний грунт, вместе с дёрном, жёстким, как та же щётка у Лерыча, а мы до сих пор ещё ничего не нашли. Конечно, в верхнем слое, кроме камешков, нам ожидать больше нечего. Вот доберёмся до культурного!.. И перевернём всю экспедицию! Ведь это же мы копаем, а не кто нибудь!
– Ну, как тебе, Лерыч, не умаялся? – подзуживал дядя Валик.
– Колбасит! – весело отвечал Лерыч.
Но отрицать было нельзя – пот с нас катился ручьями, и к нему прилипала земляная пыль. Глядя на нас, дядя Валик смеялся, и называл нас «ископаемые».
Вот уже по-честному захотелось на обед. Мы с Лерычем уже успели два раза поменяться лопатой и щёткой, и на этот раз была снова моя очередь орудовать лопатой. Я срезал жёсткий грунт, как приловчился, «стружкой», и из-под лопаты посыпались чёрные гильзы и патроны.
– Ух, ты! – воскликнули мы с Лерычем, – первая находка!
Гильзы и патроны были одного калибра.
– А, и вы боеприпасы отрыли! – крикнул студент Олег со своего участка. – У меня тут тоже были патроны. Их в верхнем слое, кое-где, полно.
– Конечно, – сказал я, – здесь шли бои. А снаряды не попадались?
– Слава Богу, нет. Если наткнётесь – ни в коем случае не трогайте. А патроны можете выкинуть. В них порох давно заржавел вместе с гильзой.
Олег подошёл к нам, взял один патрон, и легко свернул ему пулю. Себе на ладонь он высыпал из гильзы чёрную пыльную труху. Я продолжал рыть дальше, и накопал целую горсть ржавых, рассыпающихся гильз, и несколько целых патронов. Олег сказал, что эти все патроны пулемётные, от «максима». В этом месте, должно быть, действовал пулемёт – стреляные гильзы лежат кучно. Отыскать бы сам пулемёт – это тоже дело! Мы с Лерычем ушли на обед окрылённые.
Пулемёт мы, конечно, не нашли. Но верхний грунт, не без помощи дяди Валика, мы сняли полностью, и свезли его на тележке в отвал. Что ж, значит, великие археологические открытия переносятся на завтра.
Садиков посетил наш участок и одобрил сделанный объём работ. Предложил денёк отдохнуть у моря, обещал, что нашу «культуру» без нас никто не тронет. Но какой там отдых! Мы намерены откопать нечто! Оно будет древним, как мир, и очень дорогим!
– Папа, а как ты можешь определить возраст находки? – спросил Лерыч.
– И не надейся, Лерыч! Я не буду по блату накидывать твоим находкам пару миллионов лет! – съязвил дядя Валик. И далее рассказал: – Мы это делаем в лаборатории, методом радиоуглеродного анализа. Это самый распространённый метод. Существуют и другие технологии, по другим радиоизотопам, но изотоп углерода С12 вездесущ – он находится в воздухе, и из него переходит в почву и живые организмы, накапливается в различных материалах. По его концентрации и оценивается возраст находки. При этом предполагается, что выработка изотопа С12 в природе всегда была стабильна – с какой интенсивностью он образуется в наше время, в таком же темпе это происходило и в допотопные времена. Это первое допущение, которое проверить ни как невозможно. Второе допущение, не поддающееся проверке – это темп поглощения изотопа исследуемым образцом. В общем, метод основан на допущениях. Его ошибочность, ребята, очень велика. Расхождения с истиной могут достигать нескольких тысяч лет. Поэтому, как ни странно, чем древнее образец, тем точнее он анализируется по возрасту, а чем моложе, тем точность ниже. Например, возраст мидий, выловленных в Чёрном море, был определён у нас в лаборатории в диапазоне от 500 до 3000 лет! Представляете себе – живая мидия! А мы с тобой, Лерыч, помнишь, считали годичные кольца на створках мидий, которых ели? Сколько у нас получилось? – лет 30 или 40. Такие сроки радиоизотопный метод никогда не покажет. Так что наши данные по образцам очень приблизительны.
– А Андрей Данилыч думает, что вы ему выдавали точные цифры, – сказал Лерыч.
– Нет, – ответил дядя Валик, – археологи всё это прекрасно знают. Но иного метода оценки ископаемых пород и останков не существует. Вот мы и врём. Сделай милость, Лерыч, выучись хорошо на умного человека, и изобрети метод, точный, хотя бы до десятка лет.
– Надо подумать, – уклончиво ответил сын своего отца.
Вечерело. Солнце приближалось к горизонту, и прибрало свою жару. Наступило такое время суток, когда работать, как раз, одно удовольствие – не жарко и не душно. Но именно это благодатное время все работники на земле предпочитают посвящать самому любимому занятию всех работников мира – отдыху. Действительно, как-то жалко плохое время посвящать хорошему делу. К примеру, на солнцепёке трудиться не приятно. Но трудиться – само по себе дело не приятное (крамольные вещи говорю!), так уж пусть тогда это и делается в такое же неприятное время. А отдыхать надо и во время хорошее. В общем, без многословия: работы на раскопе прекратились, едва до заката оставался час, или часа три до темноты. Мы бы с Лерычем ещё копали и копали, так как, кроме ржавых патронов ещё ничего не накопали, но со своим уставом в чужой монастырь не лезь, гласит народный этикет. Так здесь принято. И мы пошли умываться вместе со всеми.
Ужинали арбузами и пловом. За столом подводили итог рабочего дня. Мы с Лерычем теперь внимали всему, как полноправные участники общего дела.
Ну-ну, что там сегодня откопали? Лошадиную ногу с подковой. Очень интересно. А где вся лошадь? Гвозди нашли. Древние греческие гвозди. Нашли толстый слой золы. Немного поспорили, что это было – большой очаг или жертвенник. Какой жертвенник? – высмеял эту мысль Садиков, – где, на ферме? Дальнейшие раскопки всё покажут. Компьютер у горшечников подобрал фрагменты (шесть штук) для ещё одного горшка. Два молодых новобранца приступили к освоению квадрата №56 на шурфе №5. Это про нас. Лерыч сидит строгий и гордый.