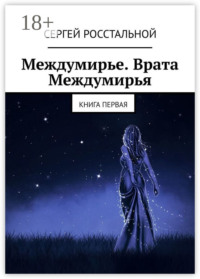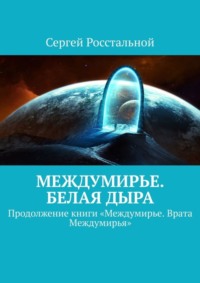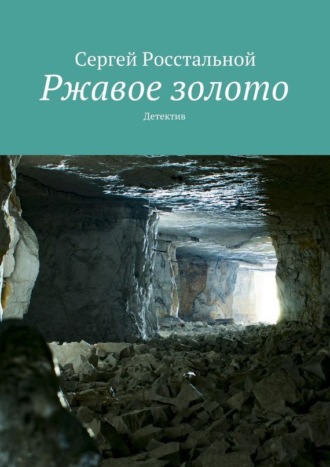
Полная версия
Ржавое золото. Детектив
Пока мой дед читает газеты на лавочке, я меряю шагами перрон и поглядываю на часы. Мои нервы явно не на месте. Всё вокруг кажется особенным. Здание вокзала – фантастическое (40-х годов, с колоннами), все вокзальные детали (от скамеек до часов на столбе) – мистические принадлежности. Мусорные урны выстроились как почётный караул. Через пятнадцать минут я буду здесь рождаться заново. Хочешь, не хочешь, а приехавшие гости будут оценивать тебя такого, каким ты стал спустя год. И я, волей не волей, буду стремиться показывать в себе лучшее, что удалось за этот год в себе воспитать, буду следить за собой, и подавлять те повседневные недостатки, которым давал волю весь год, даже не обращая на это внимания. За месяц пребывания гостей это войдёт в привычку, и до их отъезда во мне умрёт ещё одна порция недостатков. Они уедут, а я останусь здесь немножечко новым человеком. В этом и заключаются мои ежегодные новорождения.
Послышался гудок поезда, и моё сердце загудело в ответ. А вот появился и он сам. Рельсы, сияющие на солнце, протянулись от него к моим ногам, как два луча. Поезд всё ближе и ближе, а мне дышать всё труднее и труднее. На перроне стало вдруг многолюдно – это отовсюду повыходили встречающие, до того скрывавшиеся от солнца внутри вокзала и других местах. Рядом появился и мой дед.
– Голову, – говорит, – не высовывай, как жирафа, а то тепловозом собьет. Кстати, какой там вагон с хвоста поезда?
– Пятый, – отвечаю.
Роды новой жизни состоялись ровно 18:52 – дядя Валик и Лерыч вышли из вагона. Оба вытащили по большой сумке с вещами. Впервые сумка Лерыча не уступала по размерам сумке отца. Раскабанел Лерыч! А дядя Валик всё такой-же – лицо в обрамлении бакенбардов и короткой бородки.
Выкрикивая приветствия, мы все перехлопали друг друга по плечам и пережали друг другу руки. Лерыч жал не сильно, но профессионально. Крепчает!
Классические вопросы: как доехали – отлично, как дома – холодина, но все здоровы, как работа и учёба – да ну их… мы отдыхать приехали. А как здоровье (это к деду) – то оно нас, то мы его…
А потом дядя Валик посмотрел на меня серьёзно и спросил:
– А ты почему один?
Я нутром чувствую, что он собирается пошутить, но не пойму, как.
– То есть, как, почему один? – отвечаю я, и смотрю на деда, с которым я, вроде как, не один.
– Поссорились, наверное? – сочувственно спросил дядя Валик.
– Да с кем, дядя Валик?
– Как с кем? С девочкой.
– Какой девочкой?
– Со своей. У меня в твоём возрасте была девочка.
Я растерялся.
– Нет у меня никакой девочки.
– Нет? Димыч, да тебе сколько лет?
– Семнадцать.
– Здоровый лось, выглядишь аж на восемнадцать! И нет девочки!
Лерыч захихикал. В его возрасте 12-и лет сия тема была однозначно предметом насмешек.
– Да нужны они сильно! – смущённо потупился я.
– Что значит «нужны»? Их что, много? Я про одну говорю, а ты – нужны! Ого!
– Да нет, я, в общем и целом.
– Короче – демагогия! – обрубил дядя Валик. – В общем и целом! Оратор! Чтоб в следующем году была девочка!
С дядей Валиком не соскучишься. И с Лерычем тоже. Сладко вспомнить, как в прошлом году, в последний день (до отъезда 6 часов) я выиграл у Лерыча сложнейшую шахматную партию. А Лерыч супротив меня шахматист сильный – на компьютере тренируется. Да и со мной тоже не загрустишь – я всегда готов участвовать в любых безобразиях с разумными рамками.
Мы сели в такси и поехали, как короли. Ехать нам на другой конец города. А город у нас длинный, вытянутый полукольцом вокруг огромной морской бухты. Пока доедешь, много чего увидишь. Дорогою мы знакомимся с новым «крутым» словечком Лерыча. У него каждый год в лексиконе появляется этакое любимое слово, которое всё время вертится на языке, по поводу и без повода, означающее всё, что угодно, в зависимости от обстоятельств. В прошлом году он щеголял словом «забой!», выражая им любые крайности во всём. Уехал, кстати, со словом «амба!» – у меня набрался. Позапрошлым летом это был «улёт!». В иные годы были классические «ё-моё!» и «гаплык!». В этот раз у Лерыча новый перл: колбасить!
От всего, что происходит сверх меры, Лерыча колбасит. В поезде, когда проехали Джанкой, его колбасило от жары. От мороженного на вокзале его тоже колбасит. А от планов на это лето его колбасит больше всего! («Переколбасило» – поправил дядя Валик, ибо Лерыч просто бредил одним запланированным мероприятием.)
Планы, действительно, были замечательные. В этом году, на летний сезон, в окрестности нашего древнего города, прибывает археологическая экспедиция из Санкт-Питербурга, на раскопки античных городищ. Это само по себе не удивительно. Каждый год у нас тут работает много археологов и из Питера, и из Москвы, и наши, крымские.
Но ту экспедицию, о которой идёт речь, привозит друг дяди Валика, учёный из Питера – антрополог и археолог Андрей Данилович Садиков. С ним дядя Валик знаком на почве долгого сотрудничества. Садиков в своих экспедициях добывал много различных образцов древних костей и сопутствующих пород, а дядя Валик, методом радиоуглеродного анализа, определял их возраст. Дядя Валик с Садиковым не раз «перемывали кости» древним людям и вымершим ящерам в питерских лабораториях. Теперь же они имели возможность встретиться у Садикова «на работе» – первый раз Андрей Данилович приехал копать туда, где отдыхает дядя Валик. Когда он узнал об этом, то пригласил друга в гости, вместе со своими спутниками. Нас теперь ждут на настоящих раскопках. Новая жизнь в этом году насыщена, как никогда. Меня, как Лерыча, колбасит!
Прошло три дня – время, выделенное дядей Валиком на акклиматизацию Лерыча. За эти дни он якобы уже познакомился с местными микробами и может спокойно съесть любую немытую случайность. Сам дядя Валик обошёл с визитами вежливости всех своих здешних знакомых, а мы с Лерычем смастерили себе каждый рогатку и тренировались за сараем в стрельбе по банкам. Досталось также и воронам, которые нагло обклёвывают черешню в нашем саду.
Наступил долгожданный понедельник – старт нашего активного отдыха, и мы встретили его на автобусной остановке. Всё было готово заранее: консервы, сухие продукты, вода и фрукты. У Лерыча – тайно спрятанная рогатка и фотоаппарат в жёлтом рюкзаке. У меня тоже рогатка, и ещё дневник. С некоторых пор я решил, что человеку, у которого в голове возникаю какие-то мысли, уже влияющие на его действия и жизнь – а это, как раз, про меня, не мешало бы записывать эти самые мысли, и всё с собой происходящее. Я уверен, что так надлежит поступать людям, знающим себе цену, и цену своим мыслям; их следует сохранять на бумаге для дальнейшего обдумывания и самосовершенствования. Сейчас эта тетрадка, пока, пустая. Но пройдёт время, и кто-то, уж не знаю кто, когда-то, будет ценить каждую её страницу. Пока же таких ценностей там только половина первого листа. Первая запись выглядит так:
«22 июня. Собираемся в дорогу, в степи. Оружия не берём, поскольку, во-первых, у нас его нет, а во-вторых, лучшее оружие – это разум. Надеемся, его придётся применять только в мирных целях. Выходим на остановку…»
Признаюсь, эту коротенькую запись я сделал просто потому, что очень уж не терпелось начать дневник.
Ладно, что там у нас дальше? Дядя Валик взял с собой большую банку кофе – он заядлый кофеман. У каждого при себе перемена одежды. Продукты распределены между всеми поровну. Можно стартовать.
Автобусом мы должны добраться до Маяков – так называется район береговой линии, протяжённостью около 15 километров между двух мысов с маяками. В этой полосе берега расположено несколько зон отдыха, с хорошими пляжами. Примерно в 10 километрах от берега, вглубь полуострова, стоит лагерь археологов, где работает команда Садикова. Дядя Валик предварительно созванивался с ним и уточнил где его искать. Точных ориентиров нет, но других экспедиций в этом районе тоже нет, поэтому отыскать их можно будет, если не лениться взбираться на высоты (рекомендация Садикова).
Мы сели, точнее, вдавились в автобус №1. Автобус был забит людьми, словно он был единственный в городе, и в этом году, идущий на Маяки. Мы бурчали себе под нос что-то вроде: «неужели им надо ехать прямо сейчас, нельзя попозже!..», но любой из пассажиров имел право подумать то же самое и про нас. Мы были лучше только тем, что у нас была, пожалуй, самая маленькая ручная кладь. Все остальные тащили с собой огромные баулы, гружённые средствами отдыха: едой и палатками; и этот багаж занимал всё свободное место под ногами. Сами пассажиры тоже заполняли собою все свободные пространства в «Икарусе» – они сидели по трое на одном сиденье, стояли, и висели на поручнях, как гроздья бананов. Мы же оказались зажаты в угол, у задней двери, оперевшись на свои три сумки, поставленные друг на друга.
Когда двери автобуса, наконец-то, смогли закрыться, автобус тронулся с места, и все привычно сгруппировались, приготовившись к тряске и качке.
В салоне собрался настоящий интернационал: откуда-то доносился акающий говор москвичей и речь западноукраинцев, где-то слышались белорусы и переговаривались то ли чехи, то ли поляки. Кроме того, вся публика сильно отличалась по срокам пребывания на южном отдыхе. Одни были ещё бледно белые, недавно вылезшие из северной тени; другие слегка темнее, из тех, что уже побегали несколько дней по городу; а другие были уже, так сказать, готовы, потому что дальше уже некуда загорать, дальше идёт только стадия золы и пепла.
Проехав какое-то расстояние городом, мы выехали за его пределы, и автобус помчался по широкой загородной дороге, проезжая мимо дачных застроек и степных ферм. Вдали показалось сине-зелёное дымчатое море. По мере приближения, его ширь разворачивалась пред нами всё больше, растягиваясь от северного горизонта до южного. Эта панорама не шла ни в какое сравнение с маленькой городской бухтой-лягушатником.
Мы проехали ещё несколько остановок, и приехали на последнюю, которая, собственно и называлась «Маяки». Отсюда отдельная асфальтированная дорога вела к базам отдыха. По замыслу дяди Валика, мы должны будем снять номер или домик на одной из зон на неделю. А оттуда мы будем ходить в гости на раскопки к другу дяди Валика. Практичная мысль. Конечно, сами археологи живут прямо в степи, в палатках. Ну а нам где жить? Палатки у нас нет.
Лагерь археологов находился достаточно далеко – за мысом Хаджи-Бурун, поэтому снимать себе жильё мы отправились на самую крайнюю базу – «Азовскую волну». От неё, как раз, и будут те самые 10 километров до лагеря – почти два часа ходу.
Мы люди не притязательные, настроены на походно-кочевую жизнь, и потому жильё сняли самое не дорогое. Таковыми были старые дощатые домики, размером три шага на четыре, построенные, видимо, по проекту поросёнка Ниф-Нифа. Мы поселились в одном из них, недоумевая, зачем на его дверях висит замок, от которого нам дали ключ – домик можно разложить, как картонную коробку из-под телевизора, наверное, просто расшатав его стены. Внутри этого обиталища было три кровати и маленький стол. Общая кухня находилась где-то на территории базы. Быстро разобравшись с бытом, мы начали отдыхать.
Купаться на песчаных пляжах открытого моря несравненно приятнее, чем в городских бухтах, закрытых со всех сторон постройками. Там песок похож на бог знает что, а не на песок, из-за мусора и морской травы, которой некуда деваться после штормов. Здесь же море здоровее и чище. Мы с Лерычем наплескались от души. Плавать Лерыч стал заметно лучше, но всё равно меня ему не обогнать.
Ближе к вечеру мы с аппетитом съели наш ужин, и набили животы помидорами с яичницей до такой степени, что впервые за день почувствовали: в воду мы сегодня больше не хотим. С полным животом плавать – не то удовольствие. Теперь мы разместились на скамейке, недалеко от нашего домика №51, созерцая море, и дядя Валик рядом с нами устроился с чашкой ароматного кофе.
– Колбасит! – сказал Лерыч, – совсем не то, что в городе. В городе что – много людей и мало моря. На пляж выйдешь – одни спины лежат.
– И в воде, как в автобусе в час пик, – подтвердил дядя Валик, – напоминает общественную душевую, или солдатскую баню.
В его голосе не было недовольства, которое следовало бы изобразить под сказанное. Его голос урчал по-кошачьи. Ещё бы – он пил кофе! Кофе делает дядю Валика добрейшим человеком и философом.
– Да, – продолжил Лерыч, – а здесь всё наоборот: очень много моря и совсем мало людей.
В общем, позитив полился рекой. Отдых начался удачно.
Глава 3
~ поиски лагеря. Мы ищем не одни ~ лагерь Садикова ~ о «чёрных археологах» ~ обед в полевой столовой ~ раскопки- 1% на успех ~ мы записались в археологи ~
Ранним утром, пока не нагрянула жара, мы вышли из нашего домика и закрыли его на ключ. Свежий морской ветерок бодрил нас и настраивал на приятный поход. Мы быстро выкупались в море, зарядившись хорошей энергией проснувшейся воды, и отправились в путь. Заранее заготовленные бутерброды мы жевали на ходу – наше нетерпение было настолько сильным, что мы не хотели задерживаться и двух минут на завтрак. Только дядя Валик успел спокойно, за столом, выпить крепкого кофе, для чего он проснулся на 15 минут раньше нас с Лерычем.
Уже по пути дядя Валик созвонился с Андреем Даниловичем и выяснил, что нам, если нравиться, придётся добираться до лагеря археологов своим ходом. Вчера предполагалось, что нас подберёт на степной дороге «Нива» из скромного автопарка экспедиции. Но у машины с утра оторвалась какая-то штуковина – то ли ремень, то ли провод, или что там ещё может отрываться – и машина не в состоянии ездить. А вторая машина – «Волынь» – укатила рано утром в город, и будет ехать назад часа через три, четыре. Ждать нам, конечно, не хотелось, и мы отправились в путь на своих ногах. Но проблема не в том, что нам предстояло добираться своим ходом, а в том, что нам теперь надлежало самим разыскать лагерь. В помощь нам Садиков дал оригинальный ориентир. Над восточным горизонтом виднелось два кучевых облака; если промежуток между ними поделить на две равные части, то лагерь Садикова будет прямо под левой частью.
– Считай, что я тебя нашёл! – ответил на эту подсказку дядя Валик и спрятал телефон. Он внимательно посмотрел вдаль и скомандовал:
– Парни, курс правее вон той тёмно-рыжей полоски травы. На облака не смотреть, они сейчас поменяют своё положение.
И мы двинулись прямо через степь. Лерыч по пути пытался активно разговаривать, рассказывая какие-то свои байки, но постепенно притомился и, вскоре, тоже шёл молча, как мы с дядей Валиком. Теперь, от нечего больше делать, он активно крутил головой во все стороны. Мы шли уже минут сорок, и внедрились достаточно далеко в степь. И вдруг Лерыч остановился как вкопанный и радостно протянул руку вперёд.
– Люди! – воскликнул он. – Это, точно, они!
Лерыч своими зоркими глазами действительно рассмотрел метрах в двухстах двоих людей. Они шли по степи, петляя по какой-то, только им видимой, дороге, и на их плечах были, кажется, лопаты. Никто здесь не сажает огороды, так что это, точно, археологи!
Мы пошли в сторону этих людей, и сразу попали в низину, где потеряли их из виду. Очень скоро мы достигли того места, где проходили эти двое с лопатами, но их мы там, конечно, не застали. Теперь нам пришлось идти в ту сторону, куда шли они, когда мы их видели. Будь мы индейцы, мы бы, несомненно, нашли бы множество следов, которые бы, как по ниточке, повели бы нас прямо за прошедшими людьми. Но мы не индейцы, мы современные европейцы, которые без указателя не могут найти нужную дверь, не то, что след в степи. Что бы долго не петлять, мы опять взобрались на возвышенность, и огляделись. Теперь их увидел дядя Валик:
– А вот они, ребята, идут прямо по прямой, не взирая ни на какой рельеф местности!
Действительно, двое с лопатами, взбирались на другой холм, совершенно не понятно, зачем. Никакого лагеря вокруг видно не было. Они не стали выбираться на самую вершину, а остановились, не доходя до макушки холма, и стали, как бы выглядывать из-за неё, словно из укрытия. В их действиях явно просматривалось поведение таящихся людей. Конечно, нас это заинтересовало, и мы стали сами наблюдать за ними. Теперь, будучи поближе, нам было видно, что у одного из мужчин была лопата с коротким черенком, а у другого просто палка. Тот, что владел этой отличной палкой, поднял к глазам бинокль, и стал наблюдать за чем-то в степи. Он прекрасно знал, куда смотреть, потому что не шарил биноклем по сторонам, а смотрел в одну точку. Мы знали точно: археологи так исторические ценности не выискивают, они их раскапывают.
После коротких переговоров, оба мужчины слезли с вершины по той же стороне, по какой на неё залезли, но, обойдя холм, продолжили свой путь в ту же сторону, в какую смотрели с холма. Такое партизанское поведение нас удивило. Мы тоже решили не выдавать этим неизвестным товарищам своего присутствия. Едва они скрылись, мы быстро спустились со своего холма, и вскоре взобрались на ту высоту, с которой они осматривали степь. И опять мы увидели их, крадущихся в степных ковылях. Вглядевшись в ту сторону, в которую они шли, мы, кажется, тоже что-то разглядели. Похоже, это были силуэты палаток. Ничего подобного в степи больше не виднелось.
– Вот, кажется, и лагерь, – сказал дядя Валик, – Но эти двое мне абсолютно непонятны: они, ясно, как и мы, ищут лагерь, но со странными предосторожностями. Вот что, ребятки, в контакт с ними вступать не надо. Если попадёмся друг другу на глаза, делаем вид, что увидели их в первый раз, понятно?
Нам было понятно. Мы отправились в направлении виднеющихся палаток, за двумя подозрительными мужчинами. И то и другое мы сразу потеряли из виду, спустившись вниз, но, главное, мы знали в какую сторону идти.
Мы прошли, должно быть, половину расстояния до лагеря, и оказались у основания ещё одного холма. Невозможно было на него не взобраться, чтобы как следует не осмотреться. С его вершины мы увидели группу разноцветных палаток и две машины среди них. Был заметен большой брезентовый навес, растянутый на нескольких столбах. Дальше, за лагерем, светлым песчаным пятном, выделялась разрытая земля. Раскопки. А чуть ближе к нам, мы снова увидели тех самых непонятных мужчин. Должно быть, они недавно слезли с этой же вершины, и теперь присели в траве, снова рассматривая лагерь в бинокль. Мы смотрели за ними, притаившись за выступами холма, и ждали, что же будет дальше. Как по мне, так это игра очень увлекательная, вот только, игра ли это?
Наблюдатели не двигались, продолжая следить за лагерем. В лагере только иногда можно было видеть движение человеческих фигур.
– Пожалуй, хватит, – сказал дядя Валик, – Спускаемся с бугра и идём в лагерь в обход. Не будем себя выдавать этим любопытным, они могут понять, что мы шли по их следу. Чёрт его знает, что это за люди.
Мы спустились с холма, и, сделав большой крюк по степи, вышли к лагерю с другой стороны. Мы увидели восемь четырёхместных палаток, под брезентовым тентом – стол человек на двадцать, составленный из ящиков и досок, там же – пластиковый бак с краником – наверное, лагерный запас воды. Понятно, что под тентом располагалась столовая, поскольку рядом дымил простенький очаг, сложенный из камней. На камнях стояла большая блестящая кастрюля и пускала струйки пара. Рядом возился, с ножом и поварёшкой, молодой человек с цветастой бонданой на голове, голый по пояс. Понятно, дежурный. Ещё человека три ходили между палатками. Спины и головы остальных обитателей лагеря виднелись в разрытых ямах, метрах в пятидесяти от палаток.
Дежурный оставил кастрюли и вышел нам на встречу.
– Здравствуйте! – сказал дядя Валик.
– Здравствуйте, – ответил дежурный.
– А Садиков Андрей Данилович у себя в кабинете?
– Андрей Данилыч? – усмехнулся дежурный, – Он у себя в цеху, а не в кабинете. А вы кто и почему?
– А я Рыжаев Валентин, научный сотрудник из Питера. У меня у Андрея Данилыча назначено, так сказать. Совместно научно работали всегда по поводу радиохимических анализов ископаемых находок, а вот теперь пребываю на отдыхе, и договорился наведаться в гости.
– А-а, упоминалось об этом, упоминалось! – дежурный закивал головой, – Ну, располагайтесь с вашими детьми в столовой, под навесом. А Андрея Данилыча сейчас мигом высвистим. Меня Игорь зовут. Скандинавское имя.
И Игорь со всеми нами поздоровался за руку. Как это он про нас сказал? – С детьми… Ничего себе – дети! Особенно я. Обидно! Но виду не подам.
Мы уселись под тентом, отдыхая от долгих хождений по холмам, и оглядели лагерь уже изнутри. Кругом порядок, по-деловому уютно. Между палатками, сидя на раскладных табуреточках, располагались две девушки; на расстеленном брезенте они внимательно рассматривали какие-то черепки, раскладывая их по коробкам. За их спинами висит на верёвках сохнущее бельё.
А вот этот человек, который идёт к нам большими грузными шагами, верно, и есть Садиков. У него густые усы, чёрные и острые на концах. Трёхдневная щетина с ними вполне гармонирует, и его лицо вовсе не выглядит как у неряхи; к тому же, оно изрядно смуглое от загара, такие же его руки, почти по плечи, и шея. А под лёгкой рабочей жилеткой цвета выгоревшего хаки, тело белое, слабо загорелое. Он быстро подходил к нам, с каждым шагом улыбаясь всё шире, и, широко размахнувшись правой рукой, влепил со звоном свою ладонь в ладонь дяди Валика. Мощное рукопожатие сотрясло обоих мужчин, после чего их уста разверзлись, и они радостно прокричали друг другу:
– Валентин!
– Андрей!
Такой голос, как у Садикова, должен быть у старого морского волка.
– А ну, представляй свою молодёжь! – сказал Садиков, глядя на нас.
– Сами представятся, – ответил дядя Валик.
Мы представились.
– Так. Валерий и Дмитрий, значит. Ладные молодцы! Ну, а я для вас тогда буду…
– …Андрей Данилович! – категорически закончил за него дядя Валик, – Это чтобы без фамильярностей. Мы то на отдыхе, а ты, всё-таки, на работе, с подчинёнными.
– Ну ладно, ладно, – согласился Садиков, – пусть так. Ну, так что же, вы надолго?
– К вам на денёк, чтобы ребята посмотрели на раскопки. Вообще, мы живём в пансионате «Азовская волна».
– Тоже правильно, – одобрил Садиков, мы ведь тоже в «Азовской волне» номер снимаем на четыре человека.
– Вот как! Мы и не знали.
– Конечно. Целыми днями работать в степи, на жаре, трудновато. Поэтому у нас, по графику, назначаются выходные. Всего нас в экспедиции двадцать два человека. Постоянно присутствуют в лагере и работают восемнадцать человек. А очередные четыре человека, по двое суток, в порядке очереди, отдыхают в «Азовской волне». У нас две машины: «Нива» и «Волынь». Вот сейчас «Волынь» уехала с очередной четвёркой в пансионат. Вы её разве не видели? Она должна была пропылить по степи.
– Нет, не видели, Андрей Данилович, – поспешил я вставить слово, – мы видели других, и всё время за ними наблюдали. Мы видели двоих неизвестных людей, которые следили за вашим лагерем…
Я осёкся. Они ведь и сейчас, точно, следят в свой бинокль. Я медленно оглянулся в ту сторону, откуда они должны нас видеть. Вон тот холм… Лерыч немедленно толкнул меня ногой под столом:
– Не оглядывайся, Димыч, а то они поймут, что мы говорим о них!
– Да, Андрей, действительно, – сказал дядя Валик, – мы видели двоих типов, которых приняли за ваших археологов, и чуть не подошли к ним. Они нас не заметили, и наблюдали за вами в бинокль.
Садиков нахмурился.
– Что ж, этого и следовало ожидать, – сказал он, – мы тоже не один раз видели кого-то из них. Это чёрные археологи.
– Как это, «чёрные»? – не поняли мы.
– Это те, которые незаконно, варварски, раскапывают древности. Не для научных целей, а ради находок, имеющих реальную денежную ценность – уникальные древние предметы, и, конечно, самое главное – драгоценности. В этих степях они охотятся за скифским золотом. Копают сами, и воруют у научных экспедиций. Здесь, ближе к Черкино, работает ещё одна экспедиция, до них километров двадцать. Они были на том месте и в прошлом году, и в позапрошлом. Так вот, они рассказывают, что ни один раскоп, оставленный по завершению сезона, не оказался нетронутым на следующий год. Везде рылись чёрные археологи. Они и зимой могут рыться. Ведь им главное не сохранение культурного слоя, а добыча из него золота и древностей. Сколько мы из-за них потеряли ценных находок – неизвестно! Ведь у каждого раскопа охрану не поставишь, а надо бы. Работы варварскими методами ведутся гораздо продуктивнее, чем научными, Они ведь не кисточками и щётками, как мы, культурный слой разгребают, а ломами и лопатами действуют. А то, порой, и бульдозерами.
– Преступление! – сказал я.
– И очень доходное, – ответил Садиков, – На чёрном рынке скифские древности стоят не мало. Даже и не золотые. И в иностранных музеях они появляются регулярно – работа чёрных археологов кипит!