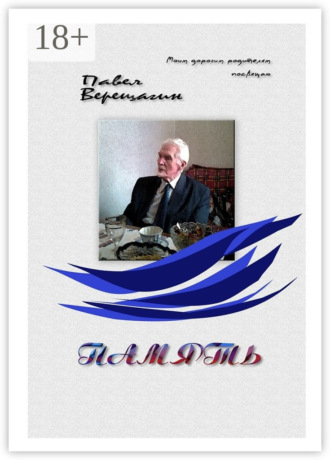
Полная версия
Память. Моим дорогим родителям посвящаю
Умер Володя почти сразу после моего очередного ухода, и ничто мне не подсказало, что это была последняя встреча и последнее наставление. Узнал о его смерти, возвращаясь от мамы, с купленным по дороге романом Михайловского. После бывал у них много реже, откровенно боясь встретиться с еще одной потерей, роман так и остался там.

На кладбище

Тяжелые встречи
В городе сразу почувствовали результаты разгрома немцев под Москвой, уменьшилось количество фугасных бомбардировок, зато усилились обстрелы и сброс зажигалок. Уже заработала «Дорога Жизни» и увеличили хлебный паек. Удача, Исай выменял у шофера, перевозящего грузы по «Дороге жизни», свои часы на кусок мяса и полкило сливочного масла. Как ни безнадежно плохо, но вопреки всему верим, что мы выживем назло немцам, что нам помогут, что мы не сдадимся. А для меня неожиданным подспорьем стало то, что в одну из очередных бомбежек бомба пробила трубу водопровода посреди нашей улицы почти против наших окон и в неглубокой воронке постоянно текла вода. Вот это подарок. Края воронки быстро обледенели, но если изловчиться, лечь головой вниз, достать воду можно. Один раз неосторожность могла стоить серьезных бед. Уже вытаскивая полный бидон, лежа на краю воронки, я соскользнул вниз, уперся в дно, руки оказались в воде. Вытащили меня довольно быстро проходившие мимо солдаты за торчащие из воронки ноги, и отделался я только обморожением кистей рук и памятью о полной беспомощности в той ловушке. Но говорят, что опыт всего дороже, больше не попадался.

Иришка блокадница

После обстрела
Из блокадников, зимующих в нашей квартире, самым радостным человеком была двоюродная трехлетняя Иришка, к счастью не понимавшая что происходит вокруг, и это нас сближало и заставляло барахтаться.
Какую важную цель хотели поразить немцы недалеко от нашего дома, не ясно, но только следов бомбежек оставили много. На углу улиц Моховой и Пестеля, Моховой и Чайковского, Литейного и Петра Лаврова, Потемкинской и нашей, нашей и Чернышевского видны разрушенные дома или воронки на мостовой, но ни Литейный мост, ни «Большой дом» не пострадали. У нас только наружные стекла комнат треснули, а вы не верите в личных ангелов.
Запасы топлива подходили к концу, дядя Исай, поколебавшись, решил, что пора послать меня на разведку к рекомендованному источнику возможной добычи дров в обход закона о черном рынке. Я был несовершеннолетний, родители на фронте, самый безопасный вариант. Взрослому грозил как минимум арест по законам блокадного города. А нам без тепла просто смерть. Довольно далекие походы к маме уже выработали достаточно самоуверенности, но района Лиговки я не знал вовсе и пошел с большой опаской. По улице Восстания до Невского, мимо опустевшего Московского вокзала, по заваленной горами снега Лиговке. Иду все с меньшим и меньшим энтузиазмом, далековато от дома. По сторонам непохожие дома, стоят одиноко, непонятно жилые или нет. Людей почти не встречаю. Как объяснил Исай, склад находится почти рядом, сразу за Обводным каналом, квартала три. Но за Обводным по обеим сторонам Лиговки сплошная стена огня, горят деревянные и каменные дома, стоит оцепление. Как объяснить куда и зачем иду. Для собственного успокоения, потоптавшись, с огромным чувством облегчения поворачиваю назад, подальше от пугающего пожара. Поручение не выполнено, но я точно не виноват.
В нашу спасительницу плиту идут книги, стулья, прочая горючая мебель, ушло юбилейное к 300 летию дома Романовых трехтомное издание «Великая Россия», из которого узнал, как много народностей составляют Россию, для плиты это кошкины слезы. И тут изобретательный дядя, слава Богу, обнаружил нетронутые запасы угля в одной из давно замерших бездействующих маленьких котельных огромного здания Гостиного Двора, бывшего раньше местом его работы. Теперь мой маршрут к маме дополняется еженедельными санными походами в Гостиный Двор. Самым трудным был первый. С детскими санями по Литейному и Невскому до Садовой. Там в середине Садовой линии через настежь открытые, никем не охраняемые ворота вхожу с опаской во двор мертвого Гостиного. Поворот, приоткрытая дверь в полутьму безжизненной котельной с горой блестящего антрацита. Воровато озираясь, торопливо засовываю в мешок крупную глыбу, привязываю к санкам и скорей назад на Садовую. Во дворе пусто, на улице также, и по заснеженному, без сугробов Невскому тащу добычу домой. Мешок предательски съезжает, и на Аничковом мосту сани переворачиваются. Уже обессилев, после нескольких неудачных попыток водружаю мешок на место, привязываю, боясь предложений об оказании помощи, и мокрый от пота, измотанный и ослабевший до полуобморочного состояния дотягиваю сани домой. Катя, не спрашивая ни о чем, укладывает отдыхать. Теперь надеемся, что тепло будет долго.
В следующие бандитские операции за углем я набирал его только размером с орешек и не больше полмешка, тогда все шло без происшествий. За время двухмесячных походов в котельную мне не встретилось ни одного соперника, приходящего за этим богатством. А Катя только одна и могла разжечь и заставить гореть долго и ровно необычное жаркое топливо. Будем жить. Во время походов в Гостиный двор я наткнулся здесь на конфискованные в самые первые недели войны радиоприемники горожан. То ли снарядом, то ли ворами оконные стекла склада разбиты, стеллажи опрокинуты, и на полу, присыпанные снегом, приемники самых разных марок. НКВД мог быть спокоен, немецкая подрывная информация до ленинградцев точно не дошла.

Блокадные мальчишки
Занятия в школе прекратились как то незаметно, сами собой, сразу после зимних каникул. Мы и ходили, по правде, в школу в основном ради обеда. Он состоял из порции жидкого мучного супа, который я в полулитровой банке носил домой, осадок отстаивался почти с палец толщиной. Зимние месяцы в Ленинграде всегда кажутся мрачными из за короткого светового дня, да еще сейчас всё без освещения и в доме, и на улицах, совсем мрак. Продолжительность активной нашей жизни по этой причине определялась длиной светового дня. А если выходили из дома в темное время у каждого на груди светился зеленый фосфоресцирующий значок, который помогал избежать в темноте встречных столкновений. Кто то из властей придумал, здорово удобно. Вспоминаю и самому поверить во все это трудно. Старались поменьше ходить, больше спать или просто лежать, но это приводило для многих к плохим результатам. Такие лежачие блокадники погибали обычно первыми. Так умерла соседка со второго этажа нашей лестницы, молодая красивая женщина, в квартире которой часто собирались еще более молодые офицеры с первых блокадных дней. Эти сборы становились все реже, перестала следить за собой, заходя к нам говорила, что боится налетов до обморока, боится выходить за хлебом, не хочет жить. Катя считала, что все это от ее слабоволия. Дворники увезли ее тело еще в декабре. А я, опекаемый с двух сторон мамой и тетей Катей, защищенный от холода и трудностей блокады особенностями нашего жилища и нашей настойчивостью, уже с начала более светлого февраля не сомневался, что мы (мама, папа, Иришка, Катя, Исай и конечно я) уже пережили эту жуткую зиму и сможем бороться дальше. Не понимал совсем, что мама, отдавая мне свой паек, решила спасти меня ценой своей жизни. Не видел, как она похудела и ослабла. Не знал, что у нее развивалась серьезнейшая дистрофия, которая вскоре уложит на койку в госпитале. Под давлением ли её коллег врачей, по настоянию ли начальства, просьбам в письмах отца она приняла, наконец, решение обратиться в военкомат о моей эвакуации. Ее февральское официальное письмо сохранилось в бумагах отцовского архива. Я был включен в списки эвакуируемых из Ленинграда на 25 марта 1942 года. В дорогу мама собрала чемодан, где улеглись все необходимые летние и зимние вещи, отрез на так и не сшитый папе выходной костюм, папин фронтовой адрес. В обычный холщевый мешок с веревочной завязкой у его горла положила в дорогу ЦЕЛЫЙ кирпич чёрного хлеба и флакон из под духов со спиртом, проверенным средством борьбы с желудочными заболеваниями. Наверное, она долго колебалась отпускать ли от себя в далекую Самару последнего сына, сказала о предстоящем отъезде только за неделю. Прощание с Катей и трехлетней Иришкой было трудным, они оставались без моей хоть и слабой, но постоянной помощи. Я уезжал от дома, от мамы, от Кати, знакомой и близкой мне столько лет, уезжал в неизвестную Самару, в неизвестный дом, как там меня примут.
На задворки Финляндского вокзала провожала мама, чемодан нес Исай. Никакой транспорт, конечно, не ходил, мы все здорово устали, идя через длинный Литейный мост, пока добрались до места посадки, далеко отстоявшего от вокзала. Прощался долго, сбивчиво, обещая точно выполнять наставления на дорогу, на Самару. Обычный пригородный поезд с несколькими вагонами пошёл по временной ветке, которая станет исторической, к берегу Ладоги, увозя от мамы, от немецких бомбежек и обстрелов, холода и голода, а в голове сплошной бред, ни одной ясной мысли. Полная растерянность от запоздалого осознания того, что теперь я точно остался совсем один, ни родителей, ни дома, ни родного города. Один, один. На время, надолго, навсегда? Твержу последние мамины наставления, прижимая к себе дорожный мешок. За окном сплошные бесконечные плоские снежные поля и полная неизвестность.

Литейный мост, дорога из блокадного города

Дорога жизни – через Ладогу…
Еще при посадке мама познакомила с семьей военной врачихи, которая с маленькой дочерью и своей матерью едут в Куйбышев (Самару), давшая маме обещание присматривать за мной в дороге. Как это было предусмотрительно я понял, когда поезд остановился и вся масса людей высыпала из вагонов на площадь в поисках транспорта. Моя опекунша- врачиха в военной форме сразу из заботливой мамы преобразилась в энергичную командиршу с властными навыками и таким же голосом.
Пока все кругом метались в поисках она вынырнула из людского моря с солдатами и офицером, быстро погрузившими в военный фургон ее солидный багаж, мой чемодан и всю нашу объединенную группу: бабушку, внучку и меня на мягкие вещи внутри, командиршу, как штурмана, в кабину. В марте ледовая дорога видимо доживала последние недели, ехали по сплошной воде в колеях, машину мотало и бросало из стороны в сторону, очень скоро мое сознание отключилось полностью, очнулся уже на том берегу озера. А на том берегу царил твердый четкий воинский порядок, сразу подчинивший неорганизованную толпу. Питание для всех одно- налево у раздаточного окна; медицинская помощь нуждающимся после переезда озера- направо; погрузка в стоящий эшелон по спискам- прямо. Вот это была организация, такую бы нам теперь в социальной современной службе, без всякой болтовни и идеологии. Ждать слишком долго нашей отправки отвечающие за нее не могли из за боязни воздушного налета. Без преувеличения через час все получили горячую пищу, еще через час сухой паек до следующего питательного пункта, еще через час мы уже ехали в жарко натопленном буржуйкой самом демократичном вагоне товарного состава. Из блокадников, прибывших из Ленинграда, увы, с составом уехали не все. И среди оставшихся в здешней больнице блокадников не все, боюсь, выжили. Причиной служил этот замечательный, виданный только во снах обед. На первое- мясной густой гороховый суп, ложка стоит. На второе- настоящая пшенная каша, от души сдобренная маслом. Хочешь добавки- бери без ограничений. Смотреть на нас, прибывших оттуда, местным поварихам было страшно и жалко. И их, и нас строго предупреждали, чтобы не бросались мы сразу на еду. Да это можно сколько угодно говорить тому, кто не умирал полгода с голода, и не ощущал запаха этой еды. Кто то и не удержался всего в полшага от жизни.
Беженец
Впервые оказался я пассажиром такого универсального вагона, пригодного и для людей, и для скота, и для перевозки груза. Все внутри старательно подготовлено к долгому пути. Два ряда деревянных нар занимают по высоте всю переднюю и заднюю части вагона от стены до стены, доходя в середине до проемов для широченных подвижных дверей, свободную середину вагона занимает круглая железная печь с трубой через крышу. Над верхними нарами почти у потолка по маленькому окну в обеих стенах. Это единственный источник света и свежего воздуха при закрытых дверях. С правой стороны по направлению движения состава дверь можно приоткрыть. Левая закрыта постоянно накрепко. Возле натопленной печи поленница дров, два ведра с водой и на печке горячий чайник. Мы, четверо во главе с уставшей и присмиревшей нашей командиршей, разместились на нарах с соломенными матрасами, заботливо приготовленными службами эвакуации. Попутчики кучками разбились по трём остальным. Первым долгом наши женщины разобрались с содержанием выданного сухого пайка, и здесь первую скрипку в свои руки взяла разом ожившая бабушка. Мы не знали, когда можно снова пополнить запасы, но заботливый первый прием внушал надежду, что нас не оставят без поддержки. В общий котел моих опекунов я отдал остатки сильно похудевшей к тому времени хлебной буханки, с сомнением в правильности «благородного» поступка. Во всяком случае в глазах бабушки это явно принесло мне доверие, и я как бы вошел в круг ее птенцов. Всего в вагоне человек 12, в основном женщины, мужчин трое, если и меня отнести к их числу. Видимо, все старательно готовились перед дорогой, оделись в чистое. Меня Катя подстригла машинкой коротко, вспомнив свой профессиональный опыт. Все разбились по своим группкам, обстановка почти дружеская, никто не старается занять роль наставника, за время блокады научились взаимовыручке. Еще под впечатлением от переезда Ладоги, погрузки, сытного обеда и стремительного отъезда улеглись и заснули, не раздеваясь, под неторопливый стук колес. Это не литературный прием, поезд, действительно, двигался по сравнению с пассажирскими довольно медленно. И тишину вокруг не нарушали привычные взрывы, сигналы тревоги, настораживающая интонация радиоголоса любимой поэтессы. Пройдет не один день, пока нас не отпустит хоть немного постоянное блокадное напряжение ожидания внезапной беды, ужаса завала, смерти. Стук колес успокаивал, но возвращал к мыслям о маме, об отце. После Ладоги я пытался там что-нибудь узнать об отце по номеру полевой почты, единственной ниточке связи, но безуспешно.
Некоторые женщины маленького Ноева ковчега, сидя у печи, курили, часто, нервно, мама всегда курила спокойно, не торопясь. Курила она папиросы, которые папа делал из смеси разных сортов табака с помощью металлической трубки, пахли папиросы вкусно. Поезд наш двигался странно, с длинными стоянками иногда днем, иногда ночью, с короткими то в чистом заснеженном поле, то на полустанках, где нам выдавали «сухой паёк». Вскоре поняли правила, установленные машинистом, и всегда были наготове. Остановка в чистом поле и два гудка значат возможность набрать дров для печки, очередные два гудка- окончание стоянки. Тогда мы трое, набрав охапку дров или обломков досок, бегом назад к вагону, и по следующему гудку отправление. Для мальчишки, которому две недели назад исполнилось четырнадцать, прекрасное занятие. А если стоянка на полустанке, то бегом с ведрами к паровозу, набирающему воду из подвижной трубы, чтобы успеть самим пополнить запасы воды и получить продукты. Воды, а водоносов трое и ведер всего два, уходит много, так как женщины боятся отстать и от вагона не отходят, а на умывание вылезают дружно. Говоря честно, я тоже побаиваюсь отстать, и каждый раз, уходя от вагона, проверяю на месте ли за пазухой мои документы: эвакосправка блокадника; свидетельство о рождении; школьный табель за шестой класс; адреса родителей и адрес тети Любы в Куйбышеве. Кстати о мытье, эта обязательная процедура еще в Ленинграде на холоде и в одежде наводила на меня тоску, в дороге на снегу и в верхней одежде умывание было чисто символическим, и это отражалось на оттенке данных мне в дорогу маминых полотенец. Пункты пополнения нашего сухого пайка попадались теперь чем дальше, тем реже, но с более обильным числом продуктов и ни разу с горячей пищей. Последнее утверждать не берусь, так запомнил. Какими неведомыми путями и дорогами шел наш блокадный эшелон, при скудном знании дорожной географии определить было невозможно, напрасно вспоминал я тщательно хранимую папой подробнейшую железнодорожную карту с бесчисленными веточками дорог и названиями станций от Ленинграда до Владивостока, которая сейчас очень бы пригодилась. Где то на десятый или пятнадцатый день почувствовалось приближение большого города, стоянки на сильно разветвленных запасных путях стали чаще и намного дольше, нас регулярно обгоняли пассажирские и товарные составы, а мы уныло стояли и стояли, и только весеннее яркое солнце радовало теплом через настежь открытые двери. Все были уверены, что героических ленинградцев обязательно повезут через Москву и придерживают состав, чтобы блокадники оправились от истощения и не испугали столичных москвичей своим видом. Это не выдумка, такие разговоры шли в вагоне. Наконец, однажды, к раннему утру за один ночной скоростной безостановочный перегон нас доставили на дальнюю платформу вокзала Рязани. Самого города, подъезжая, мы так и не увидели- проспали. По платформам во все стороны торопливо шныряют озабоченные люди с заплечными мешками с картошкой, луком и еще с чем- то, давно не виданным нами, но точно округлой формы. Запомнились их тележки на колесиках из крупных шарикоподшипников и испуганное выражение лиц. По платформам ходят вооруженные патрули, но ощущения близости войны, знакомое по Ленинграду, здесь сменяется ощущением забытой обстановки довоенного Сенного рынка, только покупателей не видно, одни продавцы. Через две платформы здание вокзала, никто не рискнул сходить туда. Ни наш состав, ни мы сами жителей Рязани не заинтересовали, и ожидавшихся некоторыми, мною в том числе, полагающихся героям почестей мы успешно избежали. После Рязани на какой то из станций наш эшелон за двое суток расформировали по разным направлениям эвакуации. В вагоне другого товарного поезда я сравнительно быстро, примерно на двадцать пятые сутки, прибыл в город Куйбышев. Из вагона нас вышло четверо, остальные двигались дальше. Не встретился я больше с моими невольными опекунами, и расстались наскоро после недолгого прощания.
Самара городок

Пять часов утра. Подождав открытия камеры хранения, сдал свой драгоценный чемодан и отправился к умывальнику хоть немного привести в порядок запущенный внешний вид.
Из универсального своего «рюкзака» впервые за дорогу извлек расческу, мыло и принялся отмывать лицо, голову, шею и безнадежно почерневшие от паровозной гари и угля руки. Первый раз за месяц увидел себя в зеркале и понял, что лучше стал не на много, но намного чище. В справочном окне бдительная старушка тщательно разъяснила, как добраться до Чапаевской улицы и отправился я на давно не виденном трамвае по родному городу моей мамы под опеку к тетушке Любе.
Вид у меня невзрачный, ватная замызганная телогрейка, грязные ботинки, мятые штаны, худая физиономия. Вот таким я позвонил в воскресное апрельское утро в дверь первого этажа небольшого двухэтажного дома, в котором предстояло мне провести два очень насыщенных разными событиями года. Дверь открыл двоюродный брат, с ним познакомились четыре года назад в дни приезда к нам в гости по случаю рождения Лешеньки. Было ясно, что он меня не узнает, да и не ждали меня, так как никакой связи за время долгой дороги у меня не было, а сообразить посылать телеграфные сообщения по мере своего передвижения ума не хватило, да и почтовой возможности практически тоже. Кажется, я придумал вместо приветствия единственную умную фразу: «я к вам из Ленинграда» и брат потащил меня в комнату, где за утренним завтраком (еще девяти утра не было) сидели тетя Люба и ослепительно красивый муж, уже виденный мною в его приезд в Ленинград в 1938. Спасибо Любе, искренне любимой мамой, она приняла меня так, что сразу понял- я дома, а мне так долго не хватало хоть иллюзии этого ощущения. Первый день и вечер я таял от внимания и грелся в лучах славы, излучаемой тётиными соседями на первого увиденного ими живого блокадника. Вымытый первый раз за полгода до блеска, уложенный в чистую мягкую постель, накормленный домашней едой, заснул я мгновенно без всяких снов. Утром брат разбудил меня поздно, тетя и ее муж давно уехали на работу.

Костел
День был рабочий. С братом и тремя его приятелями пешком отправились на вокзал за чемоданом, по пути знакомя с городом. Хорошо запомнил тот теплый солнечный день. По дороге узнал много нового и полезного. Во первых, Куйбышев не просто областная столица, теперь он столица Советского Союза, въезд сюда только по пропускам, понаехавших москвичей не любят за нахальство и зовут «айдатиками» за их манеру приглашать тебя странным словом «айда», продукты из за них сильно подорожали и пусть себе не воображают, а то мы им дадим. Есть и хорошее в том, что трамваев стало много и московские вагоны очень удобны для бесплатной езды на «колбасе». О блокаде не спрашивали, но с уважением смотрели на брата, теперь он сиял в лучах славы, ни у кого из них не было такого брата. И обратный длинный путь мы бодро прошли пешком, и на улицу Фрунзе, и на главную площадь сходили. Вечером ноги, отвыкшие от ходьбы за долгий переезд, начали сильно ныть, утром невозможно было встать с постели, два дня отвыкшие мышцы унижали в глазах местных мальчишек, но как бы и подтверждали косвенно перенесенные мучения блокадников. Местные власти тоже обо мне помнили, я почти месяц раз в день ходил в «блокадное» кафе на бесплатный молочный завтрак. Незаметно кафе закрылось без предупреждения. Но я был полностью занят другой проблемой и не обратил на это особого внимания. Шел май, я хотел непременно закончить экстерном за лето седьмой класс, чтобы не отстать от своих одноклассников. Уже в здешней школе договорился о сдаче экзаменов осенью перед началом учебы. Раньше такого бурного стремления к школьным знаниям я никогда у себя не наблюдал. И объяснить это было можно не столько стремлением доказать родителям, что я и один буду выполнять их наставления хорошо учиться, но и желанием вновь быть с Ильей, Вадимом, Леной, Наташами. Как многие мои начинания, это лопнуло из за внезапно вспыхнувшей температуры, ошибочного перестраховочного диагноза- тиф и спешной отправки меня в военный госпиталь для излечения. Месяц среди раненых, относящихся к ленинградскому мальчишке без оханья и аханья, радушно, регулярное питание и летнее тепло быстро поставили меня на ноги. Август 1942. Прошедший год основательно стряхнул с меня пыльцу капризного мальчика. Вернувшись из госпиталя, я стал понимать, что зарплаты Любы и ее мужа, денег с командирского аттестата мамы хватает только на продукты, получаемые по карточкам, а при ценах на рынке можно прожить только впроголодь. Воскресший организм требует еды очень настойчиво. Тетя и ее муж работают далеко от центра на «Безымянке», абсолютно новом районе, и путей дополнительных приработков у них нет. Выдали им участок земли под огород поздней весной. С надеждой на урожай работаем каждый выходной. Хорошо, если в семье много детей, понял это, когда получил приглашение от еще одной моей тети, она младше мамы и старше Любы, зовут ее Вера и работает она в военкомате на Безымянке, который, если умело на него «нажать» (цитирую тетю Веру), «ответственен за одинокого ребенка военнослужащих, выполняющих гражданский долг перед государством». Тетя Вера правила знала и работала где надо. Жила она одна в однокомнатной квартире на той же Безымянке, пригороде, выросшему за счет эвакуированных сюда заводских предприятий. Поев у тети Веры незнакомых разносолов, получил за обедом обстоятельный инструктаж, как можно выгодно использовать мою дармовую рабочую силу в интересах обеденного стола и что, и когда можно ожидать от щедрот военкомата. Вариантов обогащения было два, и оба почти беспроигрышные при определенной доле упорства.

Люба с Санкой (Сашей). 1942 год



