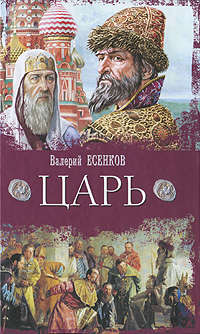Полная версия
Иоанн царь московский Грозный
Третьего июня к летней резиденции царя и великого князя, расположенной всё ещё в Островке, приближаются челобитчики, отправленные к нему из города Пскова, по официальной, никем не оспоренной версии с жалобой на бесчинства князя Турунтая-Пронского, наместника, поставленного из своей корысти кем-то из Глинских. Челобитье ли показалось ему слишком необоснованным, число ли челобитчиков, семьдесят человек, по свидетельству летописи, представляется ему подозрительным, вспоминает ли он новгородских пищальников, действуют ли возбуждающе какие-то иные, таинственные причины, современники ли лгут на него, только Иоанн поступает с псковитянами что-то слишком уж круто, с какой-то изощренной жестокостью, вернее прямо по-зверски. Он кипит праведным гневом, топает ногами, кричит, хотя ему в первый раз представляется благая возможность на деле выказать свою царскую власть, навести должный порядок, укротить жадность и бесчинства боярина, виновность которого даже не надо доказывать, так много сам Иоанн нагляделся на жадность и бесчинства подручных князей и бояр. Он же поступает не только противоположно здравому смыслу, но и несообразно ни с чем. По его повелению, несчастным просителям жгут будто бы волосы и бороды пламенем зажженных свечей, затем приказывают раздеться и лечь, обливают спиртом, намереваясь сжечь их живьем.
Не действительная картина, а всего лишь скупое, холодное изложенье того, что проделывается над живыми людьми, приводит в ужас стороннего наблюдателя, к тому же отдаленного от происшедших событий бездной времени в четыреста лет. Недаром глубокомысленные историки и хорошо образованные русские люди истолковывают это ужасное злодеяние, и многие другие, подобные им, как естественный всплеск будто бы его прирожденной жестокости, а иные даже как вспышку безумия, непременно присущего всякому деспоту.
Однако если бы ужасные злодеяния в самом деле являлись следствием прирожденной жестокости или безумия, о злодеянии и ужаснее неправомерно было бы говорить. В таком случае перед судом истории стоял бы просто-напросто глубоко несчастный, больной человек, которого надлежит пожалеть и простить, ибо не ведал того, что творил.
На самом деле подлинный ужас содеянного заключается именно в том, что, не будучи от природы жестоким, от природы и по обстоятельствам своего книжного воспитания будучи человеком мягким, да крайности впечатлительным, Иоанн в данном случае, как и во всех остальных, действует совершенно сознательно, неукоснительно следуя указаниям апостола о Кесаревом и Божьем, действует как подлинный библейский правитель, сеющий среди подданных либо милосердие и добро, либо ужас и смерть. Никогда он не откажется от своего хорошо продуманного, глубоко вкорененного, сотнями и тысячами летописных и библейских примеров подтвержденного убеждения, что именно таким образом должен, прямо-таки обязан действовать законный властитель, не захвативший своей власти войной и насилием, но получивший её по наследству и по милости Божьей. Пройдут годы, десятилетия, и он четко и ясно, с неопровержимой, безукоризненной логикой выскажет свое убеждение в первом послании Курбскому:
«Зачем ты презрел апостола Павла, говорящего: «Всякая душа да повинуется властям, нет власти не от Бога; а тот, кто противится власти, – противится Божьему повелению?» Смотри и разумей: кто противится – противится Богу, а кто противится Богу, тот называется отступником, а это – наихудший грех. А ведь это сказано о всякой власти, даже о власти, приобретенной кровью и войной. Вспомни же сказанное выше, что мы ни у кого не похитили престола, – кто противится такой власти, тем более противится Богу! Тот же апостол Павел, слова которого ты презрел, говорит в другом месте: «Рабы! Слушайтесь своих господ, работая на них не только на глазах, как человекоугодники, но, как слуги Бога, повинуйтесь не только добрым, но и злым, не только за страх, он и за совесть». Вот воля Господня – пострадать, делая добро…»
И это убеждение так глубоко проникло в сознание Иоанна, так безраздельно владеет его помыслами и ощущениями, что он приводит всё новые и новые доводы, которые для него несомненны, но которых его беглый подручник не желает уразуметь:
«Немало и иных было царей, которые спасли свои царства от беспорядка и отражали злодейские замыслы и преступления подданных. И всегда царям следует быть осмотрительными: иногда кроткими, иногда жестокими, добрым являть милосердие и кротость, злым – жестокость и расправы. Если же этого нет, то он – не царь, ибо царь заставляет трепетать не добро творящих, но зло. Хочешь не бояться власти? Делай добро, а если делаешь зло – бойся, ибо царь не напрасно меч носит – для устрашения злодеев и ободрения добродетельных…»
Поистине: взялся за гуж, не говори, что не дюж. Он царь, он носит меч не напрасно, свой меч он обязан обнажать на злодеев, а большего злодейства не названо в Священном Писании, чем неповиновение своему господину, пусть господин зол и несправедливы, пусть он жулик и обдирало первостатейный, как псковский наместник Турунтай-Пронской, никто из рабов ему не судья, а потому не может найтись преступника большего, чем раб, который противится своему господину, потому что противиться господину – значит противиться Богу, который именно этого господина дал тебе за грехи. Волей или неволей, хочет он этого или не хочет, Иоанн вооружается неопровержимым учение апостола Павла, опоясывается мечом и обрушивает жестокость, расправы и казнь на головы тех, кто осмеливается поднять голос против своего господина, в противном случае он сам превратится в отступника, презревшего волю Бога, чьей волей, чьей милостью ему дана эта непомерно-тяжелая власть над людьми.
Таким образом, жестоко расправляясь с псковскими челобитчиками, Иоанн всего лишь исполняет свой долг, не больше того, долг мало приятный ему, как мы это скоро увидим, но он все-таки исполняет его, потому что это долг перед Богом. В этой расправе с псковскими челобитчиками есть лишь одно малопонятное, трудно разъяснимое обстоятельство: отчего набравшихся смелости поднять голос обличения на своего незваного господина не дерут публично кнутом, как то и дело дерут по обычаю того богобоязненного, своеобычного времени, а палят бороды и намереваются сжечь живьем, к тому же не одного, не двух, объявленных главарями, зачинщиками, как поступают с бунтовщиками во все времена, а всех разом, семьдесят живых факелов, семьдесят пылающих, вопящих от жуткой боли костров!
Невольно возникает по сей день не разрешенный, ни одним глубокомысленным историком, тем более либералом и балалаечником не рассматриваемый вопрос, на какие именно беззакония и бесчинства князя Ивана Турунтая-Пронского приносят псковитяне свое челобитье молодому царю, к тому же собравшись столь внушительной и едва ли смиренной толпой? Ведь именно новгородские и псковские земли уже около ста лет почитаются на Русской земле главным источником и оплотом еретического учения стригольников, а затем другого, родственного еретического учения, тогда же наименованного ересью жидовствующих. Уже не одно десятилетие любостяжатели, ретивые последователи Иосифа Волоцкого, преследуют еретиков, требуя жечь и вешать ненавистных вероотступников, не только подрывающих православие изнутри, но и прямо нацеленных на раздробление, стало быть, на уничтожение Русской земли. Немногим более пятидесяти лет назад, повелением архиепископа Геннадия, после надругательств и пыток, в Великом Новгороде, на Духовском поле, предварительно заточив в железную клетку, сжигают наиболее ярых сторонников этой антицерковной и антигосударственной секты. Всего лет сорок назад в том же Великом Новгороде, после исступленных обличений Иосифа Волоцкого, предают очистительному огню Митю Коноплева да Ваню Максимова, предварительно заточив в деревянный сруб. Спустя год там же подвергают сожжению Некраса Рукавова, которому перед тем урезают преступный язык, Гридю Квашню да Митю Пустоселова, прочие уличенные в ереси рассылаются по монастырям и темницам. Не продолжает ли князь Турунтай-Пронской гонений на еретиков секты жидовствующих в отданных ему на кормление псковских пригородах и волостях? Не пресекает ли он их стремления отделить Великий Новгород и Псков от Русской земли и предаться Литве? Не обнаруживает ли сам Иоанн явных признаков ереси в обличениях челобитчиков, которые направлены в данном случае против оправданных действий наместника? Не отсюда ли это вполне законная изуверская мысль – сжечь нечестивцев, облив предварительно спиртом, и тем самым сделать, понятно само собой, свершить суд, который не может не благословить сам Господь? Может ли найтись иное толкованье тому, что московский царь и великий князь, признанный страж православия, обрушивает на рабов, не послушных своему господину, не меч, но огонь?
К счастью для Иоанна и псковитян, в тот самый момент, когда подручники уже готовы исполнить жуткую казнь, из Москвы, загоняя коня прибывает взмокший, перепуганный вестник с потрясающей вестью: в Кремле, едва начали благовестить к вечерне, сорвался и пал вниз большой колокол-благовестник, вернейшее предзнаменованье того, что страшные, неисчислимые бедствия черной тучей идут на Москву.
Иоанн потрясен. Верующий искренне, глубоко, он не может не понимать, что внезапное падение колокола-благовестника посылается как очевидное знамение свыше, посылается не кому-нибудь, а ему, царю и великому князю, принявшему на себя столь жестокий и варварский суд над вероотступниками. Конечно, будь он от природы жесток, безумен и склонен к насилию, он должен бы был принять это знамение как прямое доказательство несомненной вины бунтующих псковитян. Его же одолевают сомнения: да отступники ли они? да праведен ли, угоден ли Богу его искупительный суд? Ошеломленный, испуганный, ожидающий мщения свыше, оставив челобитчикам жизнь, он вспрыгивает в седло и сломя голову скачет в Москву.
Неизвестно, какие меры предосторожности принимает потрясенный царь и великий князь по случаю пророческого падения главного колокола, но он не возвращается в Островок, а поступок челобитчиков остается без всяких последствий, точно Божий промысел, обрушивший колокол, останавливает его.
Глава тринадцатая
Заговор
Однако ужасные бедствия только ещё предстоят. Тридцатого июня всё того же 1547 года благочестивые москвичи перед храмом Воздвиженья на Арбате обнаруживают известного юродивого Василия, впоследствии прогремевшего по всему Московскому царству и ставшего известным как Василий блаженный, человек и собор. Всегда абсолютно нагой, святой человек источает горючие слезы, глядя на храм, и благочестивые истолкователи всех и всяких пророчеств не сомневаются в том, что слезы блаженного Васи предрекают новые беды Москве.
В самом деле, ровно сутки спустя храм Воздвиженья вспыхивает костром. В тот же миг, с первыми языками прожорливого огня, поднимается страшная буря, и полотнища многозубого пламени с бешеной скоростью, точно в половодье река, растекаются по деревянным переулкам Арбата, пожирая на своем жарком пути не только жилые дома, но и храмы, дерево исчезает у всех на глазах в мгновение ока, кирпич и камень распадаются на куски, расплавленная медь больших и малых колоколов стекает ручьями. Железо кровель раскаляется и рдеет, как под молотом кузнеца.
Ещё никто ничего не успевает сообразить, как разъяренный огонь набрасывается на Кремль, врывается внутрь церкви Благовещенья и уничтожает бесценный иконостас работы Андрея Рублева, падает на деревянные кровли кремлевских палат и уничтожает палату оружейную, палату постельную, домашнюю казну царя и великого князя, конюшни и разрядные избы, в которых превращаются в дым и пепел писцовые книги, всюду гибнут сокровища, древние росписи, старинные иконы, бесценные рукописи, мощи святых.
Митрополит Макарий затворяется в Успенском соборе, который огонь отчего-то обошел стороной, и служит молебен, испрашивая милости несчастному городу, хранилищу православия, третьему Риму. А четвертому не бывать. От нестерпимого жара на старом митрополите дымится одежда, глаза слезятся от чада, митрополит задыхается. Его уговаривают уйти. Макарий отказывается. Наконец прислужники уводят архипастыря силой, впереди несут образ Богоматери, писанный митрополитом Петром, и Правила церковные, доставленные из Константинополя Киприаном. Одна икона владимирской Богоматери остается на прежнем месте, и безумный огонь, разрушив кровли и паперти, не проникает во внутренность храма.
Однако сплошным пламенем отрезаны все выходы из Кремля. Маленькая кучка людей, облаченных в черные, поистине траурные одежды, предводительствуемая чудотворной иконой, мечется в тучах едкого дыма, в море огня в поисках выхода, пользуясь и самым малым пространством, ещё не захваченным свирепым пожаром. Им удается пробиться к стене, обороняющей нападение осаждающих от реки. Макария наспех обвязывают откуда-то взявшимися веревками и бросаются спускать тайным лазом наружу. То ли по русскому обычаю изгнив в небрежении, то ли истлев от раскаленного жара, веревки в последний момент обрываются. Макарий срывается, падет, больно ударяясь о землю. Едва живого, получившего серьезные ушибы во многих местах, его спешно и в самый последний момент отвозят в укрытие Новоспасского монастыря.
Почти следом за ним свирепый огонь проникает в тайные арсеналы Кремля. Порох, приготовленный на случай долгой осады, взрывается. Страшный гром оглушает близлежащие улицы и переулки. Целые тучи огня взвиваются и обрушиваются окрест. Китай-город обращается в пепел и прах, полного истребления чудом избегают два храма и десяток счастливых купеческих лавок. Мало что остается от Большого посада. Огонь течет и течет, оставляя горящие угли и тлен, от Неглинной до Яузы, пожирая Варварку, Покровскую улицу, Мясницкую, Дмитровку и Тверскую, захватывает огороды, сады, обращая в уголь деревья, превращая в золу траву и плоды.
Буря пожара утихает лишь к ночи, изгнавши большую часть посадских людей, побросавших нажитое добро, разбежавшихся и попрятавшихся к окрестных лесах. Пожар прекращается на рассвете, унеся жизни около тысячи семисот человек, детей же, сгоревших в огне, никто не считал. Ещё трое суток зловеще курятся развалины, не позволяя обездоленным жителям воротиться к родным пепелищам и приняться, как это приключалось на Русской земле и сотни, и тысячи, и бессчетное количество раз, за возведение новых жилищ, благо прямо за околицей любой деревеньки, любого посада невозмутимо шумит бескрайнее море ещё не истребленных бесчувственной корыстью лесов, а топор у русского человека всегда под рукой.
Только убедившись, что страшному бедствию приходит конец, понемногу, сперва единицами, мелкими группами, затем десятками, сотнями погорельцы осторожно, ещё не избывши смятения из души, возвращаются к жалким останкам домов и дворов, с опаленными волосами, с почернелыми от копоти лицами, стеная, крича, призывая утраченную родню, кто мать и отца, кто сестру или брата, кто жену и детей, но в ответ не раздается ни стона, ни отклика, и многие воют, по словам летописца, как дикие звери, как выли и ещё станут выть сотни и тысячи и бесконечное количество раз беспечные русские люди в возведенных из дерева посадах и деревнях.
Едва ли можно при самом мерзком желании обнаружить что-нибудь подозрительное, тем более преступное в том, что царь и великий князь, как и устрашенная толпа его подданных, бежит из горящей Москвы и укрывается от огня в селе Воробьеве, поскольку он не пожарник, а царь и великий князь, тем более что уже на другой день после пожара Иоанн в сопровождении ближних людей въезжает в Москву, осматривает последствия ниспавшего бедствия и отдает повеление не медля ни дня восстанавливать храмы и Кремль, которые русскому человеку служат духовной опорой и прочной защитой от лиха войны, затем, ступая по ещё не остывшим углям, сквозь чад и вонь ещё теплых развалин, пробирается в монастырь, до которого не достигает огонь, и там навещает больного митрополита Макария.
Именно здесь, за монастырскими стенами, в месте святом, где православные приближаются к Богу и оставляют вседневные помыслы о грешном земном, против него затевается первое черное дело. Посадские люди ещё растеряны, смятенны, посадские люди ещё ни о чем не успевают подумать, ещё скитаются по окрестным лесам и не решаются воротиться в Москву, а подручные князья и бояре уже плетут новый заговор.
Прежние любимцы, бесстыдно используя страшное бедствие, ополчаются на новых любимцев царя и великого князя, чтобы если не погубить тех, кто препятствует им вдоволь насыщаться народным добром, то хотя бы задвинуть в тень и свалить, хотя бы на время, лучше бы навсегда. Не стесняя себя местом и временем, они вступают в покои царя и великого князя, и кто среди них? Протоиерей Федор, его духовник, Григорий Захарьин, дядя царицы, стало быть, и дядя царя, князь Скопин-Шуйский, князь Юрий Темкин, боярин Федоров, боярин Челяднин, боярин Нагой. Заговорщики стоят, разумеется, чинно, крестятся истово, объявляют царю и великому князю явную дичь: Москва, говорят, сгорела не сама по себе, от палящего июньского зноя, как горела сотни, тысячи, несчетное количество раз, а следствием злодеяния, состоящего в том, что некие тайные злоумышленники вынимали сердца человеческие, вымачивали в воде и той чародейской водой, проезжая по московским улицам ночью, кропили дома, напуская огонь.
Мысль замечательная и сама по себе, замечательная прежде всего потому, что все они искренне почитают себя православными христианами, творят преусердно молитвы, неукоснительно выстаивают все церковные службы, они не должны бы подобно язычникам верить в такого рода злодейства, поскольку такого рода явления не совместимы с учением и верой Христа. Но в том-то и дело, что молитвы и службы составляют только внешнюю оболочку внутренней жизни всякого русского человека. В глубине души и простые землепашцы, звероловы и рыбари, и эти закоренелые витязи удельных времен по-прежнему остаются язычниками, почитающими леших и домовых, нетопырей и кикимор, меньших братьев когда-то насильственно свергнутых Перуна и Велеса, Рода и Рожаниц, пять столетий назад проклятых и сожженных бесстрашным Владимиром Красное Солнышко.
Эти витязи удельных времен остаются язычниками вовсе не потому, что тайно сопротивляются православному христианству, как финские племена, вразумленные ретивым посланцем Макария из Великого Новгорода, и упрямо держатся за поруганную, дорогую им веру языческих предков. Вовсе нет. Язычество гнездится в каждом извиве их малоподвижного, неразвитого сознания в силу непроницаемого невежества. Православная церковь, изгнав из обихода науки, истребив волхвов, знавших астрономию, математику и лечение целебными травами, заодно изгоняет из повседневного обихода самую мысль. Витязи удельных времен верят во Христа неосмысленно, не размышляя над существом христианства, над основами учения и веры Христа. Без напряженной и постоянной работы ищущей мысли никакая вера не способна перерасти в убеждение, а без прочного убеждения душа не способна очиститься от стихийного язычества древности. По этой причине поведение, характер и направленность действий витязей удельных времен определяется куда чаще привычным и понятным языческим мифом, чем сущностью и нормами христианства.
Несмотря на свою глубокую христианскую образованность, Иоанн в глубине души тоже язычник, тоже верит во всякую чертовщину, в чародейство и в колдовство, верит не намного меньше своего невежественного, темного окружения. Если он решительно возвышается над своим окружением, то возвышается природным умом, усиленным непрестанным чтением и размышлением над тем, что прочитал. Здравый смысл редко покидает его, а потому он высказывает недоумение, каким это способом можно было окропить подлым зельем такую махинищу, как колокольня Ивана Великого.
Остается неизвестным, какую очередную нелепицу плетут в ответ на этот неопровержимый запрос не способные к философскому размышлению витязи удельных времен. В сущности, они едва ли и понимают, причем тут колокольня Ивана Великого. Цель их доноса о произведенном злом чародействе проста и понятна: Они жаждут свалить своих конкурентов и самим, хоть царь и великий князь и без того осыпает их милостями, прибрать к рукам все будущие милости, раздачи, земли и льготные грамоты. Пока что осторожные заговорщики не называют имен чародеев и колдунов, однако продолжают дружно настаивать, обойдя стороной непосильную им колокольню Ивана Великого, что дело нечисто, а раз дело нечисто, надлежит виновных в чародействе и колдовстве изобличить и казнить.
Любопытно, что и сам Иоанн на этот раз не прислушивается к трезвому голосу спасительного сомнения. Человек он открытый, прямой и, как почти всегда в таких случаях, чрезмерно доверчивый. Когда он оказывается перед лицом очевидной опасности для себя лично или для всего Московского царства, подобной встрече с вооруженным отрядом новгородских пищальников, Он действует решительно, смело и беспощадно, не зная колебаний в защите, без промедления переходя в нападенье, так что трудно, почти невозможно сокрушить его в открытом, честном бою: на каждый удар он отвечает десятикратной силы ударом, используя всю свою мощь наследственного, законного властелина.
Зато он почти в той же мере беспомощен перед хитроумной интригой. Он слишком доверчив, чтобы тут же обнаружить подвох. На тайные козни он попадается с той же изумительной легкостью, с какой на удочку рыбаря попадается несмышленый пескарь. Он так настрадался от одиночества, с такой страстью жаждет сочувствия, сострадания, понимания, дружбы, что безоговорочно верит каждому, кого принимает за друга, и не умеет или, может быть, запрещает себе заподозрить в избранном друге коварного, затаившегося врага, бесстыдного интригана. Каждый из такого рода друзей может без труда обвести его вокруг пальца и получить от него решительно всё, чего пожелает. Лишь когда он внезапно прозреет и с глаз спадет пелена, лишь когда ощутит невыносимую боль от раскрывшегося обмана, горе тому, кто так неосторожно, так беззастенчиво его обманул.
И на этот раз он вполне доверяет своим ближним людям, уже составившим заговор, хотя понимает всю нелепость их подозрений. К тому же он всё ещё молод, он не успевает нажить политического и житейского опыта и трудного, загадочного умения править людьми и страной. Немудрено, что он совершает опаснейшую ошибку и вследствие этой ошибки сам становится причиной и одним из виновников новой беды. Вместо того, чтобы рассмеяться в ответ на нелепые домыслы, будто кто бы то ни было кропил приворотным зельем колокольню Ивана Великого, и отправить крамольников восвояси, попариться в бане да встать на молитву для остужения чересчур воспалившейся головы, он опрометчиво поддается их подлому наущению и отдает приказ о расследовании.
Не успевают московские погорельцы прийти в чувство после пережитых ужасов стихийного бедствия, не успевают хоть сколько-нибудь взяться за ум и, обожженные, измученные, в равной одежде, ещё только сторожко, с опаской и понемногу возвратиться на свои пепелища, а между ними уже шныряют зоркие соглядатаи, выспрашивают о том, не приходилось ли видеть чего-нибудь непристойного накануне пожара, не случилось ли чего необычного, неподобного, не приходилось ли видеть по ночам злоумышленников, хотя, согласно закону, город по ночам вымирает, а все заставы заперты наглухо и охраняются недремлющей стражей.
Естественно, настойчивые расспросы полунамеками и будто бы невзначай, которые ведутся представителями порядка, сбивают окончательно с толку и без того сбитых с толку, перепуганных насмерть посадских людей. Но и это бы ещё ничего. Вероятно, вся история с доносом на чародейство и колдовство так и окончилась бы через день или два одними расспросами, поскольку ни один из погорельцев ничего толкового не имеет донести предержащим властям. Причина такого неведения очень проста: посадские люди исправно спят по ночам, а злоумышленников не было и быть не могло, ведь и в самом деле никаким зельем не окропишь колокольню Ивана Великого.
Однако следом за представителями порядка крадутся представители мятежа. Люди Скопина-Шуйского, Темкина, Федорова, Челяднина и Нагого сеют свои плевелы уже в готовую почву, нашептывают то тут, то там, что недаром, православные, ох, недаром сгорела Москва, что были, были злодеи, вынимали, мочили сердца и кропили чародейской водой православные храмы, палаты любимых нардом князей и бояр, богатые лавки торговых людей и дома простых горожан, осторожно, украдкой роняют и ненавистные всем имена: Анна Глинская, Михайла Глинский, Юрий Глинский – вот злодеи, вот корень всех ваших бед.
Народ доверчив, как большое дитя. Русский народ доверчив так, что порой в его святую наивность поверить нельзя, так и думаешь, что и на него напущены чародейство да колдовство. К тому же язычество в душе русского человека много сильней занесенного из далеких и далеко не дружеских краев христианства, навязанного посадским людям, землепашцам, звероловам и рыбарям железной волей высших властей, нередко силой оружия и огня втесняемого в крепко дремлющие умы и мечтательные души невинных поклонников леса, реки, солнца, цветов, лугов и вечно родящей, производительной силы природы, в образе Рода и Рожаниц. Русский народ как ни в чем не бывало продолжает жить среди своих добрых леших и домовых, водяных и кикимор, золотых рыбок и коньков-горбунков, точно со своими домашними, близкими сердцу, понятными простому уму, а церковные службы посещает лишь по воскресным да праздничным дням, ставит свечку, лоб осеняет крестом и был таков, словно и не был, а потому ещё охотней подручных князей и бояр способен поверить в возможность порчи, сглаза, волхвованья и колдовства.