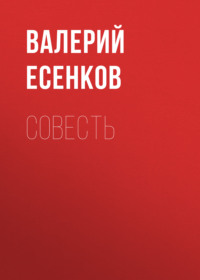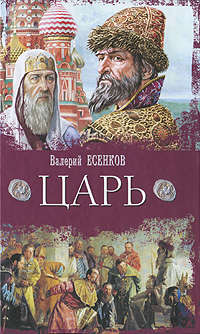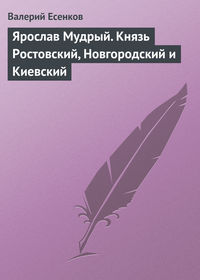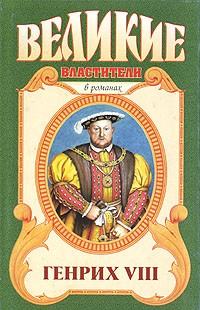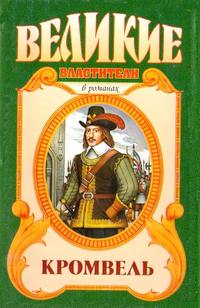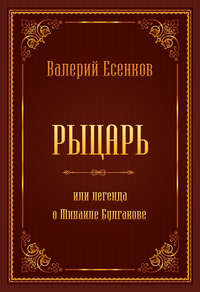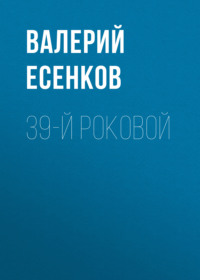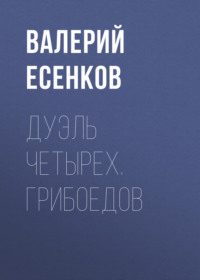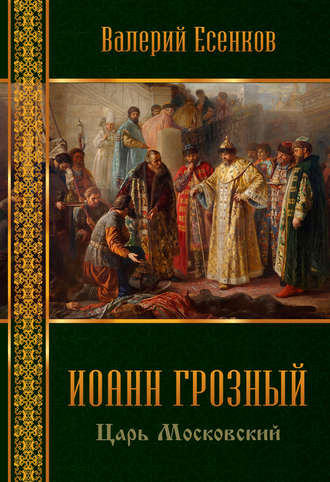
Полная версия
Иоанн царь московский Грозный
Стало быть, нечего удивляться, что в одночасье всё потерявшие, доверчивые, добрые, наивные и несчастные москвичи с необыкновенной легкостью верят подлым наушникам, а когда им подсовывают на праведный суд ненавистных Глинских, пришельцев, успевших насолить им поборами, вымогательствами, притеснениями, подчас прямым грабежом, не хуже сгинувших Шуйских и Бельских, хуже того, назвавших и пристроивших по многим хлебным местам кучу новых пришельцев из южнорусских земель, которые, в свою очередь, не стесняются в поборах, вымогательствах, притеснениях и прямых грабежах, посадские люди в одно мгновение возгораются жестокой жаждой возмездия и, не успевают и сами искусители оглянуться, в один день готовы к разрушению и мятежу.
Дальнейшее проще пареной репы. Всего пять дней спустя после опустошительного пожара, когда только самые отчаянные, самые озлобленные из москвичей, ещё не отыскавшие под развалинами того, что осталось от ближних, унесенных огнем, заговорщики являются в Кремль, скликают народ и вопрошают с видом праведных судей, кто зажигал Москву, утверждая запросом, что Москва была сожжена, а вовсе не загорелась сама по себе от летнего жара, как загоралась бессчетное множество раз. В ответ из толпы раздаются возбужденные крики:
– Княгиня Анна Глинская! Она со своими детьми волхвовала, вынимала сердца человеческие, да клала в воду, да тою водою, по Москве ездя, кропила! Оттого и выгорела Москва!
Сам ли народ, зло настроенный наущением и бедой, выкрикивает эти нелепости, холопы ли веленьем подручных князей и бояр подбрасывают сухого хворосту в новый костер, этого нам уже никогда не узнать. Толпа, которой громко назвали имя врага, приходит в неистовство, однако не имеет понятия, как действовать, что предпринять, ограничиваясь искренним возмущением, угрозами и беспорядочными, обычными в таких случаях криками. Подручные князья и бояре тоже не осмеливаются открыто призвать к мятежу, возможно, из трусости, может быть, потому, что знают уже, насколько неотвратимо-жестока тут же судящая и тут же карающая десница молодого царя и великого князя. В сущности, они немногого и хотят. Они жаждут сместить Глинских, угнездиться на занимаемых ими местах и бесчинствовать, как они, на счет того же посадского люда, который так искусно сумели подтолкнуть к мятежу. Они стремятся, по всей вероятности, лишь указать на измышленное ими преступление Глинских, рассчитывая на то, что молодой царь и великий князь, обманутый ими, сам по своему усмотрению расправиться с теми, на кого указали они. Нельзя исключить, что представление в Кремле так и окончилось бы ничем: толпа покричала бы, а затем разошлась бы, как кричала и расходилась множество раз. Но, как нередко бывает, глупейший случай придает происшествию неожиданный поворот.
Толпа всегда ужасна необузданностью своего возбуждения, и благо тому, кто не спасовал, не испугался её. Толпа признает только силу, малейшее проявление слабости развязывает её животный инстинкт, ей самой прежде неведомую жажду ломать, крушить и убивать. Куда разумней орать на толпу, угрожать ей, произносить вдохновенные речи, не затрудняя себя предметом и смыслом внезапно пролившегося ораторского искусства, поскольку тупая толпа всё равно ничего не поймет и воспримет лишь победные интонации голоса, угрозы и крик, оттого любая вдохновенная речь способна любую толпу усмирить и отправить домой. Однако струсить перед толпой – значить обречь себя на погибель.
Анна и Михаил Глинские по счастливой случайности таятся далеко от Москвы, один Юрий Глинский болтается здесь без всякого дела и оказывается в кругу подручных князей и бояр. Похоже, ему первый раз доводится слышать нелепые обвинения Глинских в поджоге Москвы. Но он не решается тут же, публично, не сходя с места в пламенной речи разоблачить нелепость облыжного обвинения, защитить честь семьи, а вместе с тем и себя самого и тем спастись от возможной расправы. Человек недалекий и мелкий, всем своим крохотным существом он улавливает только одно: ему грозит избиение, увечье, может быть, смерть. Гонимый страхом, он потихоньку выступает из тесного круга подручных князей и бояр, где был в безопасности, и прокрадывается в Успенский собор, твердо зная, что обычай охраняет любого, даже преступника, вступившего в храм.
Своей трусостью он подает знак его недругам, у которых едва ли был какой-нибудь план, поскольку кто-кто, а они-то не могут не знать, что Анны и Михаила Глинских не было в городе и быть не могло, путь не близкий от Ржева в Москву. Злорадно, внезапно найдя выход из тупика, кто-то из подручных князей и бояр указывает толпе на трусливо сбежавшего Юрия Глинского. Толпа разъяряется. Свершается преступление, прежде не бывалое на Русской земле: придя, как и следует, в ослепление, толпа врывается в храм и в святом месте, попирая обычай и веру в Христа, забивает Юрия Глинского чем ни попало. Затем окровавленное, изодранное, измятое тело выволакивают на площадь и швыряют на лобное место, в знак того, что над Юрием Глинским совершена справедливая, законная казнь.
Неизвестно, происходит ли это кощунственное убийство на глазах Иоанна, или стражи порядка доносят ему во всех подробностях о преступлении, явным образом недостойном, грязном и беззаконном. Известно одно: эти возмутительные подробности навсегда врезаются в его цепкую память, и спустя много лет он описывает возмущение обманутой, тайно возбужденной толпы именно так, как оно было:
«И по наущению наших изменников народ, собравшись сонмищем иудейским, с криками захватил в церкви Дмитрия Солунского нашего боярина, князя Юрия Васильевича Глинского; оттуда его выволокли и бесчеловечно убили в Успенском соборе напротив митрополичьего места, залив церковный помост кровью, и, вытащив его тело через церковные двери, положили его на торжище, как осужденного преступника…»
Как бы там ни было, Иоанн затворяется в селе Воробьеве. Обычным местом летнего отдыха московских великих князей. Царица Анастасия творит слезную молитву в часовне, моля Господа уберечь семью и престол от нашествия нечестивых. Царь и великий князь, не теряющий головы, готовит верных людей к обороне усадьбы, всего лишь обнесенной тыном и рвом.
Тем временем толпа посадских людей, окончательно потеряв разумение от вида пролитой крови, продолжает бесчинства в Москве, и никто из подручных князей и бояр не делает ни тени попытки, даже не помышляет эти бесчинства остановить, хотя у каждого из них под рукой отряд служилых людей, которых они по призыву царя и великого князя обязаны вести на войну. Разъяренные посадские люди бросаются к двору и терему Глинских, которые, на беду, каким-то чудом не тронул кругом полыхавший огонь. Имущество, как водится, грабят, убивают решительно всех, кто находится в услужении Глинским, затем мечутся по сожженной Москве и предают смерти всех, кто говорит на южнорусском наречии, принимая каждого малоросса за прислужника Глинских, так что в страшных мучениях погибает множество абсолютно невинных людей, а сколько именно, никто не считал.
Распаленные новой пролитой кровью, заговорщики тоже входят во вкус насилия и разрушения и решаются на действия чрезвычайные. Толпу науськивают валом валить в Воробьево. Происходит ещё одно безобразие, доныне не бывалое на Москве. Посадские люди, готовые к грабежу и убийству, вломившись на двор, требуют от самого государя выдать им на позорную, мерзкую казнь, на растерзание, вернее сказать, бабку и дядю царя и великого князя, то есть откровенно и нагло не только посягают на членов царской семьи, но и присваивают себе право суда.
Нападение всегда поднимает духовные силы царя и великого князя на многократный отпор. Его отношение к мятежу определенно и ясно. Неотступно стучат в его сердце евангельские слова:
«Горе миру от соблазнов, ибо не надобно прийти соблазнам, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит, лучше бы было ему, если бы привесили ему мельничный жернов на шею и потопили в глубине морской…»
Глубины морской поблизости не имеется, зато имеется вооруженная стража его царского, великокняжеского полка. Не ведая колебаний, отдает он ясный, определенный приказ. Пищальники дают залп по толпе. В одно мгновение отрезвев, толпа рассыпается и разбегается кто куда. Несколько человек, попавшихся под руку, удается схватить и связать. Под видом зачинщиков, нечестивцев убивают на месте.
Благодаря решимости Иоанна, мятеж подавляется в самом начале, не дав разбушеваться другому огню, огню животных страстей и бесконечных убийств. Проливается кровь нескольких бунтовщиков, но тем самым ограждается жизнь сотен. Может быть, тысяч ни в чем не повинных людей, которые неминуемо должны были пасть безвинными жертвами мятежа, не положи царь и великий князь предел бесчинству взбаламученной, потерявшей разум толпы.
Точно осознав наконец собственную вину, затихает Москва, ожидая бесчисленных казней, опал и темниц в наказание за учиненный разбой.
Жутко, должно быть, в эти длинные летние дни на душе москвичей.
И в самом деле, убежденный враг малейшего неповиновения государственной власти, идущей, как он твердо знает, от Бога, Иоанн готов обрушить темницы, опалы и казни на головы бунтовщиков, нисколько не сомневаясь ни в своей обязанности, ни в своей правоте. Он тем не менее медлит. Донесла ли ему служба порядка, чутье ли подсказало ему, но он убежден, что посадский люд не сам собой учинил беспорядки и явился к нему с невероятными, невозможными требованиями, что посадский люд подбивали и подбили против него, что подручные князья и бояре, потерпев неудачу в придворных интригах, подняли, распалили и подвигли толпу. Ему приходит на мысль, что заговор был направлен также против него самого и что это его, царя и великого князя, должен был разорвать на клочки, во всяком случае мог разорвать, мятежный народ. Он и позднее станет настаивать:
«Мы жили тогда в своем селе Воробьеве, и те же изменники убедили народ убить нас за то, что мы будто бы прятали у себя мать князя Юрия Глинского, княгиню Анну, и его брата, князя Михаила. Такие изменники, право, достойны смеха! Чего ради нам в своем царстве быть поджигателем? Из родительского имущества у нас сгорели такие вещи, каких во всей вселенной не найдешь. Кто же может быть так безумен и злобен, чтобы, гневаясь на своих рабов, спалить свое собственное имущество? Он бы тогда поджег их дома, а себя бы поберег! Во всем видна ваша собачья измена…»
Трудно сказать, простирались ли замыслы заговорщиков так далеко, однако они трусят ужасно, теряются и не знают, что делать, как поступить, чтобы свои шкуры от опалы и казни спасти: заметать ли следы подстрекательств, или продолжить мятеж до конца, то есть до убиения царя и великого князя. Опасаясь за свою жизнь, если мятеж разгорится во всю неудержимую народную ширь, князь Михаил Глинский, а заодно с ним и псковский наместник князь Иван Турунтай-Пронской, озлобивший псковитян, пытаются скрыть в Литве. Люди князя Петра Шуйского перехватывают беглецов на пути и заключают под стражу, но уже не решаются предать смерти без ведома царя и великого князя ни того ни другого. Страшатся ли они продолжить мятеж? Надеются ли своей снисходительностью умилостивить царя и великого князя и тем отвести от себя его неминуемый гнев? Это остается загадкой. Можно только сказать: заговорщики готовы ухватиться за любую соломинку, лишь бы свои бесчестные горячо любимые головы удержать на плечах, ведь топор палача над ними уже занесен.
Глава четырнадцатая
Покаяние
Видимо, неслучайно именно в этот напряженный момент, когда Иоанн принимает решение, перед грозным ликом царя и великого князя является протопоп Благовещенского собора Сильвестр. Некоторое время он правит службу в Великом Новгороде и оттуда вместе с Макарием переходит в Москву, возможно, несколько раньше, это неясно. Тому несколько лет он просил за орального Бельского, и возвращение Бельского летопись приписывает чуть не всецело ему, выставляя его ходатаем за опальных, возможно, задним числом, когда править летопись поручается Алексею Адашеву, поскольку известно, что за Бельского на самом деле просил митрополит Иоасаф. В таком случае возникает резонный вопрос, отчего благовещенский протопоп не явился с обличением Иоанна перед казнью Кубенского и двоих Воронцовых? Разве что-нибудь мешало ему воздеть руки и возопить? Разве вина Кубенского и Воронцовых могла менее подвергаться сомнению, чем вина нынешних заговорщиков, подбивших посадский люд на беспощадный, кровавый мятеж? И вполне может быть, что единственная причина, подвигшая Сильвестра воздевать руки и возоплять, заключается в том, что среди заговорщиков обнаруживается Федор Бармин, тоже благовещенский протопоп? Может быть, именно заговорщики через перепуганного Федора Бармина подвигают его? Не под их ли воздействием в прежде малоприметном попе вдруг пробуждается пламенный дар проповедника?
Собственно, единственное свидетельство о внезапном вмешательстве благовещенского протопопа исходит от Курбского, который в своих писаниях стремится вовсе не к истине, а лишь к одному: представить Иоанна, не оценившего по достоинству его так нигде и никем не открытых талантов, полнейшим ничтожеством, любыми способами унизить его, вплоть до очевидно беспочвенного обвинения в трусости. Беглый князь изображает нежданно-негаданное явление протопопа в тех же возвышенных выражениях, тем же торжественным слогом, каким обыкновенно изображается явление народу Христа, и очень похоже на явление Нафана к библейскому герою Давиду. Легкомысленные историки, либералы и балалаечники обыкновенно исходят в своих клеветах из заведомо лживых писаний беглого князя, может быть, выразительней своих позднейших последователей повествует всегда взволнованный Карамзин, навострив патетически-сентитментально перо:
«В ещё ужасное время, когда юный царь трепетал в воробьевском дворе своем, а добродетельная Анастасия молилась, явился там какой-то удивительный муж, именем Сильвестр, саном иерей, родом из Новагорода; приблизился к Иоанну с подъятым, угрожающим перстом, с видом пророка и гласом убедительным возвестил ему, что суд Божий гремит над главою царя легкомысленного и злострастного, что огнь небесный испепелил Москву, что сила вышняя волнует народ и лиет фиал гнева в сердца людей. Раскрыв Святое Писание, сей муж указал Иоанну правила, данные Вседержителем сонму царей земных; заклинал его быть ревностным исполнителем сих уставов; представил ему даже какие-то страшные видения, потряс душу и сердце, овладел воображением, умом юноши и произвел чудо: Иоанн сделался новым человеком; обливаясь слезами раскаяния, простер десницу к наставнику вдохновенному; требовал от него силы быть добродетельным – и принял оную…»
Это внезапное перерождение Иоанна, прежде не замеченного ни в каких ужасных пороках, настолько нелепо, эта проповедь, начиная с угрожающего перста и вида пророка, кончая видениями и чудесами, исторгаемыми простым протопопом, а не святым, до того невозможна, что и сам беглый князь, бестрепетный сочинитель этой небывалой истории, лишь вдохновенно пересказанной доверчивым Карамзиным, по поводу чудес вынужден присовокупить:
«Может быть, Сильвестр выдумал это, чтобы ужаснуть глупость и ребяческий нрав царя. Ведь и отцы наши иногда пугают детей мечтательными страхами, чтобы удержать их от зловредных игр с дурными товарищами…»
Таким образом, семнадцатилетний Иоанн, своим разумом изумивший митрополита Макария, человека проницательного и образованного, представляется его злейшим врагам несмышленым, порочным дитятей, ещё не знакомым с Писанием, в котором содержатся правила его достойного, в будущем, поведения, а протопоп выглядит доблестным мужем, правда, способным приврать, несмотря на свой чин, сосудом всех мыслимых и немыслимых добродетелей, точно Иоанн в законной защите царского села от погрома выказал себя кровожадным разбойником, тогда как в действительности всего лишь спасал жизнь своих близких от бесчинств разъяренной толпы и вместе с ними, возможно, жизнь свою и царицы, точно он не восстанавливал в терпящем бедствие Московском царстве законный порядок, точно именно Священное Писание не предписывает владыкам земным беспощадность к врагам законных властей и к смутьянам, точно во время венчания бармами, венцом и крестом сам митрополит не благословил его внушать ужас строптивым.
В реальной жизни ничего подобного быть не могло. Темницы, опалы и казни грозят не каким-нибудь невинным младенцам или попавшим под злую, горячую руку вернейшим слугам царя и великого князя. Темницы, опалы и казни предстоят темным личностям, заговорщикам, «собачьим изменникам», возмутившим толпу и направившим её в кровавый поход на царское село Воробьево, стало быть, в кровавый поход против главы государства, против царя. И если Сильвестр вдохновляется, то вдохновляется он мольбами и увещаньями заговорщиков, которые не могут не понимать, что в эти минуты за их подлые головы нельзя дать и медной полушки, и если они в этот критический миг решаются направить протопопа к царю и великому князю, то лишь потому, что митрополит, единственный духовный наставник молодого царя и великого князя, лежит без движения в келье монастыря, и если протопоп взывает к милосердию и всепрощению, то с фальшивым, неискренним красноречием просит за явно, безусловно виновных в тяжком грехе мятежа, и если протопоп обращается к Иоанну со словами увещевания и вразумления, то это слова не о суде Божием над будто бы легкомысленным, будто бы злострастным царем и великим князем, а лишь о христианском милосердии к падшим, заблудшим, готовым к раскаянью грешникам, и если Иоанн поддается на его увещания и вразумления, то уж никак не по глупости, не по ребяческой простоте.
В сущности, Иоанну не в чем раскаиваться. По его повелению пальбой из пищалей рассеивают озлобленную, науськанную на него затаившимися врагами толпу, в течение двух или трех дней совершившую сотни жесточайших убийств, по его повелению на месте казнит десяток злодеев, обагривших руки в крови. Он готовится обрушить темницы, опалы и казни на головы заговорщиков, подстрекнувших толпу к преступлениям, истинных зачинщиков кровавых бесчинств. Он действует решительно, круто по зрелому убеждению, он прямо-таки обязан поступить таким именно образом, иначе никакого порядка в державе его не бывать, иначе державе его грозит бесконечная смута, подобная той, какая на Русской земле ещё впереди.
Всё, что бесспорно принадлежит руке Иоанна, все его послания подручным князьям и боярам, монастырям и иноземным дворам неопровержимо свидетельствует о том, что он вовсе не принадлежит к разряду несчастных заводных механизмов на троне, которые заводятся и направляются чьей-либо посторонней рукой. Это характер прежде всего самостоятельный, независимый, не терпящий никакого вмешательства в дела управления, тем более в дело суда, в дело наказания и поощрения своих приближенных и подданных. Это характер страстный, увлекающийся собственными идеями, однако назвать его ребяческим может только заведомый клеветник или уж слишком доверчивый историк и либерал. Везде и всегда Иоанн последовательно и обстоятельно следует собственным убеждениям, выработанным в серьезной и глубоко нравственной школе митрополита Макария, никогда и нигде он не отступается от раз принятых, трезво обдуманных, одобренных митрополитом Макарием принципов, его невозможно уличить в противоречии себе самому: то, что он называет добром, он во всех случаях частной жизни или внутренней и внешней политики называет добром, а то, что ему представляется злом, для него остается во всех случаях злом.
Не чужая, посторонняя, но собственная воля руководит Иоанном в делах управления, и в высшей степени необдуманно, несправедливо поступают те историки, либералы и балалаечники, которые склоняются всё без исключения зло его трудного, действительно трагического царствования относить исключительно на счет его каприза и своеволия, тогда как все добрые начинания приписывать его будто бы добродетельным, более разумным советникам, а на поверку личностям довольно ничтожным, посредственным, не способным самостоятельно выполнить и самого простого, самого обыкновенного дела, какое бы ни было поручено им.
Нет, этому самовластному человеку никакие советники не нужны. Иоанн всегда действует так, как велят православная вера, совесть и ум, воспитанный мудростью библейских сказаний, евангельских наставлений, поучений апостолов и благословений собственной церкви, освятившей его царский венец. Как всякий человек, которым безраздельно владеет идея, он непреклонен, он уверен в себе, и если сказано о злоумышленнике, что было бы лучше самому злоумышленнику, чтобы ему на шею привесили мельничный жернов и утопили в пучине морской, то и голос ему не изменит, не дрогнет рука навязать злоумышленнику на шею подходящий случаю мельничный жернов и столкнуть подлеца в пучину морскую, поскольку этим поступком он не только восстанавливает установленный Богом порядок, но ещё, что следует помнить современным историкам, либералам и балалаечникам, заблудшую душу самого злоумышленника спасает от новых грехов и тем спасает от новой кары Господней, кара-то злоумышленника ждет и на небесах.
Однако несчастная душа Иоанна чересчур впечатлительна, слишком чувствительна, слишком мягка, как и подобает быть душе выдающегося писателя, каким ему суждено было стать. Его несчастная душа не переносит пролитой крови. Она содрогается от содеянного насилия. Все эти кровавые жертвы его выработанных на Священном Писании убеждений заставляют его несчастную душу жестоко и непрестанно страдать. К тому же он человек хоть и односторонней, но широкой и основательной образованности, благодаря которой он обладает правильно организованной культурой мышления. Он размышляет, он размышляет постоянно, упорно, он размышляет по малейшему, как серьезному, так и пустяшному поводу. Его вдумчивому анализу подвергается каждый совершенный поступок, каждая пришедшая в голову мысль. Тем более анализируются темницы, опалы и казни, на которые он не скупится, потому что его окружают недоброжелатели, заговорщики, подчас отравители и прямые враги. Он подвергает темницам, опалам и казням, правда, не всех, но довольно многих разоблаченных заговорщиков и врагов, но поступает так по твердому, неразрушимому убеждению, и действует жестоко только тогда, когда виновность заговорщиков и врагов становится очевидной не только ему самому, а также суду думных бояр и высшего духовенства. А несчастная душа стонет и стонет: не ошибся ли он? Мысль ощупывает, мысль проверяет все обстоятельства до последней улики: справедливо ли он поступил, не придется ли держать неподкупный ответ перед господом, если им допущена, вольно или невольно, ошибка, если то, что ему представляется справедливым, в действительности явится несправедливостью на Страшном суде.
У него вечно совесть болит. Он вечно испытывает страх перед этим вот Страшным судом. Именно из страха перед этим вот Страшным судом Иоанн так склонен к дискуссиям, к диспутам и беседам разного рода. Именно их страха перед этим вот Страшным судом он всегда готов так многословно, так страстно оправдываться перед каждым, кто его обвинит. Ни один из русских великих князей и царей так много не говорил, так много не написал в свое оправдание, как царь и великий князь Иоанн. Его красноречие, рожденное тревогами чуткой. Постоянно встревоженной совести, до того поразительно, что современники по заслугам нарекают его «в словесной премудрости ритором».
Именно тревоги незасыпающей совести, впечатлительность и мягкость души делают его легко уязвимым, нередко беспомощным там, где истина не доказана, скрыта в тумане запутанных обстоятельств. От прямых, открытых, разоблаченных врагов он защищен, как броней, непоколебимой ясностью своих убеждений, однако любому доброжелателю, тем более служителю церкви нетрудно его пристыдить, нетрудно вызвать искреннее раскаяние, подвигнуть переложить гнев на милость даже тогда, когда над преступником занесен топор палача. Стоит Иоанну встать перед Господом, как он становится смиренным и робким, сознающим свои грехи грешником. Не успевает пролиться кровь его жертвы, приговоренной не только им, но и боярским судом, как он готов каяться и пойти напопятный. Встав перед Господом, он прощает и милует, подчас во вред Московскому царству и себе самому. Вовремя остановленный митрополитом, умеющим воздействовать на его тревожную совесть, он не раз и не два прекращает опалу, выпускает из темницы своих заклятых, вовсе не раскаявшихся врагов, которые, не успев вдохнуть целительный воздух свободы, вновь пускаются в козни и заговоры против него, подготавливая отрешенье от власти или отраву. Милосердие вовсе не чуждо ему. Жестокость по убеждению и милосердие по доброте, по мягкости сердца, по велению совести, вечно помнящей о Христе, идут рука об руку всю его жизнь и становятся неистощимым источником его непреходящих нравственных мук. Поверьте, неправедные судьи его: истинные палачи не раскаиваются и никого не щадят, как не раскаиваются и никого не щадят истинные предатели, оголтелые либералы и балалаечники, и нравственным мукам не доступны их пустые сердца.