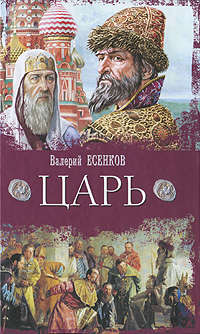Полная версия
Иоанн царь московский Грозный
«Если же ты вспоминаешь о том, что мы не твердо соблюдали обряды и устраивали игры, то ведь это тоже было из-за вашего коварно поведения, ибо вы исторгли меня из спокойной духовной жизни и по-фарисейски взвалили на меня тяжелое бремя, а сами ни одним пальцем не помогали его нести, поэтому я и не соблюдал церковных обрядов из-за забот царского правления, вами подорванного, частью – чтобы избежать ваших коварных замыслов. Устраивал же я игры, снисходя к человеческим слабостям, ибо вы много народа увлекли вслед коварным замыслам, устраивал для того, чтобы они нас, своих государей, признали, а не вас, изменников, подобно тому, как мать разрешает детям всяческие забавы, пока в младенческом возрасте, ибо когда они вырастут и превзойдут родителей умом, то откажутся от этих забав сами, или подобно тому как Бог разрешил евреям приносить жертвы – лишь бы Богу приносили, а не бесам. А чем они у вас привыкли забавляться?..»
Неудивительно, что весь этот длинный медлительный путь от Москвы до Пскова и от Пскова обратно в Москву он всё продолжает предаваться размышлениям, важнейшим и тяжким, от которых зависит и будущее его бессмертной души, и личная судьба, и судьба Московского великого княжества, таким размышлениям, которые в любом возрасте непосильны, нередко оканчиваются роковыми ошибками, способными определить ход истории, вдвойне непосильны для шестнадцатилетнего юноши, только ещё начинающего самостоятельно мыслить и самостоятельно жить.
В каком направлении, какими путями пробирается его пытливая, рано созревшая мысль? Трудно, в сущности, невозможно четко, с полной уверенностью ответить на этот важный вопрос, поскольку все источники упорно молчат. Можно только догадываться о конкретном содержании его размышлений, опираясь единственно на конечный их результат, исходя из решения, которое он внезапно для всех принимает зимой, в первые дни холодного, снежного января.
Вопреки распространенному предубеждению, которое рисует его законченным эгоистом, Иоанн вовсе не занят исключительно собственной безопасностью и личным благоустройством, за его чуть не детской беспечностью в играх и шалостях юности таится остро наблюдательный, глубоко мыслящий, государственный ум. Позднее он напишет беглому князю, вспоминая их молодость, проведенную вместе:
«Ты сам своими бесчестными очами видел, какое разорение было на Руси, когда в каждом городе были свои начальники и правители, и потому можешь понять, что это такое…»
Где ни появляется он во время этого длительного многодневного, многонедельного странствия по Русской земле, всюду он наталкивается на постыдные следствия боярских бесчинств. Наместники и волостели, из рук Шуйского или Бельского получающие, по родству, по участию в преступлениях или за мзду, кормления в посадах и волостях, не отличившись ни доблестью, ни усердием в службе, кормятся за счет населения во всю ширь, во всю сласть, позабывши не только совести, которая, как известно, гибка и покладиста и умеет растягиваться до едва уловимых пределов, позабывши и об утвержденных великими князьями пределов кормлений, и без того не только достаточных, но и обильных, достаточных до того, чтобы через годик-другой воротиться человеком более чем обеспеченным, даже богатым. Точно хищные звери бросаются подручные князья и бояре на подвластное население, вымогая где страхом, где грубой силой, забирая бессчетно сено и хлеб, живность и птицу, мед и воск, деньги и полотно, норовят ничего не оставить владельцу, препоручив разыскивать воров и разбойников своим тиунам, а тиуны, в свою очередь, с воров и разбойников, предоставляя им безнаказанность и безопасность, взимают за беззаконие мзду, то есть становятся соучастниками их преступлений. От воров и разбойников, от наместников и волостелей стоном стонет земля. Чем далее от надзора Москвы, тем более пустеют посады, а в Пскове и в окрестных селениях почти уже и нет никого, лежат в запустенье поля. Часто, слишком часто приходится Иоанну, проезжая разоренными деревнями, обнаруживать тут и там заросшие кустарниками и сорняками поля, вспоминать, укрываясь от веселящихся напропалую подручных князей и бояр, горчайшее наставленье пророка, камнем давящее сердце: «Горе дому, которым управляет женщина, горе городу, которым управляют многие…»
Наконец тринадцатого декабря 1546 года, когда ему ещё не исполнилось семнадцати лет, он призывает к себе в палату митрополита Макария и долго беседует с архипастырем наедине. О чем они говорят? Известно, что Иоанн объявляет митрополиту решение: он хочет и должен жениться. Решение важное, но не из тех, чтобы долго о нем толковать, тем более что по тогдашним понятиям порог совершеннолетия им уже пройден и в желании связать себя узами законного брака не может быть ничего чрезвычайного. Между тем летопись извещает, что митрополит, умудренный годами. Лет приблизительно шестидесяти пяти, выходит от великого князя с просветленным лицом. Таким образом, можно предположить, что не женитьба явилась главным предметом этой уединенной беседы, а дела государственные, самый принцип правления, который в эти недели и месяцы окончательно вызревает в его голове. Конечно, он повествует о разорении Московского великого княжества, следствие бесконтрольного, бесшабашного управления мятежных князей и бояр, то и дело сменявших друг друга. Конечно, он говорит о власти единой и сильной, которая необходима для укрепления и процветания русской земли, не надо забывать, со всех сторон окруженной хищным, хоть и понемногу слабеющим, но всё ещё очень опасным врагом. Однако какой должна быть эта единая, сильная власть? Видимо, он возражает митрополиту Макарию: замышленное им Святорусское государство станет церковью, церковь вберет в себя всё, всё поглотит, все стороны жизни. Собственно он, человек благочестивый, не может против этого возражать. Слабость этой идеи он видит в том, что церковь может действовать только проповедью, только словом о благочестии и братской любви. В этом её сила, да в этом и слабость её. Кто станет проповедовать православные истины? Попы и монахи большей частью неграмотны. Кто станет слушать проповеди о заповедях Христа, когда и кровавые казни не всегда останавливают подручных князей и бояр, крест целовавших на верность но сплошь и рядом нарушающих крестное целование?
Макарий, именно умудренный годами, не может с его доводами не согласиться, Шестнадцать лет он проводил преобразования в новгородских монастырях и сражался то с язычниками, то с сектой жидовствующих, а и там до победы ещё далеко. Он готов приступить к преобразованиям во всех московских монастырях, но и тут он всё ёщё только в начале пути. Ему приходится, как ни горько, признать: церковь ещё не готова властвовать одной силой слова, утихомиривать и смирять, тем более не готова отражать отовсюду наседающих внешних врагов, иноверцев и супостатов. Так как же им быть?
Мы не знаем, какой ответ дает Иоанн. Его ответ можно вывести из последующих событий, главным образом из отношений, которые складываются между ним и митрополитом Макарием. Видимо, он напоминает своему отцу и молельщику, как он его величает, мудрость апостола, любимую им: Богу – Богово, а Кесарю – Кесарево. Он – государь, он станет миловать и казнить, собирать полки и бить внешних врагов. Митрополит обновит и укрепит православную церковь, так, как достойно её великому назначенью, и возьмет на себя духовное воспитание русского племени, чтобы со временем каждый русский, от князя, боярина и служилого человека до землепашца, зверолова и рыбаря, стал жить исключительно по благотворным и праведным заповедям Христа. Действуя каждый на своей ниве, неустанно помогая друг другу, они воздвигнут новое, действительно святорусское царство. А пока? А пока каждый из них станет нести свой крест.
Митрополит поражен. Даже ему, человеку широко начитанному, самостоятельно мыслящему, рассуждения просветленного юноши представляются замечательными, выходящими из ряду вон. Впечатление Макария так глубоко и значительно, что он служит молебен в Успенском соборе, точно совершается нечто необычайное, а после молебна рассылает приглашение всем князьям и боярам, даже опальным, что и само по себе явление чрезвычайно, собраться в Кремле.
Спустя три дня собирается двор. Знатнейшие из сановников, князья и бояре, митрополит, игумены и архимандриты ожидают в волнении, тишком переговариваясь между собой. Наиболее любопытные и смышленые угадывают, что дело идет о государственной тайне, и ждут с нетерпением ждут в общем-то заурядного происшествия в жизни великого князя – известия о вступлении в брак. Если что и занимает растревоженные умы, так это выбор невесты, поскольку для каждого важно, будет ли это одна из иноземных принцесс, или ею окажется дочь кого-то из них, счастливца, прямого правителя при юном, таком невысказавшемся., невыразительном государе, так что судьба многих решительно переменится, кого-то поджидает прямо за кремлевским порогом неминуемая опала, может быть, топор палача, кого-то возвышение и успех, так не ими заведено, этот порядок не им и менять.
Появляется Иоанн, серьезный и бледный. Тотчас видать: наступает его решительный миг. Всё, что было, приходит к концу, начинается новая, ещё не бывалая жизнь. Вероятно, он страшно волнуется и по этой причине долго молчит. Затем обращается к митрополиту Макарию с приготовленной, хорошо обдуманной речью:
– Милостию Божию, милостию Пречистой Его Матери, молитвами и милостью великих чудотворцев Петра, Алексея, Ионы, Сергия и всех русских чудотворцев положил я на них упование, а у тебя, отца моего, благословяся, помыслил жениться.
В напряженной тишине Иоанн излагает причины, которые побуждают его, великого князя московского, отказаться искать невесту за пределами Русской земли:
– Сперва думал я жениться в иностранных государствах у какого-нибудь короля или царя, но потом я эту мысль отложил, не хочу жениться на чужих государствах, потому что после отца своего и матери остался мал. Если приведу себе жену из чужой земли и в нравах мы не сойдемся, то между нами дурное житье будет, не будет тогда нам супружество счастием.
И заключает торжественно, громко, чтобы слышали все:
– Хочу жениться в своем государстве, у кого Бог благословит, по твоему благословению.
Князья и бояре диву даются, будто бы даже плачут от радости, как летописец позднее сочтет возможным довести до сведения потомства, качают головами и переговариваются между собой та громко, чтобы слышал наше солнышко, молодой государь: всем им привалило великое счастье, что государь, вишь, так молод, а ни с кем не советуется в таком большом деле, как выбор жены. Князья и бояре, естественно, лицемерят, потому что именно независимого, самостоятельного великого князя страшатся пуще татар, литовцев и ляхов и очень скоро выкажут свое нежелание принять его единую, действительно сильную власть. Митрополит же Макарий с искренним умилением ответствует, уже приготовленный к новшествам тайной беседой:
– Сам Бог внушил тебе намерение столь вожделенное для твоих подданных! Благословляю тебя именем Отца небесного!
Смиренно склонив главу перед ним, Иоанн принимает благословение, а затем говорит, не то чтобы удивив, а вернее сказать, огорошив подручных князей и бояр:
– По твоему, отца моего митрополита, благословению и с вашего боярского совета хочу прежде женитьбы моей поискать прародительских чинов, как наши прародители, цари и великие князья, и сродник наш великий князь Владимир Всеволодович Мономах на царство, на великое княжение садились, и я также этот чин хочу исполнить и на царство, на великое княжение сесть.
Так кратко и сухо выражает эту выдающуюся мысль равнодушно взирающий летописец, однако сам Иоанн всегда на подобные темы рассуждает приподнято, не жалея ни красочных слов, ни подробностей о своих прародительских, кровных, именно не заёмных правах на царский престол, приблизительно так:
– Бог наш Троица, всегда бывший и ныне сущий, Отец и Сын и Святой Дух, не имеющий ни начала, ни конца, которым мы живем и движемся, которым цари царствуют и правители пишут правду. Богом нашим Иисусом Христом дана была единородного слова Божия победоносная непобедимая хоругвь – крест честной первому во благочестии царю Константину и всем православным царям и оберегателям православных. И после того как исполнилась воля Провидения и божественные слуги Божьего слова, как орлы, облетели всю вселенную, искра благочестия дошла и до Российского царства. По божьему изволению начало самодержавия истинно православного Российского царства – от великого царя Владимира, просветившего всю Русскую землю святым крещением, и от великого царя Владимира Мономаха, который получил от греков достойнейшую честь, и от храброго великого государя Александра Невского, одержавшего победу над безбожными немцами, и от достойного хвалы великого государя Димитрия, одержавшего за Доном великую победу над безбожными агарянами, вплоть до мстителя за несправедливости, деда нашего, великого князя Ивана, и до приобретателя исконных прародительских земель, блаженной памяти отца нашего великого государя Василия, и до нас, смиренных, скипетродержателей Российского царства. Мы же хвалим Бога за премногую милость к нам, что не допустил он деснице нашей обагриться единоплеменной кровью, ибо мы не отняли ни у кого царства, но по Божьему изволению и по благословению своих прародителей и родителей как родились на царстве, так и были воспитаны и выросли, и Божьим повелением воцарились, и взяли всё родительским благословением, а не похитили чужое…
Один митрополит Макарий выслушивает по тем временам необычные, даже несколько странные речи о правопреемстве московских великих князей бестрепетно и с полным сознанием всего значения и величия той звездной минуты в истории не только северо-восточной Руси, но и всего православного мира. После падения Константинополя, преданного европейским католическим миром на поток и разграбление басурман Оттоманской империи, центр православного христианства действительно перемещается в пределы Московского великого княжества, и Макарий готов сделать всё, что в его силах и власти, и даже более, чем в его силах и власти, чтобы Москва не только в согласии с недавно возникшим учением, но и на деле, по своему могуществу и значению в мировой, прежде всего в европейской политике заняла положение третьего Рима, отныне единственного, последнего, другому же не бывать.
Митрополит Макарий сам лично давно исподволь подготавливает это событие мирового значения, он не только с величайшим усердием приохочивает Иоанна к внимательному чтению житий и хронографов и летописаний разного рода. Он собирает и переиначивает, приноравливая к духовным нуждам Русской земли, как он их понимает, бесчисленные пророчества византийских и болгарских святых, относившиеся к византийским императорам и болгарским царям, и переносит эти пророчества на русских великих князей. Он использует бродившую по непокорным русским пространствам, злодейски захваченным скороспелой, прежде нигде не бывалой Литвой, доходившую до скова и Великого Новгорода легенду о том, что брат императора Августа переселился на берега Балтийского моря и что именно от этого августейшего брата пошли основатели Русского государства приснопамятные Рюрик, Синеус и Трувор, придает ей литературную форму и вписывает в житие святой Ольги, княжившей в Киеве после Олега и Игоря. Он же окончательно закрепляет возвышенную легенду о том, будто император Восточной Римской империи Константин Мономах, в действительности покойный на тот день и час, присылает своему внуку Владимиру Всеволодовичу, тоже по этой причине ставшему Мономахом, царский венец и будто этот царский венец, бармы и цепь возлагает на великого князя Владимира Всеволодовича эфесский митрополит. Он же утверждает в житийной литературе легенду о том, будто Владимир Мономах, умирая. Передает эти символы царской власти не кому иному, как Юрию Долгорукому, шестому сыну, первоначальнику златоглавой Москвы, передает именно с тем дальновидным прицелом, что эти знаки станут именно в Москве как зеницу ока хранить и передавать их от поколения к поколению, пока не воздвигнется истинный самодержец в Русской земле, достойный воспринять на себя эти вечные символы земного могущества.
Митрополит Макарий может гордиться: его старания по улучшению и возвышению русской истории даром не пропадают, его усердие увенчивается полным успехом, Москва провозглашается царством, а заодно с этим многозначительным, без преувеличения эпохальным событием возвышается русская православная церковь, и Макарий законно рассчитывает на то, что московский митрополит займет первое место при московском царе, подобно тому, как при императорах Восточной Римской империи первое место занимали византийские патриархи. Макарий, можно сказать, переживает сладчайшую минуту своего наивысшего торжества. Как тут не возрадоваться. Как слез умиления не пролить, когда архипастырю Русской земли грезятся столь заманчивые, столь светлые, истинно вековечные перспективы!
В самом деле, митрополит Макарий и все церковные иерархи, подручные князья и бояре присутствуют при величайшем событии, равного которому в русской истории ещё не бывало. В исстрадавшейся от раздоров и смут, всё ещё раздробленной, разорванной иноплеменными на куски, всё ещё большей частью томящейся под вражеским, иноверным владычеством Русской земле окончательно утверждается, закрепляется и внешним образом оформляется идея единодержавия, самим Богом указанная Русской земле, и эта идея окажется настолько плодотворной, настолько могущественной, что не протяжении четырехсот лет будет наполнять собой все умы, определять всё гражданское и государственное устройство и побуждать русских людей к великим деяниям, пока не приведет Русскую землю к величию, которого её уже никто, никакой внешний или внутренний супостат, не сможет лишить.
Все-таки кажется, что даже умный, начитанный митрополит не осознает всей меры величия, всей меры значения этой обновляющей, поражающей воображение, закладывающей основы идеи, обнаруживая в ней всего лишь одни выгоды для укрепления, возвышения и процветания церкви. Подручные князья и бояре, в сущности, не прозревают, не осознают ничего. Из поколения в поколение растущие без иного воспитания, кроме поста и молитвы, в развале предательства, жестокости, козней, казней, распрь и опал, привыкшие к внешнему раболепию, к интригам и тайным умыслам против всех и каждого из своих повелителей, постоянные, убежденные клятвопреступники, они и тут публично выражают полное согласие и полный восторг, однако радуются они только тому, чем беспрестанно заняты сами, то есть тому, что, вишь, государь ещё в таком младенчестве пребывает, а уже прародительских чинов поискал, поскольку московский князь и московский боярин одним только прародительским чином и силен, и приметен, и знатен, и пристроен на кормление в мирное время, а в военное время на полк. Далее своих чинов прародительских скудная мысль московского князя или боярина не идет, не может, не способна идти, у московского князя или боярина это весь умственный капитал, весь кругозор.
Что касается самого царского титула, то одни удивились, другие встречают новый титул с сомнением и недоверием. Они памятуют о том, что ещё дедушка новоявленного царя нередко для своего удовольствия употреблял этот незаконный, незаслуженный титул, именовался царем в тесном домашнем кругу и даже в сношениях с оскудевшими, обессиленными ливонскими рыцарями обозначался царем да кое с которыми из мелких германских правителей, однако далее этих предварительных проб не пошел, опасаясь резонно, что официально, в грамотах и приговорах, этого высочайшего титула за ним не признает ни один из больших государей кичливой, щепетильной, ко всему русскому враждебной Европы. Памятуют они и о том, что дедушка Иоанна на царство-то венчал внука Димитрия, да вскоре же подверг его зверской опале, тем самым уничтожив самый смысл царского титула для внука и сына и потомков его, с ним непосредственно связанную идею полнейшей, безоговорочной неприкосновенности, всемогущества и Божественной милости.
Подручные князья, подручные бояре, из тех, которые посмышленнее, поумней, поневоле задаются вопросами: из какой такой надобности едва достигнувший совершенных лет государь вздумал разыграть эту комедию, поскольку всё едино первейшие европейские короли царского титула за ним не признают ни за какие коврижки, а без признания первейших королей московские князья и бояре никакого титула не представляют себе. Эти поневоле страшатся: не вызовет ли детское представление осложнений с сопредельными государствами, и без всякого рода легкомысленных вызовов со всех сторон угрожающими малосильной Москве.
В целом же боярство и знать видят в странной идее венчаться на царство скорее молодое чудачество, неумную, скоропреходящую прихоть мальчишки, которая, не имея признания чужеземных монархов, очень скоро, через несколько месяцев, испарится, исчезнет сама собой, а не исчезнет, не испарится, так они сами эту дурь с него пособьют. Во всяком случае, в документах эпохи не слышится даже слабейшего намека на то, что в неожиданном венчании Иоанна на царство подручные князья и бояре почуяли какую-нибудь угрозу для исконных своих привилегий и прав, записанных кровью в удельные времена. Нисколько. Прославив юного государя, так неожиданно и так странно входящего в возраст, они преспокойно расходятся по своим теремам, разъезжаются по ближним и дальним вотчинам, кормлениям и уделам и, повинуясь изреченному повелению, с легким сердцем принимаются готовиться к торжествам возведения Иоанна на отеческий стол.
Подручных князей и бояр не настораживает и то, с какой стремительной быстротой действует многие годы молчавший, внезапно заговоривший, заявивший о себе Иоанн. Не успевает он объявить, что намерен жениться, как тут же по посадам и волостям рассылаются грамоты, начертанные сурово и твердо, явным образом под диктовку самого великого князя:
«Когда к вам эта наша грамота придет, и у которых будут из вас дочери девки, то вы бы с ними сейчас же ехали в город к нашим наместникам на смотр, а дочерей девок у себя ни под каким видом не таили б. Кто же из вас дочь девку утаит и к наместникам нашим не повезет, тому от меня быть в великой опале и казни. Грамоту пересылайте между собою сами, не задерживая ни часу…»
И в то время, когда, глубоко засунув за пазуху государеву грамоту, во все концы Московского, пока что не царства, а по-старинному великого княжества скачут лихие, под страхом смерти преданные гонцы на лучших быстрых взмыленных лошадях, за час промедления предчувствуя за спиной своей опалы и казни, как на Русской земле зовется всякое наказание, вовсе не обязательно смерть, в то время, когда наследственные князья да думные бояре да дети боярские, расселенные по уделам и волостям, кто с надеждой, кто кряхтя и вздыхая, но равно все повинуясь равно спеша, как бы не опоздать, не накликать на свою безвинную голову опалу и казнь, какую надумает государь, поскольку столетиями Русская земля не знает иных наказаний за любую провинность, как беспокойная служба по дальним украйнам, насильственное монашество, темница или топор палача, снаряжают краснощеких, мощногрудых, толстозадых девок-невест, в первопрестольной Москве, тоже волнуясь, тоже спеша, припоминают пятидесятилетней давности обряд венчания на царство невинно сгинувшего Димитрия, Иоанну сводного брата, церемонию восшествия на отеческий стол, заботясь только о том, чтобы церемония была как можно значительней, торжественней и пышней, и всем придворным чинам и прибывающим из посадов, волостей и уделов князьям и боярам из государевой кладовой выдают под честное слово возвратить в целости и сохранности тяжелые, шитые золотом, обложенные жемчугом, отороченные бесценными мехами белок, соболей и куниц парчовые ферязи и сафьянные красные сапоги с татарскими скошенными вперед каблуками и заостренными, кверху задранными носами. Накануне все до единого парятся в бане, и наступает торжественный, знаменательный день.
Поутру, шестнадцатого января 1547 года, Иоанн, с непокрытой, смиренно опущенной головой, в тяжелой долгополой одежде, всплошь покрытой вшитыми в ткань небольшими продолговатыми бляшками, коваными из чистого золота, из своих интимных покоев выходит в столовую палату, где в полном молчании его ожидают в заемных ферязях и высоченных шапках думные бояре. Благовещенский протопоп из его уже царственных рук принимает венец, бармы и крест и на блюде из чистого золота, в сопровождении князя Михайлы Глинского, казначеев и дьяков, переносит знаки величества в успенский собор. Вскоре сам Иоанн проходит за ним. Следом медленно и торжественно движутся с деревянными лицами его брат Юрий Васильевич, князья, бояре и двор.
Вступив в полном молчании в храм, Иоанн благоговейно прикладывается к животворящим иконам, С хоров высоко и благостно несется многая лета. Митрополит благословляет его. Служат молебен. После молебна расступаются ближние люди и отодвигаются к расписанным библейскими сюжетами стенам. Посреди храма на возвышении стоят два вызолоченные сверху донизу кресла, покрытые золототкаными наволоками, в ногах расстелены камки и бархаты.