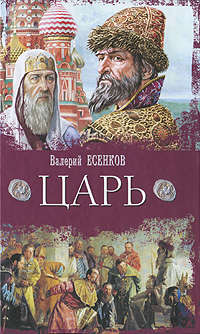Полная версия
Иоанн царь московский Грозный
Таким образом, протопопу Сильвестру нетрудно исторгнуть милосердие из души Иоанна и без воздетого с угрозой перста, без неподобающей ему личины пророка, тем более без лживых чудес и видений: милосердие в душе Иоанна и без того всегда рядом лежит с темницей, опалой и казнью. После столь необычной, неожиданной встречи с благовещенским протопопом у него стоят слезы в глазах, затем он заточает себя на несколько дней в уединенную келью, проводит эти несколько дней в строгом посте и постоянной молитве, затем призывает весь освященный собор, умиленно кается перед ним и в знак своего полного очищения от гнева, от соблазна жестокости и жажды суда причащается святых тайн.
Когда же после столь чистосердечного и глубокого покаяния Иоанн вновь появляется перед проведшими те же дни в страхе и трепете заговорщиками, всем бросается в глаза его обновление. От него ждут заслуженных кар – он милосерден и тих. Что его повелением Михаил Глинский и Турунтай-Пронской освобождаются из узилища, это ещё не может никого удивить, все-таки грех побега, который в те времена приравнивается к измене, прощается дяде, однако Петр Шуйский, заточивший его ближних людей, сын его злейшего врага князя Ивана, предводителя смут, сам довольно известный смутьян, сохраняет не только жизнь, но свободу и милость царя и великого князя, что поражает подручных князей и бояр приблизительно так же, как гром среди ясного неба. От наказания освобождаются все заговорщики, и такие закоренелые интриганы, как Скопин-Шуйский и Темкин, и такие только что испеченные, как Захарьин, и тем более Федор Бармин, его духовник. Всё забыто, всё прощено, к радости тех, кто посягал на жизнь царя и великого князя, подстрекая толпу громить Воробьево, к радости самого Иоанна. Пусть отныне в Русской земле царит мир, а не меч.
Однако было бы наивнейшим заблуждением предполагать, что Иоанн, вновь переживший угрозу жизни и трону, намеревается всё оставить по-прежнему, чтобы рискнуть ещё раз попасть в далеко не милосердные сети боярского заговора. Сколько бы он ни стоял перед Господом, сколько бы ни постился, сколько бы покаяний ни приносил, он не верит и никогда не поверит в смирение витязей удельных времен, которые не в состоянии позабыть о прошедшей, но незабвенной волюшке-воле, когда правил меч, а о мире никто из них и не думал. Ведь не только при нем, но и при отце и при дедах и прадедах витязи удельных времен всегда посягают на законную власть, данную не силой и куплей, но Богом, то есть, по его убеждению, витязи удельных времен всегда и в мыслях и в действиях грешат против Бога, впадают в один из самых тяжких грехов, которому прощения не может быть ни здесь, на земле, ни тем более на небесах.
Склонный к анализу, он не может не задуматься над пронесшимися по Москве безобразиями, не может не извлечь урока на будущее из только что отгремевшего мятежа, который стоил жизни не менее, если не более сотни невинных людей. Если впервые его государственный ум заявляет себя в тот момент, когда он принимает решение венчаться на царство и править самодержавно, подобно императорам Восточной и ещё прежней Римской империи, ещё больше: править в Московском царстве именем Бога, то в размышлениях о заговоре и мятеже его государственный ум пробуждается окончательно и отныне определяет всего предприятия, все повороты правления, в сущности, всю его жизнь. Анализ из ряда вон выходящих событий превращает Иоанна в политика, который в своих решениях исходит не из разного рода приятных фантазий залетевших на вершины власти Маниловых, а из реального соотношения общественных и политических сил.
Хорошо зная историю по доступным источникам, изучив русские летописи и хронографы Восточной римской империи, обладая приметливым, цепким умом, он не может не отметить новое, никогда не бывалое явление русской государственной жизни: до середины XVI столетия землепашцы, звероловы и рыбари, затерянные в дремучих лесах и болотах, крайне пассивны, даже более развитые, более активные посадские люди никогда не выдвигаются на первое место, никогда не участвуют в политических игрищах подручных князей и бояр, народ точно отсутствует, а если, впрочем, в немногих, прямо-таки считанных случаях, внезапно вступает в события, то неизменно действует самостоятельно, помимо других политических сил, неорганизованно, бессознательно и стихийно, и лишь во время последних московских волнений ещё в первый раз подручные князья и бояре, преследуя исключительно свои личные, грубо корыстные цели, подбивают посадских людей, поджигают едва тлеющие угли их недовольства и натравливают на тех, кого жаждут свалить, оттеснить, отшвырнуть от казенной кормушки.
Иоанну открывается истина: народ может служить удобным материалом в противоборстве различных политических сил, как узко корыстных, так и государственных интересов, народ можно сделать мощным орудием, направленным против злодеев, против всех тех, кто по тайному сговор намеревается вновь отстранить его от управления царством, отныне пришедшего в возраст царя и великого князя, вдвойне опасного для своеволия витязей удельных времен, кто посягает на жизнь его близких, возможно, и на жизнь его самого.
Он мыслит стремительно и так же стремительно действует. Ещё никто из подручных князей и бояр не успевает одуматься после внезапного и слезного покаяния перед освященным собором и ещё более внезапного прощения тем, кто злоумышлял против него, а уже распоряжения отданы, написаны грамоты, навешены восковые печати, и сотни быстроконных гонцов скачут во все углы Московского царства, храня как зеницу ока за пазухой повеление государя: без промедления изо всех городов снарядить и отправить в Москву выборных лиц всякого чина и состояния, то есть всех тех представителей местных властей, которые испокон веку не назначаются в города самим государем, но избираются посадскими людьми для управления свои особенными делами, не имеющими касательства до общих, собственно государевых дел.
Такого рода повеления исполняются так же стремительно, как их государь отдает. Представители городов один за другим прибывают в Москву. На воскресенье Иоанн назначает общий сбор на площади перед Кремлем, где назад тому месяц-другой бесновалась бессмысленная толпа, калеча, забивая, затаптывая каждого, на кого волей беспощадного случая падало подозрение в сочувствии Глинским.
В том же Успенском соборе, в котором святотатственно и злодейски растерзали князя Юрия Глинского, царь и великий князь стоит обедню и в своих величественных золоченых одеждах, в сопровождении черного и белого духовенства, несущего кресты и хоругви, думных бояр и дружины, выступает на лобное место, где ещё так недавно истекали кровью истерзанные трупы безвинных страдальцев, убиенных разгоряченной толпой.
Странное, неповторимое зрелище открывается перед ним. Всё пусто и мрачно вокруг, только чернеют сиротливые пепелища, и гнусным смрадом пожарища всё ещё веет от них, а на площади теснится празднично разодетый народ, покорный и смирный, крестится, кланяется в пояс, держа шапки в руках. Служат молебен, и вся площадь благоговейно опускается на колени. После молебна Иоанн оглядывает с возвышения простоволосые головы, бородатые лица, полные трепетного вниманья глаза и, обращаясь к митрополиту Макарию, произносит отчетливо, громко:
– Владыко святой! Знаю твою любовь к отечеству, твое усердие ко благу его. Будь же в благих намерениях моих поборником мне. Рано Бог лишил меня отца и матери, а вельможи не радели о мне, хотели быть самовластными, моим именем похитили саны и чести, богатели неправдою, теснили народ, и никто не противодействовал им. В жалком детстве моем я казался немым и глухим: не внимал стенанию бедных, и не было обличения в устах моих! Вы, вы делали, что хотели, злые крамольники, судии неправедные! Какой ответ дадите нам ныне? Сколько слез, сколько крови от вас пролилося? Я чист от сея крови! А вы ждите суда Небесного!
Прощенье прощеньем, однако он и не помышляет предать забвению те бесчисленные бесчинства, которыми отягощена покладистая совесть нераскаявшихся подручных князей и бояр. Он продолжает их обвинять, не храня отныне сумрачного молчания в своих всеми покинутых, тоскливо одиноких покоях, но публично, во всеуслышание, перед общим собранием избранных представителей посадов и волостей. Он истово кланяется этим обобранным, утесненным людям Русской земли на все стороны и с болью, с истинной страстью, как он умеет один, обращается к ним:
– Люди Божии, нам Богом дарованные! Молю вашу веру к Нему и вашу любовь ко мне: будьте великодушны! Нельзя исправить минувшего зла. Могу только впредь спасать вас от пагубных грабительств и преступлений. Забудьте, чего уже нет и не будет! Оставьте ненависть и вражду. Соединимся все любовью христианской. Отныне я вам защитник и судия!
Человек впечатлительный, страстный, Иоанн плачет искренними слезами, поскольку всегда готов умилиться доброму делу, в особенности тогда, когда откровенно, всей душой говорит перед Богом. Представители посадов и волостей, отродясь не слыхавшие ничего похожего на подобные речи, умиляются и рыдают вместе с Богом им данным царем и великим князем, ещё в первый раз во дни мира, а не войны обратившимся непосредственно к ним. Всем им представляется в этот момент, что все прощены, что одним этим словом царя и великого князя прекращаются все вражды и раздоры, что отныне и навсегда учреждается мир на многострадальной, истерзанной враждой и раздорами, обильно политой собственной кровью Русской земле. Перекрестившись, воспылав сердечной любовью к молодому царю и великому князю, разъезжаются представители посадов и волостей по домам и разносят благую весть по селениям: дождались, мол, явился чудный защитник, праведный судия на родимой земле. Можно не сомневаться, сам Иоанн тоже искренне верит, что с этого часа во вверенном ему самим Богом царстве воцарятся правда и мир, прервутся злокозненные интриги, пресекутся подлые заговоры, русский князь и боярин перестанут беспричинно проливать родную, русскую кровь, тем более перестанут злодейски грабить родного, русского человека на ниве его, на реке и в лесу. В сущности, он так ещё доверчив, наивен и прост, что ждать от него можно всего, в особенности жаркой, успокоительной веры в добро.
Однако полагается он вовсе не на смирение, не на раскаяние подручных князей и бояр, которых за годы своего жалкого детства успел изучить хорошо, ведь тогда, распоясавшись, они перед ними ничего не таили, опрометчиво не рассчитав, что он растет и когда-нибудь вырастет не кем-нибудь, а законным повелителем их. Единственно на Бога полагается он, затем на себя и на то, что его поддержит митрополит и, возможно. Этот исстрадавшийся, жаждущий правосудия и мира народ.
Он замышляет глубочайший переворот во всех отношениях власти, и едва ли этого не расслышали ни подручные князья и бояре, не представители посадов и волостей. До этого дня, как всем кажется, светлого, праздничного, ещё не бывалого, суд по селеньям и весям Русской земли правят наместники, волостели, игумены, которых ставят на властное место великий князь и митрополит, но которые, в сущности, остаются бесконтрольными, не подотчетными никому и не столько творят правый суд, сколько бесчинствуют и за вольную или невольную мзду продают правосудие, не стесняясь ни земными законами, ни заповедями Христа. Отныне Иоанн себя самого поставляет защитником и судьей и обещает спасти русскую землю от грабительств и притеснений, и все понимают, от чьих грабительств, от чьих притеснений берется царь и великий князь её защитить.
Разумеется, растрезвонить на всю Русскую землю об этом благостном перевороте в отношениях между властью и подданными чрезвычайно легко, очистился постом и молитвой, вдохновенье нашло, выхватил горящее слово прямо из сердца, жаждущего добра, и бросил, как искру в народ, ожидая огня благодарности и всепримирения, однако слово ещё не реальная жизнь, грандиозный замысел учредить справедливость и мир ещё предстоит воплотить в неподатливую на наше слово действительность, и нельзя не увидеть, что и сам он пока что не имеет ни малейшего, сколько-нибудь обдуманного плана на то, каким образом воплотить эту добродетельную, гуманную, но все-таки отвлеченную, в тиши отгороженной от мира палаты рожденную мысль.
Он начинает не с какого-то заранее приготовленного, обдуманного проекта, а с того, что напрашивается само собой, и поневоле начинает вовсе не миром, а открытым, угрожающим вызовом, недвусмысленно давая понять, кого и за что он предполагает судить. Он призывает самого неприметного, самого ничтожного из своих ближних людей, простого постельничего, Алексея Адашева, о котором, сколько не ищи, неизвестно, какого он роду-племени, давая своим предпочтеньем ясно понять, что отныне никакого дела не желает иметь с родовитым князьями и думными боярами, и в присутствии этих родовитых князей и думных бояр торжественно говорит, поручая принимать челобитья от всех обиженных, бедных и сирых, разоренных и неправосудимых:
– Алексей! Ты не знатен и не богат, но добродетелен. Ставлю тебя на место высокое не по твоему желанию, но в помощь душе моей, которая стремится к таким людям, да утолите её скорбь о несчастных, коих судьба мне вверена Богом! Не бойся ни сильных, ни славных, когда они, похитив честь, беззаконствуют. Да не обманут тебя и ложные слезы бедного, когда он в зависти клевещет на богатого. Всё рачительно испытывай и доноси мне истину, страшась единственно суда Божия.
Сомнений не остается, против кого направляется эта новая, счастливо провозглашенная мера: против сильных и славных, утративших честь, поправших обычай, поправших закон, позабывших о неминуемом Божьем суде. Велик ли окажется приток челобитий? Кто станет рассматривать поступившие жалобы в последней инстанции? Кто и по каким закона станет судить уличенных в беззаконии, в превышении власти, в выжимании мзды? На все эти вопросы можно твердо ответить, на основании речи, сказанной с лобного места, что последней инстанцией предполагается царь и великий князь и что уличенных в тех или иных должностных преступлениях именно он станет судить как верховный судья, а законом он избирает в первую голову совесть, свою ответственность перед Богом, и самое поручение принимать челобитья, данное безвестному человеку, означает только одно: объявлена внутренняя война, война против бесчинств и грабительств, которые творятся оставленными без присмотра князьями и боярами вот уже четырнадцать лет, со дня кончины великого князя Василия Ивановича, отца Иоанна, следовательно, война объявляется всем подручным князьям и боярам, среди которых едва ли обнаружится более десяти человек, не запятнавших себя в то смутное время боярских временщиков и дворцовых интриг, причем война объявляется хоть и не совсем открыто и прямо, но вполне однозначно, не понять смысла происходящего может разве что круглый дурак.
На какие силы рассчитывает он опереться в этой явно медлительной, затяжной, суровой, смертельно опасной войне? Единственно на себя самого, Он полагается на одно свое новое царское имя, которое представляется ему чуть не магическим, способным творить чудеса, поскольку, с одной стороны, оно получено им от Бога, а с другой стороны, достается от самого Мономаха и римского кесаря. Должно быть, и его самого охватывает таинственный трепет при мысли о непобедимом могуществе царского имени, так как же перед таким блистательным именем кому-нибудь устоять?
Вполне естественно, что этому чудному имени необходимо придать особенный блеск, и он тут же затевает достойное этому звонкому имени предприятие, способное изумить не столько своей неожиданностью, сколько своим непривычным, прямо восточным размахом. Кремлевские палаты и терема, отчасти поврежденные, отчасти напрочь уничтоженные огнем, он намеревается возродить в новом, ещё не виданном блеске. Несмотря на то, что его казна, вернее, то, что осталось от неё после боярского разграбления, погибла во время пожара, он уже видит богатые строения, богатые росписи на стенах приемных палат, общих трапезных и своих собственных интимных покоев. Он царь и великий князь и жить станет как царь и великий князь, иначе нельзя.
В знак особой признательности за моральную проповедь подготовка стен и разработка сюжетов для будущего великолепия, а также надзор за художественных дел мастерами поручается не кому-нибудь, а протопопу Сильвестру.
Глава пятнадцатая
Поход
Протопоп, разумеется, тотчас берется за дело, и тут каким-то загадочным образом обнаруживается одно на первый взгляд малоприметное обстоятельство. То ли протопоп, много лет прослуживший сначала в Великом Новгороде, а потом и в Москве и по этой причине хорошо знакомый с русским иконописным искусством, поскольку настенная живопись на Русской земле существует только в церквях, вдруг доносит царю и великому князю, что в наличии слишком мало искусников, достойных данного поручения, настоящих умельцев, чтобы в скором времени с подобающим тщанием выполнить повеление царя и великого князя, то ли случайно так сходятся неведомые дороги и тропы, только на глаза Иоанна попадается Шлитт, выходец из Саксонии, уже некоторое время с неопределенными целями кочующий по Русской земле, даже успевший довольно сносно осилить неподатливый для немца русский язык.
Иоанн, любознательный, всегда охочий до знаний, с большим вниманием выслушивает пышные, хвастливые россказни проходимца о чудесах и славных деяниях саксонской земли, с любопытством выспрашивает его о подробностях устройства и быта и вдруг предлагает воротиться в родные места посланником от московского царя и великого князя к германскому императору Карлу, с согласия императора набрать в немецкой земле и вывести на Москву ремесленников, художников, типографщиков, аптекарей и докторов, числом не менее ста, из чего следует, с какой исключительной пышностью он намеревается отделать новый кремлевский дворец и с каким размахом намеревается приняться за просвещение Русской земли.
Шлитт отвешивает европейский церемонный поклон, соглашается. Тут же составляется послание императору Карлу и вручается новоявленному посланнику. Шлитт без промедления пробирается в Аугсбург, где под председательством императора Карла проходит съезд германских князей, однако его визит к императору Карлу получает неожиданный, в высшей степени нежелательный поворот, не оставшийся без серьезных последствий на отношение Иоанна к высокомерной, неисправимо враждебной Европе.
А пока услужливый Шлитт обивает пороги императора, германских князей и церковных владык, Иоанн затевает ещё одно, вновь поворотное, на этот раз поистине гениальное дело. И вновь неожиданно, как истребительный огонь и кровавые злодеяния возбужденной толпы приводят его к публичному покаянию и к началу планомерного наступления на сеющих смуту подручных князей и бояр, так и теперь внезапное стечение обстоятельств напоминает ему о застарелой ране Русской земли.
Уже много лет то слабо тлеет, то жарко вспыхивает междоусобная распря между татарами, из тех позорных удельных времен, каким на Русской земле то кропотливыми, то славными деяниями московских великих князей на Русской земле уже положен конец. В Казани попеременно воцаряется то ставленник Москвы, то ставленник крымского хана, который, в свою очередь, состоит в вассальной зависимости от турецких султанов и в союзе, хоть и непрочном, с польским королем и великим князем Литвы. Всего года назад князь Дмитрий Бельский возвел на казанский престол татарина Шиг-Алея, держащего руку Москвы. Однако едва рать московского воеводы скрылась за поворотом реки, казанцы изменяют принятому ими московскому ставленнику. К Казани подступает Сафа-Гирей, крымский хан, Шиг-Алей, трусоватый и слабодушный, без боя бросает дарованную ему московским воеводой Казань, берет угоном первых попавшихся чужих лошадей и едва успевает доскакать невредимым до первых русских дозоров. Сафа-Гирей, как водится, учиняет в Казани резню, в которой погибают все приверженцы Шиг-Алея, спастись умудряются, истинно чудом, всего человек семьдесят убежденных сторонников прочного союза слабеющей Казани с сильной Москвой.
Совершив столь малопочтенные подвиги истребления, Сафа-Гирей, так широко разворачивается в своих добытых налетом владениях, что против него поднимаются горные черемисы, племя воинственное, впрочем, в одиночку повстанцы сладить с Сафа-Гиреем не могут и бьют челом на Москве, то есть умоляют московского царя и великого князя отрядить рать на Казань, вместе с челобитьем приносят добровольную клятву, что готовы идти на Казань совместно с московскими воеводами, а в доказательство серьезности своих обещаний приводят в Москву до сотни черемисских стрелков.
В сущности, в трехсотлетней борьбе непокорной Руси против ненавистных татар это едва приметный, не заслуживающий серьезного внимания эпизод, да и численность вспомогательного отряда, при всем благородстве и решимости воинов, едва ли не смехотворна. И всё-таки кровоточащая рана так наболела, что её растравляет вновь и вновь любая песчинка, самый малоприметный пустяк. Кровь и слезы русских людей бросаются в голову. На Москве громко перечисляют бесчисленные бесчинства, варварские зверства диких татар, неутомимых грабителей, живущих единственно грабежом и войной да молоком и мясом степных кобылиц. В очередной раз в бессильном гневе стискиваются кулаки, правда, не столько подручных князей и бояр, сколько торговых и посадских людей. В очередной раз припоминаются великие, однако чуть не ветхозаветные, чуть не бесплодные по нынешним временам незабываемые победы великого князя Димитрия, а следом за ними историческое стояние на Угре.
Слыша возбужденные, куда как красноречивые толки, сам, должно быть, участвуя в них, Иоанн не может лишний раз не припомнить глумливую, утробно-корыстную смуту собственных подручных князей и бояр, тоже грабителей, иной раз, как значится в летописях, почище татар: это они растеряли бесценные плоды великих побед, это их бессовестным попустительством вновь окрепли, подняли головы, обнаглели татары, вновь повадившиеся лить кровь на ослабевшей без крепкой власти Русской земле.
Гордость славными предками, начиная с Владимира Мономаха, в душе Иоанна болезненно, сверхмерно сильна. По малейшему поводу, при самой плевой оказии он гневно бросает в лицо своим подколодным хулителям и открытым врагам, что он владыка наследственный, коренной, от киевского Владимира Мономаха, через киевского Владимира Мономаха от императора Восточной Римской империи и кесарей первого Рима, что он наследник великих, победоносных отцов, что их наследие ему досталось по праву, оттого, впрочем, и гневается, что имеются довольно веские основания для сомнений в этих правах.
Человек умнейший, начитанный, характер самовластный, честолюбивый, он не может не понимать, тем более при некоторой сомнительности наследственных прав, что великие подвиги да славные дела управления не только с гордостью и благодарно наследуют, но и в меру сил продолжают и множат, чтобы, в свою очередь, достойное наследие оставить потомкам и заслужить почетную память в веках. На нем, на царе, на государе великом, на единственном ныне правопреемнике Рима, как первого, так и второго, лежит громадная ответственность перед предками, перед потомками, а пуще всего перед Богом, от которого благоговейно и трепетно принял он власть во время венчания. Оттого он в душе своей ощущает исполинские силы, чтобы достойно и честно исполнить свой долг. К тому же он должен показать въяве подручным князьям и боярам, заговорщикам и смутьянам, кто с этих пор истинный государь на Русской земле.
Ни сто, ни тысяча воинов-черемис Русской земле не подмога, тут надобны тысячи воинов, однако уже и то хорошо, что в этом году горные черемисы не нанесут удар в спину, как приключалось с ними не раз, союзники, какие ни есть, а всегда хороши. К тому же Иоанн предпринимает внезапный, зимний поход, когда татарские кони тощают без корма, когда самонадеянные татары русских не ждут, и если застать из врасплох, если ударить в одном месте всей русской силой, татарам не устоять, Татры в панике побегут, как побежали татары Мамая, или молча без сечи уйдут, почуя неодолимую русскую силу, как ушли татары хана Ахмата, или сдадутся на милость нового победителя, чего никогда прежде не приключалось на Русской земле.
Именно не оборонительное частное военное предприятие, каких были сотни и тысячи, с тех горьких времен, когда Русская земля вошла в соприкосновение с воинственной степью, не наступательный набег ради устрашения, удали и грабежа, каких тоже были сотни и тысячи со дня славного разгрома бежавшего с поля боя Мамая, готовится им. Иоанн готовит большой, серьезный поход, решающее нашествие, вроде Батыева, военное предприятие на уничтожение, последнюю, завершающую схватку с татарами. Он намеревается взять Казань приступом или после долгой осады, но именно взять, взять непременно, разорить это подлое гнездо степных разбойников навсегда, чтобы с этой стороны навсегда утвердить безопасность и мир, а вместе с ними свободную, прибыльную торговлю московских городов с рабами, персами, с Китаем и Индией через земли иных, пока ещё ему не известных племен. Именно с этой поистине исторической целью иноземными мастерами поправляются, приводятся в порядок старые и отливаются новые пушки, которые обыкновенно не берутся в короткий набег, где полагаются единственно на стремительность бега сытых коней, верность меча и меткость стрелы, а ещё больше на стремительность отступления. Сотни царских гонцов скачут по уже размокающим осенним дорогам в разные стороны царской волей, по царскому слову поднимать всю Московскую Русь на татар.